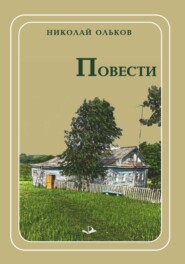По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Чистая вода
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Еще из того времени помнился суп с бараниной, дома такой не варили, а тут – картошка, лук и куски свежего мяса.
Изба была срублена добрая, мох в пазах слежался, был толщиной в палец, изнутри избы аккуратно срезан, а бревна отполированы до блеска. Были широкие нары и полати. Небольшая русская печь, сбитая дедом Максимом из сырой глины, в ненастье и непогодь грела, тут же варили в ведерных чугунках еду для всех работников, пекли на горячем поду плоские ржаные булки. Дед Максим говорил, что работнику надо ржаной хлеб потреблять, это на гулянке можно ситным баловаться. Чуть в стороне баня по-черному, просторная, чистая, потому что сестры после каждой топки промывали стены с песком. Тут же навес для инвентаря, ясли для лошадей. В стороне колодец глубокий и вода чуть солоноватая. Отец посыкался перекопать колодец в другом месте, дед отсоветовал:
– Соль в водице, сынок, никому не повредит. Если хочешь знать, нас в армии специально солью кормили: ложку с утра сглотил, и весь день сухой, и тяги к питью нет. Соль и скотине пользительна, гляди, как лошадь пьет, бадью без отрыва. И корове надо соль давать, говорил один грамотный, что есть такая соль каменная, корова лижет, и молока больше. Не тронь, пусть стоит.
…Деревню на пути ты обошел стороной: чем меньше видят, тем спокойней. К полудню утомился, отвязал лыжи, утрамбовал место вокруг еще довоенного пенька. Хлеб и луковица не замерзли, пожевал, иногда прихватывая морозный снег. Сидеть долго не рискнул, по фронту знал: если усталый присел, можешь и не встать. Нацепил лыжи, вышел на санный след. В голове все крутилось: о чем говорить с Филькой, о чем просить? Чтоб мать пожалел? Чтобы семью не позорил? А это Фильке надо? Ведь он три года уже покойником живет.
К Бугровскому кордону вышел к вечеру. Зло, остервенело, с хрипом залаяли собаки, мужик в меховой безрукавке – видно, со скотиной управлялся – вышел из теплой стайки.
– Кого нелегкая на ночь глядя? – сурово спросил.
Ты тогда подошел поближе и через высокое прясло сказал почти шепотом:
– К брательнику я, к Фильке, а сам буду Лаврентий, Акимушкины мы.
Мужик смутился, но ненадолго:
– Брательник твой ко мне в гости уезжал или как? У меня таковых друзьев нету, так что, мил человек, иди со Христом, а то кобелей спущу.
Ты тогда тихо сказал от усталости или от безысходности:
– Филька у тебя с начала войны живет, нам цыган сказал, который тебе сахар привозил.
Мужик взревел:
– Если не уйдешь, спущу собак, а и уйдешь, дак забудь, что я есть. А цыгана твоего к утру жизни решу, чтоб без свидетелей. Убирайся!
И тут ты услышал знакомый голос, родной, можно сказать:
– Обожди, Кузьмич, это в самом деле брат мой, но он безвредный, голову ему нарушили фашисты, инвалид, хоть чего пусть плетет – веры ему не будет. Это я от надежных людей знаю.
Хозяин выматерился:
– Смотри, Филька, ежели что – я тебя не знаю, прибился, работал, лишнего не позволял. Я вывернусь, про себя подумай.
Филипп отошел в сторону и открыл воротца:
– Со свиданьицем, брательник. Проходи вон в ту избушку, мы скоро управимся, поговорим.
Ты чиркнул спичку и снял стекло с маленькой лампы, зажег фитиль. В избушке тепло, но жильем не пахнет, все пропитано табаком и еще чем-то, чему ты не знал названия. Небеленые стены и грязный пол наводили тоску, но ты устал, присел на братов топчан и уснул. Проснулся от стука двери и ворвавшегося холодного воздуха.
Филька сильно исхудал, до войны был даже выше и в плечах шире, лицо сбежалось, сморщилось, глаза сухие, острые, злые. Они и до того добрыми не были, дед Максим все удивлялся, в кого это Филиппка такой уродился. Молча поставил на плиту чайник и подкинул пару полешек дров, сел на табуретку супротив топчана.
– Ищут меня дома? – спросил безразлично.
Ты встал с топчана:
– При мне не бывали, но мать говорит, что чуть не каждый месяц.
– Мать-то как?
– Плохо. Все ревет, да и жрать нечего. Фрол и Кузьма все служат, девки в замуж повыскакивали. Вдвоем мы. А ты как? – зачем спрашивал, и сам себе не объяснил бы. Чего тут неясного? Худо Фильке, и без слов понятно.
Филька оторвал клочок газеты, засыпал круто рубленым самосадом, от печного угля прикурил, вонючий дым заполнил пространство.
– Если бы, Лаврик, мне до смерти так жить, то лучшего и не надо. Хозяин кормит вволю, бабу привозит, банька есть. Тоскливо, конечно, но говорю, что жить можно. Но эти сволочи и тут роют, с осени трижды приезжали, едва успеваю спрятаться.
Ты удивился:
– А куда тут скрыться, братка, ведь кругом лес, все следы пишет.
Филя засмеялся, выпустил густой дым, ответил:
– Что лес? Вон, в подпол сунусь, они дверь откроют, нюхнут и обратно. Значит, нет у них никакой наводки, так, в порядке надзора. Ты думаешь, я один такой? Да тысячи!
Ты не подумал и сказал невпопад:
– В деревне ты один, да и не слышно в округе, все больше поубивали да покалечили.
– Вот! – Филька вскочил. – Вот и ответ: покалечили да поугробили. Я только в одну атаку сбегал, и мне на всю жизнь хватит. На нас танки с автоматчиками, а у меня винтовка и семь патронов. Упал в яму от снаряда, а он, сука, комиссаришко, меня наганом оттуда – мол, вперед, за родину, за Сталина. Я его и шлепнул. А когда все успокоилось, подался в сторону, думаю, может, повезет, на немцев нарвусь. Ни хрена подобного, кругом комиссары. Я, Лавруша, полгода до дома добирался, а сюда подался, потому что мы с Кузьмичом до войны вместе баловались, магазины брали, кассиров глупых.
– Убивали, что ли?
Филя опять засмеялся, вроде как успокоил:
– Нет, слезы вытирали и домой отводили. Дурной ты, что ли? Я только для сельсовета справку добывал, что на производстве вкалываю.
Тебе стало жутко, перевел разговор на другое:
– Робишь тут чего?
Брат сразу согласился на перемену:
– Все делаю, иногда со злости ухожу в лес, дрова рублю. Пилу себе изготовил с одной ручкой, типа лучковой. А так – по двору, у хозяина скота полно, спать некогда.
Ты все искал, как сказать о главном, для чего и пришел, помялся, спросил осторожно:
– А думы? Думы у тебя бывают?
Филя вскинул голову:
– Об чем? Об матери иногда вспомню, о доме. А так – какие думы?
Ты обрадовался, что брату интересно об этом говорить, поспешил с пояснением:
– Жить-то как, Филя? Дале-то у тебя ничего же не видать. Так и будешь?
Филя вскочил, схватил тебя под горлом за широкую матерью связанную кофту: