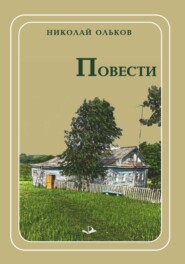По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Чистая вода
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– А ты его убеждал?
– Пробовал, только я слаб, грамотешки мало, все понимаю, а высловить не умею.
– Слушай, Акимушкин, как тебя по имени-отчеству?
– Лаврентий Павлович.
Офицер аж вздрогнул:
– Ладно, оставим имя-отчество, не будем поминать всуе. Вот ты говоришь, Акимушкин, что не хватает у тебя грамоты и прочее. А если нам попросить грамотного человека, чтобы тот с ним, с Филиппом, побеседовал по душам, попытался убедить? Как ты думаешь, поможет это брата спасти?
Тут ты некстати вспомнил, как вы с Филькой неводили на Аркановом озере: ты по берегу шел, крыло вел, а Филька здоровый, сильный, поводок на себя намотнул – и вплавь вдоль берега, сколько веревка позволяла. Выплыл, стали тянуть, полную мотню приперли рыбы – и караси, и щуки, и налимы. Налимов ты хотел выкинуть, дед Максим говорил, что они утопленников едят, а Филька смеялся: на Аркановом сто лет никто не тонул, чистый налим, бери в корзину. Приехали домой, мать весь вечер чистила рыбу да ворчала на сыновей, что задали работы. Она умела похвалить вот так, как будто ворчит…
Офицер тихонько потрепал тебя по щеке:
– Акимушкин, очнись, ты меня слышишь? Если хорошего, доброго человека направить к брату, согласится он выйти к людям и прощения попросить? Люди-то простят, правда, Акимушкин?
Ты подумал и возразил:
– Многие простят, а многие и нет, даже на меня косятся, у кого погибли мужики на войне, надо думать, и ему выскажут.
Офицер согласился:
– Конечно, выскажут, так это и ему облегчение, высказали – значит, простили, ведь так?
Тут ты согласился:
– Должно быть, так.
Офицер осторожно предложил, даже за руку тебя взял:
– Можешь ты такого человека свести с братом? Только чтобы никто не знал. Можешь?
Ты подумал, что такой человек, грамотный, умный, может Филю уговорить. Кивнул:
– Сведу, ради такого дела сведу, даже сам могу подсобить, брат меня жалеет из-за раны.
Офицер оживился, нервно ходил по комнате:
– Рана твоя пустяк, верно, доктор? Пенсию будешь получать в том же размере, может, даже увеличим, правда, доктор?
Доктор недоуменно посмотрел на него:
– Товарищ капитан, что такое вы говорите? Человек болен!
Офицер повернулся к врачу и резко ткнулся лицом в его ухо:
– Заткнись, клизма ходячая, не суйся не в свое дело, поддакивай, когда просят! – и к тебе: – Может, тебе не стоит туда ехать, ведь далеко, да и холода?
Ты уже осмелел, раздухарился:
– Не озноблюсь, тут рядом, я на лыжах лесами за день дошел.
Офицер наклонился к самому лицу:
– Дороги разве нет?
Ты улыбнулся: смешной вопрос задает капитан.
– На Бугровской-то кордон? Какая там дорога, так, киргизы иногда проезжают, но след есть.
Офицер встал, вытер пот с лица.
– Ладно, Акимушкин, поезжай домой, мы без тебя управимся.
Ты тоже встал, надел на голову вязаную шапочку:
– Да, товарищ капитан, там лесник злой, глядите, как бы не отказался пропустить. Он шибко людей чужих не любит. Одного цыгана даже зарезал за то, что он Филькино логово высказал полюбовнице своей, а та нам передала. Я-то откуль бы знал?
Офицер уже надел шинель, козырнул медичке, повернулся к тебе безразличным и брезгливым лицом:
– Езжай домой, Акимушкин, про наш разговор никому ни слова, и вы, товарищи очевидцы, – тоже.
Широко пошел к дверям, любуясь распахнутыми полами шерстяной чистенькой шинели и глянцевыми сапогами.
Расшевелил Федька еще одну болячку в душе, заставил поговорить про Фросю, ты уже стал примечать, что если об чем-то не думать, то и душа не болит. Вроде проклюнется в памяти росточек, а ты его словно не заметил и мимо прошел. Смотришь – и не вяжется больше, забылось. Нельзя сказать, что он про Фросю не помнил. Письма она ему писала длинные, как пакеты, особисты даже приходили в расположение посмотреть на такого мужика, которому баба такие письма шлет. Тебе и читать их прилюдно было неловко, уходил в укромное место, потому что Фрося с тоски, видно, описывала их ночи на сеновале в летнее время, потом как в шалаше жили на покосе, не уходили в избушку, как специально зимой она прикидывалась простудившейся и выпрашивалась ночевать на печку, а на твое непонимание только жарко шепнула в ухо:
– Молчи, муженек, потом поймешь, потому что печка не скрипит.
А ведь она сама тебя выбрала, на сенопокосе перед самой войной все старалась поближе, нет-нет, да и скажет:
– Лавруша, а ты в любовь веришь? Вот что девка без парня сохнет и совсем на нет изводится?
Ты улыбался:
– Не знаю, вроде, не видать таких.
– А ты присмотрись, Лавруша, раскрой глаза. Али я тебе не люба совсем? Ну скажи, почему за мной парни гужом ходят, а ты даже не смотришь?
Ты опять улыбался:
– Как не смотрю? Смотрю, но девка ты боевая, а я смиренный, мне тихую надо и послушную.
Вот после таких речей и обняла она тебя за последним стогом на Зыбунах, прижала к себе так, что не вздохнуть:
– Обними меня, Лаврик, прижми, никто нас не увидит, не бойся. А я послушная буду. Видишь, сама разделась, и тебя раздену, потому что люблю тихоню. Ой, Лавруша, все, не могу, лови меня.
В тот вечер с луга вы пешком шли, потому что все уже закончили работу и уехали. После ужина с отцом вышли на крыльцо, отец заметил перемену, спросил: