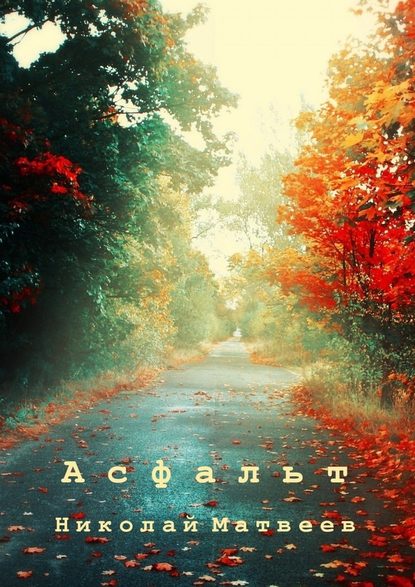По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Асфальт
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Асфальт
Николай Матвеев
Эта книга о том, что у нас в душе, о том, что каждый имеет право на внутренний мир, неважно, что там, внутри, неважно, просто ты человек или может быть – Бог.И я твёрдо верю, что однажды, оглянувшись, мы обязательно увидим за своей спиной цветущие сады, а не утоптанный асфальт.
Асфальт
Николай Матвеев
© Николай Матвеев, 2019
ISBN 978-5-4493-0028-7
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Колбаса
Екатерина Васильевна Клёст шла по парку, с трудом передвигая уставшие, измученные артритом ноги. Ботинки, на удивление ещё крепкие, почти без признаков изношенности, лишь с небольшими потёртостями и царапинами, шаркали по песчаной дорожке, стирая каблуки, единственную пострадавшую за столько лет часть. Ботинки эти были куплены по случаю, ещё в девяносто восьмом, когда вдруг деньги, одним взмахом ресниц превратились в цветные бумажки, а на сумму, на которую ещё вчера можно было купить автомобиль, сегодня можно было купить буханку хлеба, ну и коробок спичек, которые, на всякий случай, вместе с солью, толокном и перловкой, люди скупали коробками и мешками, выигрывая кровопролитные сражения в борьбе за стратегический продукт. Тогда Екатерина Васильевна, смотревшая утром новости, растерянная и взволнованная непониманием всего происходящего, вышла на улицу и побрела куда-то по улице Правды. Ноги несли её, а слёзы, скопившись в уголочках глаз, срывались и катились по щекам, как сок из раненой берёзовой коры. Сжимая в стареньких ладонях кошелёк, она зашла в случайный магазин, в котором не было народа, а продавщицы тянули жребий, кому бежать за ячменём вперёд, а кто отправится позднее, они ругали Софико, хозяйку магазина, которая ещё вчера успела купить за шестьдесят тысяч рублей автомобиль Лада, последней модели, а им сегодня не было разрешено пойти на рынок и купить крупы, консервов и приправ, на случай если разразится вдруг, гражданская война или страна провалится в жестокий хаос. Они недобро посмотрели на пришедшую, наверное, первую, за сегодня посетительницу и на минуту отложили жребий. Екатерина Васильевна бессмысленно шагала вдоль прилавков, когда её затуманенный взгляд упал на эти ботинки, коричневые, с небольшой металлической пряжкой, немного топорные, но такие родные, по запутанному советскому прошлому. Она взяла их в руки бережно, как только что родившегося малыша, она погладила мысок, погладила каблук, прошлась по пряжке пальцами и вспомнила, как впервые пошла на танцы, в военном сорок третьем. Тогда, в эвакуации, в уральском, тихом городке, она слыла красавицей, загадочной девчонкой из хвалёного Ленинграда, города, который чуть не в одиночку побеждает Гитлера. Её белёсые, волнистые волосы всегда искрились, в голубых глазах всегда соседствовали искры и какая-то печаль, свойственная, наверное, каждому, кто родился в хлябях детища Петра. Натруженные руки, и в меру мускулистые ножки, натренированные на заводе по производству снарядов, сводили с ума всех пацанов, кто ещё не ушёл на войну и повергали в мертвецкую тоску тех, кто уже с неё вернулся, без ноги, руки или с иным ранением, не позволявшим бить немецкого захватчика на передовой, да и в тылу с которых было мало пользы, разве что давать указания, пить спирт и рассказывать о битвах. Ещё Екатерина широко и сногсшибательно улыбалась, а когда смеялась, то все вокруг молчали, потому что, во время войны так никто не смеялся. Тогда, в конце января, в честь прорыва блокады Ленинграда, специально для поддержки морального духа эвакуированных ленинградцев, работавших на заводах, где производили танки и снаряды, устроили танцевальный вечер, на который приехал военный оркестр, солдаты играли почти четыре часа, а потом эшелоном, отправились в Ростов, тот должен был вот-вот быть освобождён от оккупантов с фашистской символикой и с истинной германской дисциплинированностью. Катя танцевала тогда в новых ботиночках, которые выменяла у заезжих цыган, позже избитых чуть не до смерти, местными жителями, за кражу курицы и поросёнка, на старые карманные часы её деда, Давыда Никифоровича Лобова, сына помещика, род которых терялся где-то при Иване Грозном. Давыд Никифорович купил в Петербурге доходный дом, потом второй, и жил в покое и достатке. А вот сын его, Василий Давыдович Лобов, связался с революционерами, таскал домой листовки и какие-то запрещённые газеты, а после того, как его задержали жандармы, да отпустили через пару дней, он пришёл домой, собрал в котомку вещи и буханку хлеба, простился с отцом, передавшим ему со слезами эти часы, и отбыл в неизвестном направлении, как позже оказалось, в Выборг. Там он принимал активное участие в челночных поездках будущего вождя мировой революции.
Когда Екатерина танцевала, все мужики и мальчики смотрели на неё открывши рты, кто с грустью, кто с тоской, кто с непонятным чувством где-то под лопатками, в суровой безысходности иные. Смотрел на Катю, как она перебирает ножками, как стучат по доскам пола её новенькие каблучки, как машет руками, как вскидывает голову и поводит плечом, простой уральский парень по имени Демьян. Во взгляде его вожделения цель, сжаты его кулаки, желваки мечутся от напряжения. Он смотрит безотрывно на девушку, которая уже вошла в стадию, когда краснеют от одних нескромных взглядов, когда ночное томление не позволяет просто заснуть, когда хочется сказать «Да!», но говоришь всё время «Нет!», лишь потому, что не понимаешь что к чему и почему. Демьян единственный пригласил её на танец, когда оркестр заиграл что-то протяжное и тоскливое, жаль, она не помнит, что же то была за песня. Они кружились в медленном танце, грациозная Екатерина Лобова и угловатый Демьян Быков, и трепетали они в объятиях друг друга, пока лилась рекою песня. А после, он её провожал, до дома, до калитки барака, в мороз, в суровый, в уральский. И на прощание он наклонился к Кате и нежно, не по-уральски вовсе, поцеловал её в нетронутые ранее мужскими ласками губки. Тогда девушке показалось, что жизнь ещё не началась, а мир – всего лишь выдумка, которой нет. Она пришла в себя спустя каких-то пару секунд, ахнула и побежала к двери, а за единственным освещённом окошком тихонько задёрнулась шторка. Демьян стоял как вкопанный, пока не погас свет в окне, а потом ещё, до тех пор, пока не замёрзли в лёд ноги. Потом он ушёл. Два дня назад ему исполнилось восемнадцать, накануне он записался добровольцем на фронт, назавтра он, махнув на прощание матери, пожав руку деду, утерев бабке слезу, ушёл на станцию, в тот самый эшелон, где ехал давешний оркестр, да вместе с ним ещё отряд новобранцев. Война стремительно обретала юное лицо. Демьян вернулся с войны раньше срока всего-то на месяц, восьмого апреля во двор его матери, Анастасии Быковой, единственной оставшейся в живых, въехала повозка, привезшая гроб.
– Дама, вы что замерли, как статуя, брать будете? – Зло спросила продавщица, – Последняя пара, как раз ваш размер, Италия, сносу не будет, завтра будут раза в два дороже.
Екатерина Васильевна потерянно посмотрела на невежливую женщину, безмолвно протянула ей деньги. Продавщица подошла, взяла деньги, пересчитала, замешкалась, решая вернуть сдачу, или сделать вид, что денег ровно столько, сколько нужно, но всё же отдала излишки, вложив их Екатерине Васильевне прямо в ладони, сходила на склад и принесла в коробке второй ботинок. Другая, аккуратно завернула покупку, перевязала бечёвкой и положила в пакет, который и передала Екатерине Васильевне в руки. Потом её проводили, закрыли дверь на замок и побежали на рынок, за продуктами, потому что в магазинах необходимого товара уже не было, или всё скупили, или, что более вероятно, спрятали до момента, когда всё успокоится и станет более-менее ясно по какой цене и что продавать.
Коробку Екатерина Васильевна вскрыла только вечером, когда вернулась домой. Она вспомнила, что даже не померила обувь, тут же одела правый, а затем и левый ботиночек, они пришлись чётко по ноге, чуть поджимая на костяшках, но это ничего, разносятся. На дне коробки, Екатерина Васильевна обнаружила три пары носков, наверное, злой продавщице стало стыдно и она решила так загладить свою вину.
В тысяча девятьсот сорок пятом году, десятого мая, в дом по Лиговскому проспекту, в единственную полностью отремонтированную квартиру, пришло письмо, в котором Екатерине сообщили, что Демьян погиб. И тогда ей показалось, что жизнь закончилась, а мир кто-то выдумал. Тогда она поняла, что война не закончилась, как сообщали вчера, её война продолжалась ещё несколько лет.
Воздух был свеж и лёгок, утренний воздух чрезвычайно бодрит, особенно если вокруг тихо и светло. Екатерина Васильевна смотрела на свисающие берёзовые ветви, вдыхала глубже утренний воздух и слышала, как под ногами хрустят улитки, в этом году они заполонили почти все листья лопухов, сожрали крапиву и постоянно ползали по дорогам. Их было не жаль и, Екатерина Васильевна не переживала по поводу внезапной кончины этих странных брюхоногих, а хруст их панцирей напоминал хруст гальки на пляже Севастополя, где она отдыхала в шестьдесят шестом, по путёвке, добытой чуть не в боях с бухгалтером Ирэной Арнайте, большеносой блондинкой, похожей на огромную шпроту, коих в избытке водилось на её исторической родине, которой цифры заменили всю личную жизнь. Бои, правда, проходили без непосредственного участия самой Екатерины Васильевны, однако она записала эту победу себе в актив. Тогда по распределению, их магазин получил три путёвки в Севастополь, одну отдали директору, Владлену Романовичу Козину, естественно. Вторую на общем собрании, было решено отдать Валентине Бездыханной, только что выписанной из больницы с нервным срывом после развода, чтобы в курортном хаосе забыть неверного мужа, что она и сделала в объятьях Владлена Романовича, прямо в первую же ночь, под мириадами звёзд в севастопольском небе. Третью путёвку распределяли через профком, именно там и случилась заминка, себе её они распределить не могли, ибо при проверке слетели бы головы немедленно, Анастасия Викторовна – главбух, отказалась, сославшись на старость, а значит, конкуренция оставалась только между заведующими отделов и Ирэной, которую все, в том числе и Владлен Романович, хотели сплавить подальше, хотя бы на месяц. И вроде бы заветная путёвка уже готова была уйти в длинные тонкие руки Ирэны, когда кто-то вспомнил, что отдел Екатерины Васильевны единственный выполнил план во все месяцы текущего года, а литовка, ещё ни разу не выписывала премии Екатерине Васильевне. Так что совет профкома постановил, что путёвка достанется Екатерине Васильевне в качестве премии и быстро вписали её имя и фамилию, дальше ситуацию исправить было нельзя. Литовка встала и, высоко задрав свой огромный нос, хмыкнула и громко топая, вышла из актового зала. Люди стали расходиться, кто-то поздравлял Екатерину Васильевну, она в ответ лишь улыбалась, чувствуя неловкость и вину за то, что ей досталась эта злосчастная путёвка. Вечером, она предъявила её мужу, Глебу Валериановичу Сизых, тот поморщился, тяжело вздохнул и уставился в книгу. Через месяц Екатерина Васильевна уехала в Севастополь, где поселилась в кемпинге «Салют», ей выделили маленький двухместный домик, под номером 174, похожий то ли на будку, то ли на улей, с двумя деревянными койками и столом между ними. Ей понравилось, жёстко, зато в одиночестве и тишине. До моря было метров триста, в первый же вечер по приезду, Екатерина Васильевна надела закрытый купальник и пошла на берег. Народу уже было мало, солнце катилось к закату, где-то на горизонте виднелся дым от парохода, море почти не волновалось, а на небе появилась первая звезда. Екатерина Васильевна легла на гальку и услышала хруст и скрип, показавшиеся самыми замечательными звуками на этой планете, она закрыла глаза и растворилась в темноте.
– Красивые здесь закаты, – услышала она тёплый мужской голос в третий вечер пребывания на побережье. Екатерина Васильевна как обычно, лежала на тёплой всё ещё гальке, и, закрыв глаза, мечтала, долгими женскими мечтами.
– Да, – ответила она, – под них очень хорошо мечтается, – потом вздохнула и, открыв глаза, взглянула на гостя. Он стоял всего в двух шагах, глядел на море, приложив ладонь ко лбу, как козырёк. Ему на вид было лет тридцать, тридцать три, в кудрявых волосах игрался тёплый ветерок, а мускулы подрагивали, напрягаясь все поочерёдно. Такой красивый торс Екатерина не встречала в своей жизни больше никогда, ни до, ни после, лишь в эти восемь дней, которые они гуляли вместе по ночному Севастополю, когда они смотрели на военные корабли, когда он собирал ей алычу, она его кормила ягодами и бросала косточки в седое море. На третий день знакомства, Савелий Броневой ласкал её волнующуюся грудь, под сарафаном, купленным в местном универмаге, Екатерина не надела именно сегодня нижнее бельё, а грудь её была ещё крепка, не рыхлы бёдра и красивый, звучный голос, раскрывшийся в солёном воздухе прибоя, угнетённый до того, суровой ленинградской влажностью, фашистским дождиком и мерзким ветром. Савелий удержать себя не мог, да он и не пытался, он искренне хотел её, хоть был и младше на семь лет, а в тридцать лет для многих это очень много значит. Он чувствовал её тепло, её зов плоти, потерявшийся, сорвавший голос, и не докричавшийся до мужа Глеба. Под заходящим солнцем, под шум высоких волн, под нежные нашёптыванья ветра, Савелий гладил её груди, не спеша сорвать с желанной сарафан, затем он медленно, проник в неё и от полузабытого наслаждения, она раскрылась лилии цветком из бледного, полуувядшего бутона.
Они гуляли и предавались плотской радости ещё пять дней, а после, долго глядя ей в глаза, нашёптывая нежные слова, стирая со щеки предательские слёзы, она провожала Савелия, он уезжал на поезде в Москву, с которой, после, отправлялся в свой родной Новосибирск. Поезд уже тронулся, когда он, наконец, смог оторваться от Екатерины глаз и, подхватив тяжёлый чемодан, он побежал за убегающим составом, а она закрыла руками лицо и дала волю слезам, хлынувшим солёным потоком из глаз. Она уходила с вокзала не оглядываясь, она хотела скорее покинуть эту фабрику расставаний. Дальнейший отдых показался ей мукой. Она вернулась в Ленинград на три дня раньше и, застав своего мужа пьяным, села на чемодан и заплакала.
Она писала ему долго, каждую неделю, в течение полутора лет, пока ей не пришёл кошмарный, неожиданный ответ. В конверте, с красно-синими полосками авиапочты, было всего лишь несколько слов: «Савелий умер полтора года назад, возвращаясь из Севастополя, он опаздывал на поезд, и при попытке его догнать, упал на рельсы».
Екатерина Васильевна вышла из парка, она свернула на асфальтовую дорогу и подошла к светофору, до того, как включится зелёный, осталось двадцать две секунды. Двадцать две секунды, подумать только, разомкни они губы чуть позже, хотя бы на эти двадцать две секунды.… Тогда быть может, Валерий Клёст остался бы с ней навсегда, тогда, быть может, он бы не ушёл на небеса, в терминале Пулково, тогда, наверняка она была бы счастлива, тогда она уже не мечтала о детях, куда там, в сорок пять, хоть и ягодка опять! Жара, конец июля, ночное небо Ленинграда, какие-то звёзды на сумраке космоса, и холод под сердцем, уколы в миокард. А Утром, когда восставшее светило, смиренно пряталось за облака, раздался телефонный звонок, резкий, как бросок кобры. Екатерина испугалась, нервно глянула на свадебное фото, в конце апреля сделанное, тогда как раз Валерий первым приземлился в Пулково, а не в Шоссейной, на следующий день они бракосочетались. И вот, предательский аппарат, он никогда не нёс ничего хорошего! Она подошла к телефону, долго смотрела на него, как на неведомую доселе диковину, потом взяла всё же трубку и услышала голос, который поломал её последнюю надежду, последнюю любовь. С тех пор она больше никогда не летала самолётами и не ходила в аэропорт, она старалась избегать поездов и вокзалов, она больше не смотрела на мужчин, она больше не смотрела в небо.
Вот и магазин. Екатерина Васильевна преодолела шесть ступенек вверх, миновала двери и попала в хаос покупателей и продавцов, в беспорядочную систему продуктов сетевого магазина. Она тяжело вздохнула, вспоминая давние времена, когда кругом были очереди и колбасу взвешивали, бросая куски на плотную серую бумагу, и если вдруг, отрезали немного меньше, тонкими, почти прозрачными кусочками добавляли до нужного веса. Екатерина Васильевна улыбнулась. Теперь всё не так, теперь есть, как бы, выбор. Она пошла в хлебный отдел, взяла нарезной батон, упакованный в пакет, но не нарезанный, она не любит нарезанный, в нём уже совсем нет жизни хлеба, нет того неповторимого привкуса печи и муки. Поясок обещал, что батон свежий, что ж, может быть, старушки охотно верят, что их кругом обманывают, они же сами охотно это придумывают. Екатерина Васильевна прошла мимо витрины с алкоголем, ей страстно захотелось плюнуть в каждую бутылку, ведь если бы не эта гадость, всё могло быть не так, всё иначе быть могло! Глеб, с которым они прожили почти десять лет, был инженером и, поначалу, неплохо зарабатывал, получил квартиру, они переехали в Автово, в замечательный кирпичный дом, мимо которого Екатерина Васильевна проходит иногда и смотрит на некогда свои окна с тоской и чувством того, что именно там находится точка невозврата, та точка, после которой всё кубарем катилось вниз, несмотря на то, что вроде бы, жизнь неслась вперёд. Затем его перевели на другую работу, в другое НИИ, за ошибку в расчётах, отчего проект пришлось переделывать и удорожать. Глеб сник и стал иногда выпивать, потому что, там выпивали все, по пятницам, чтоб лучше отдыхалось. А после его выгнали за пьянку, как и трёх его коллег, с которыми они закрылись в актовом зале и, распив бутылку водки, завернувшись в красный флаг, цитировали Ленина, картавя буквы и громко смеясь. Повезло, что не расстреляли, даже не посадили. То ли было лень, то ли, действительно весело, то ли – оттепель. В общем, Глеб остался без работы почти на год, после чего Екатерина Васильевна устроила его в магазин кладовщиком. Они приходили домой, ужинали и не разговаривали, Глеб читал газеты, пил пиво на кухне, а Екатерина Васильевна занималась хозяйством и готовилась к следующему дню. Это было в шестьдесят пятом, а в шестьдесят восьмом он умер от цирроза.
В магазине что-то произошло, вокруг образовалась суета, народ пришёл в какое-то броуновское движение, послышались крики, кто-то уронил корзинку, бабки зашептались, деды беспокойно стали оглядываться по сторонам, детишки с интересом наблюдали за всеми, округлив глаза. Екатерина Васильевна как раз рассматривала цену на наклейке, приклеенной к колбасе, брауншвейгской, дорогой, кусочек в двести грамм стоил около двухсот рублей. Екатерина Васильевна очень любила эту колбасу, ей нравилось кушать её со свеженьким батоном и непременным, почти условным слоем, сливочного масла. А вот Валерий не любил эту колбасу, он морщился, когда Екатерина с наслаждением кусала бутерброд, и перекатывала во рту образовавшийся мякиш, медленно пережёвывая его, прикрыв глаза, порой казалось, что если бы не было на свете мужчин, она бы влюбилась в эту колбасу. Валерий вздыхал и отрезал себе ломоть докторской, аккуратно укладывал его на кусок хлеба и с аппетитом ел, прихлёбывая чаем. В магазине на мгновение погас свет, старушки стали роптать и креститься, послышались какие-то шорохи, а кто-то от неожиданности, или от страха вскрикнул. Кто-то толкнул Екатерину Васильевну в локоть и колбаса выпала из рук, пытаясь в темноте поймать её, Екатерина Васильевна хватанула пустоту, и почувствовала, как за широкий рукав её бежевого плаща проскакивает небольшой батончик колбасы. Она выпрямилась, оцепенела, и в этот миг включился снова свет. Вокруг была суета, все как-то подозрительно оглядывались, люди жмурились и шлёпали по карманам, проверяли сумки. Громко объявили, что кассы не работают и всех просят покинуть магазин, потому как нет никакой абсолютно возможности обслужить покупателей, но через час или два магазин с радостью распахнёт свои двери для всех посетителей, и даже даст пенсионерам дополнительную скидку за причинённые неудобства. Народ нехотя потянулся к выходу, оставляя тележки и корзины прямо там, где стояли, и только особенно не понятливые бабушки, просили продать им хотя бы хлеб и Вискас, а то голодают котики дома.
Екатерина Васильевна стояла в оцепенении, ощущая валик колбасы у себя в рукаве и чувствуя себя довольно глупо, с поднятой параллельно полу левой рукой, в которой лежит колбаса, и вытащить уже поздно, и выходить с ней страшно. Выручил её охранник, мужчина, лет сорока семи, с брюшком и, ну очень усталыми глазами, он подошёл к Екатерине Васильевне, оставшейся уже в одиночестве, взял её бережно под локоток и, что-то бормоча, стал подталкивать её к выходу. Она похолодела, и чуть было не упала на пол, почувствовала, как слёзы наворачиваются на глаза, на старости лет стать воровкой, сесть в тюрьму из-за проклятого огрызка колбасы! Она пыталась что-то сказать человеку в чёрной форме, но из горла доносились только звуки, напоминающие кудахтанье курицы.
– Такое случается, что же поделать, – говорил охранник, подводя её к кассам, – вот пройдёт часок, другой, приедут специалисты и всё сделают как надо, – они прошли мимо касс, ворота почему-то не запищали, – а вы пока идите домой, отдохните, повязочку, может, смените, опасно руки ломать в таком возрасте, – Охранник подвёл Екатерину Васильевну к выходу, за которым толпились человек пятнадцать, не знавших, что им делать, открыл дверь и мягко подтолкнул старушку за дверь. – Они всё починят, тогда всё и купите.
Екатерина Васильевна так и пошла, с поднятой и согнутой в локте рукой, она смотрела только вперёд, мысли её были путаны и скачкообразны. Она дошла до парка, села на первую попавшуюся скамейку и заглянула в рукав, там лежал кусочек колбасы, вкусной, дорогой. Брауншвейгской. Она осмотрелась вокруг – мир был прекрасен, солнце пробивалось сквозь ветви с редеющей, пёстрой листвой, Ветерок шуршал в деревьев кронах, воробьи трещали о чём-то птичьем, мимо прошла молодая мама с коляской. Екатерина Васильевна улыбнулась, чувствуя, как в уголочке глаз скопилась грустная слезинка, сопровождая всплывшее из недр памяти воспоминание. Она сидит на лавочке, в своём довоенном дворе, она лижет карамельку на палочке, и с клёна падают красные листья, солнце играет на крышах, мимо проходит соседка, с ребёнком на руках, в разгаре осень тысяча девятьсот сорокового года. И впереди жизнь полная надежд и планов, жизнь полная добра, любви и счастья, красивая, и долгая такая жизнь.
Август – сентябрь 2012
Ангел
Я вижу, как ты падаешь, как тянется за тобою печаль, готовая рассыпаться на землю, готовая накрыть весь мир, после того, как ты коснёшься зелени травы, а может, серости асфальта. Всё в мире так устроено, что рано или поздно, ты всё же упадёшь, ты распластаешься на тлене вымершей земли, ты перестанешь быть собой и мной, ты перестанешь быть хоть кем-то, ты просто перестанешь. Я провожаю тебя взглядом, я даже помашу тебе рукой, всё кончено, всё потерялось и остановилось, мир уже перевернулся, небо уже рядом, оно как раз после земли. И нет ни крыльев, ни пропеллера, ни парашюта, всё позади, всё в разговорах, в граммах спирта, всё в сигаретах и разорванных газетах. Зажечь свечу, остаться во вселенной, всего делов-то, только попросить, всего делов-то – только чуть помочь. Я вижу, как ты падаешь, как ты уже всё выше, выше.
Сигареты, спички, бьющееся сердце. Кто-то плачет за стеною, кто-то что-то говорит, кто-то набирает номер, всё течёт, всё изменяется, всё скачет, улетает, падает, стремится. Всё в тарелках, в городах, в мёдом пахнущих деревнях, в номерах больших гостиниц, в пахнущих войной плацкартах, в вывернутых наизнанку снах, в выжженных в дороге кишках. Мы метались по стране, по нехоженым дорогам, по расстеленному полю, по прожитому когда-то, по расстрельным стенам храмов и кремлей. Ты топтал святую землю, распивал святую воду, похмелялся на базарах, ты всё время прыгал с неба, раскрывая парашют, ты искал и находил, ты ковал и расплавлялся, ты стрелял и снова восставал из пепла. Ты рассказывал всё это, потирая правый бицепс, пальцами по шраму, памятью по печени, жизнью по любви. Я всё слушала тебя, бросая взгляд на небо синее, вытирая слёзы, запивая коньяком. Ты никогда не падал, а если ты и падал, то вставал. Но теперь, я вижу, как ты падаешь и, точно знаю, что теперь уже в последний раз.
По осколкам босиком, кровью по скрипящему паркету, пальцами по раскрасневшимся щекам, я плюю на справедливость, я плюю туда, где небо, я знаю, что нет путей, кроме торного, я разворачиваю душу, чтобы потерять её, остаться чтобы без её останков. Всё выжжено, как две деревни в Чаде. Я знаю, ты рассказывал, ты был в аду чуть раньше, чем в него вернулся, ты встретил и меня-то только потому, что ад тянул тебя к себе, всё зазывал, вскрывая новые возможности для забытья, не слышать чтобы голосов и криков, не видеть страха и кошмаров, не просыпаться, не выходить из пике. Пропеллеры не движутся, молчат моторы, закончился и путь, и керосин, приходится, расправив руки в стороны, лететь, как птица, прямиком к воде, пытаясь вырваться из лап костлявых, пытаясь просто вырвать из неизвестности ещё денёк-другой. Я слушаю и прижимаюсь к тебе, целуя ломаные пальцы, сжимая левое предплечье, с татуировкой на арабской вязи. Что-то непонятное, что-то, что немного согревает душу, или это спирт? Очередная порция, и снова закрываются глаза, вновь темнота меня с тобой уложит.
В пыли, в расстеленных кроватях, в расплющенных сердцах, в карманах только три монеты. Мы шли куда-то, мы всегда ходили до обеда, мы прятались, запутывали все следы и заходили в магазины, меня всё время выгоняли, а ты смотрел на это, подходил к охране и дипломатично уводил меня под руки, оставив бедных корчиться от боли, стонать и помощи просить. Нас не пускали на пороги магазинов и торговых центров, а если нам вдруг всё же удавалось просочиться, то утро мы, как правило, встречали в обезьяннике, я в женском, ты – в мужском. Я видела тебя скалой, а ты меня, быть может, падшим ангелом, а может быть дешёвой шлюхой, наверное, второе ближе к истине, с моим-то носом, сломанным три раза, с моими вечно красными глазами, почти без сисек и ушами как у обезьяны. Быть может всё не так, со стороны, но зеркало – ведь тоже сторона, другая, не такая как внутри меня. Мы утопали в дыме и тогда, мне становилось и спокойнее и проще, мне было безразлично всё вокруг, мы плавали в нирване, сжимая самокрутки в наших толстых пальцах, мы искали новый мир, где нет воспоминаний о скитаниях, где нет ни мира, ни людей, ни параллельных, ни прямых, ни перекрёстков. Мы просыпались на полу, в обнимку, без одежды и почти без кожи, нас выгоняли, мы спешили прочь. Ты прятался, рассказывая мне про смерть в Афганистане, ты посылал меня за смертью, я не возвращалась, ты посылал меня за водкой, я приносила даже больше. Я слушала тебя, всегда, я так хотела быть тебе полезной, я влюблена была тогда… как и теперь.
Я вижу, как ты падаешь, я чувствую утрату, во мне ломается основа. Я мысленно тебе рисую крылья, я мысленно рисую траекторию твоих полётов, сначала в землю, а оттуда ввысь, я каждое мгновение её рисую, я верю, что ты будешь там, я позабочусь, я же ангел, а не шлюха!
Ты рисовал мне страшные картины, ты мне показывал награды и значки, мы вместе ремонтировали звёзды на погонах, мы вместе подшивали к кителю воротничок, мы вместе поднимали стопки за товарищей, а после ты смотрел в окно, ты плакал и мне называл фамилии бойцов, пропавших, потерявших жизни, угодивших в плен. Ты называл мне страны, ты называл правителей и командиров, ты помнил населённые пункты, ты называл их на трёх языках. Ты говорил, что жалеешь о том, что не стал тем, кем мог бы, ты говорил, что жалеешь о прожитой жизни, ты говорил, что в голове только память как снимки из фотоотчётов, ты всегда мечтал стать какой-нибудь птицей. Мы смотрели на закат, и ты мне сказал: «Помоги». Я вытерла слёзы, я обняла тебя за талию, ведь ты меня намного выше, я слышала, как бьётся твоё сердце, я чувствовала дрожь в твоих руках, я отошла на четверть шага и толкнула тебя в спину. Мне кажется, ты с облегчением вздохнул.
Я вижу, как ты падаешь, я чувствую, как в пятки мне впиваются осколки, я слышу, как визжит какая-то старуха, я слышу, как соседка вызывает скорую, а может быть, милицию. Я чувствую, что ты уже внизу, ты неподвижен, ты уже вне времени, вне мира. И я рисую траекторию полёта, теперь ты вознесёшься в небеса, как мученик, святой.
И, всё-таки, я – Ангел.
21 июля 2010 г.
Мне никуда не деться от себя
Чувствуешь ли ты обман?
Чувствуешь ли ты, что твое поведение руководимо кем-то?
Ощущаешь ли ты свободу?
Четко ли понимаешь что это такое?
Кирпичи – «Вопрос»
Я жду, я всё ещё чего-то жду… Напрасно, бесконечно, бесполезно. Все прожитые годы словно скомканные, неправильно и некрасиво, вычурно написанные сказки. Где жизнь, где солнце и свобода? Заложены кирпичными стенами все выходы, все двери, разрыты все туннели, засыпаны камнями, залиты водой. Рассержены все демоны, убиты ангелы, хранители, и те, что просто наблюдают, простые жители небесные, простые жители земли, все в мире с дьявольской ухмылкой. Простите, небеса, я снова комкаю разорванный на части А4 лист. Последний – это точно. Мне никуда не деться от себя.
Мы в шоке, мы не могли представить, что на такое он способен. Всегда здоровался, всегда поможет сумки донести до этажа, потом на свой обратно спустится, улыбчивый, спокойный, добрый. Мы в шоке, мы не знаем, что нам думать. Вот так вот броситься с окна…
Шагать легко, когда шагаешь по земле, сложнее – если лезешь в гору, и невозможно, если ты стоишь на краешке земли, на грани между смертью и остатком жизни. Разглядываешь грязные ботинки, стираешь с лезвия остатки крови, вдыхаешь аромат лесной листвы, читаешь Александра Блока вслух, ломаешь ветви, прячешь все зловещие улики, и думаешь, ломая мозг, всё думаешь, всё знаешь. Остывшее сознанье прикрываешь ветками, стираешь с рук остатки грязи, бросаешь на траву салфетки, бредёшь обратно, мысленно себя бичуя, стираешь слёзы рукавом, а после пьёшь на кухне чай, вприкуску с рафинадом.
Да нет, никто, пожалуй, и не замечал за ним такого. То, что вы мне рассказали – ужас! Теперь не знаю даже, как мне относиться к людям, если такой вот тихий человек творил такие вещи. Наверное, до пенсии я буду за руку водить детей гулять. Теперь, наверно, никаких гостей. Паника? Нет.… Хотя – да. Мне страшно было жить и до сегодняшнего дня, война там, понимаете, террористы, но чтоб такое, да ещё буквально на соседнем этаже… Конечно страшно.
Запах горелой кожи всегда разный, он зависит от чистоты её, от толщины, от цвета, у женщин и мужчин запах отличается очень сильно. Женский помягче. Когда они кричат, у жертвы расширяются зрачки. Причём, если вставить им в рот кляп – то зрачки расширяются, чуть ли не во весь глаз, а если позволять им кричать с открытым ртом, зрачок чуть меньше, видимо, когда есть выход страху в форме крика – у жертвы есть надежда на спасение. Инстинкты, все мы всё же – звери. Потом приходится проветривать весь дом, зимой на даче нет почти соседей, а те что есть, два старичка – глухие, им не слышать криков. Отряхивая снег с калош, бросая в печь поленья, согревшись коньяком и кофе, рисуешь на заснеженных окошках странные узоры, потом стирая со щеки слезу, упавший с сердца камень замещаешь новым, другим, который всё не выбросить никак. На нём начертаны слова: «Мне никуда не деться от себя».
Да, я с ним учился в школе, тогда, конечно же, как все в далёком детстве, мы таскали домой животных, котят, щенков, а он однажды изловил крысёнка и потащил его домой. Нам всем не разрешали дома держать животных, у кого-то, конечно же, были свои собачки и котята, тем говорили, что достаточно и тех, кто есть. А он говорил, что ему разрешили. Всегда разрешали, понимаете? Примерно раз в неделю мы были у него в гостях с ребятами, потом с девчонками, ну, позже, может быть пореже, не суть, суть в том, что дома у него никогда не было никаких животных. И мы тогда спрашивали, что же с ними стало, и неужели он всё врёт, ему не разрешают оставлять животных дома, на что он злился и твердил, что просто от него они сбегают. Ещё он чуть не криком говорил, чтоб мы спросили у его мамы, если мы ему не верим. Нас почему-то это убеждало. Теперь мне как-то жутко вспоминать всё это. Зачем вы мне разбили детство, отрочество, юность?
Да-да, а помнишь, его назвал Володька «крысоед», после чего так сильно получил, что провалялся месяц в городской больнице? Тогда я, как и все девчонки, подумала, что этот парень сможет постоять не только за себя, но и за свою невесту. Мы все в него влюбились. Правда, теперь меня от этого бьёт дрожь.
Секс не был для меня никогда тем, ради чего стоит совершать поступки, он как бесплатное приложение, есть – хорошо, нет – не очень хорошо, да ну и пусть, в мире много других удовольствий. Хотя, не скрою, было в этом что-то более возвышенное, чем в простой науке. Исследования в области секса более многогранны, причём как для испытуемого, так и испытателя. Порой, не знаешь, на чьей ты стороне, и после этого холодный ум гораздо более полезен, нежели желание продлить мгновение, попробовать ещё. В конце концов, секс – это просто копуляция, спаривание – так уже менее романтично? Рабыни садо-мазо клубов доверчивы и более наивны, чем те, которые стоят вдоль дорог, чем те, которые работают по вызову, а безнадёги у дорожных больше всех. Те, что уже под дозой, более спокойны, а те, кто в ломке, даже не кричат, скорее, просят о прощении, кого-то выше, не тебя. К ним нет ни сожаления, ни чувств, они пропали много раньше. А те, что даже в слякоти крови кричали «СТОП!!!», всё ещё надеясь на удачный выход, когда границы все преодолели, и наслаждение ушло, остались боль и страх, когда цепляясь пальчиками за подушку или ламинат царапая, кричат, впадая в панику лишь только это слово, их становилось жалко. Когда в трясущихся руках дрожит стакан и тлеет сигарета, ты плачешь над прекрасным телом, и прогоняешь демонов своих, которые вычерчивают на лодыжках её тонких: «Мне никуда не деться от себя».
Николай Матвеев
Эта книга о том, что у нас в душе, о том, что каждый имеет право на внутренний мир, неважно, что там, внутри, неважно, просто ты человек или может быть – Бог.И я твёрдо верю, что однажды, оглянувшись, мы обязательно увидим за своей спиной цветущие сады, а не утоптанный асфальт.
Асфальт
Николай Матвеев
© Николай Матвеев, 2019
ISBN 978-5-4493-0028-7
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Колбаса
Екатерина Васильевна Клёст шла по парку, с трудом передвигая уставшие, измученные артритом ноги. Ботинки, на удивление ещё крепкие, почти без признаков изношенности, лишь с небольшими потёртостями и царапинами, шаркали по песчаной дорожке, стирая каблуки, единственную пострадавшую за столько лет часть. Ботинки эти были куплены по случаю, ещё в девяносто восьмом, когда вдруг деньги, одним взмахом ресниц превратились в цветные бумажки, а на сумму, на которую ещё вчера можно было купить автомобиль, сегодня можно было купить буханку хлеба, ну и коробок спичек, которые, на всякий случай, вместе с солью, толокном и перловкой, люди скупали коробками и мешками, выигрывая кровопролитные сражения в борьбе за стратегический продукт. Тогда Екатерина Васильевна, смотревшая утром новости, растерянная и взволнованная непониманием всего происходящего, вышла на улицу и побрела куда-то по улице Правды. Ноги несли её, а слёзы, скопившись в уголочках глаз, срывались и катились по щекам, как сок из раненой берёзовой коры. Сжимая в стареньких ладонях кошелёк, она зашла в случайный магазин, в котором не было народа, а продавщицы тянули жребий, кому бежать за ячменём вперёд, а кто отправится позднее, они ругали Софико, хозяйку магазина, которая ещё вчера успела купить за шестьдесят тысяч рублей автомобиль Лада, последней модели, а им сегодня не было разрешено пойти на рынок и купить крупы, консервов и приправ, на случай если разразится вдруг, гражданская война или страна провалится в жестокий хаос. Они недобро посмотрели на пришедшую, наверное, первую, за сегодня посетительницу и на минуту отложили жребий. Екатерина Васильевна бессмысленно шагала вдоль прилавков, когда её затуманенный взгляд упал на эти ботинки, коричневые, с небольшой металлической пряжкой, немного топорные, но такие родные, по запутанному советскому прошлому. Она взяла их в руки бережно, как только что родившегося малыша, она погладила мысок, погладила каблук, прошлась по пряжке пальцами и вспомнила, как впервые пошла на танцы, в военном сорок третьем. Тогда, в эвакуации, в уральском, тихом городке, она слыла красавицей, загадочной девчонкой из хвалёного Ленинграда, города, который чуть не в одиночку побеждает Гитлера. Её белёсые, волнистые волосы всегда искрились, в голубых глазах всегда соседствовали искры и какая-то печаль, свойственная, наверное, каждому, кто родился в хлябях детища Петра. Натруженные руки, и в меру мускулистые ножки, натренированные на заводе по производству снарядов, сводили с ума всех пацанов, кто ещё не ушёл на войну и повергали в мертвецкую тоску тех, кто уже с неё вернулся, без ноги, руки или с иным ранением, не позволявшим бить немецкого захватчика на передовой, да и в тылу с которых было мало пользы, разве что давать указания, пить спирт и рассказывать о битвах. Ещё Екатерина широко и сногсшибательно улыбалась, а когда смеялась, то все вокруг молчали, потому что, во время войны так никто не смеялся. Тогда, в конце января, в честь прорыва блокады Ленинграда, специально для поддержки морального духа эвакуированных ленинградцев, работавших на заводах, где производили танки и снаряды, устроили танцевальный вечер, на который приехал военный оркестр, солдаты играли почти четыре часа, а потом эшелоном, отправились в Ростов, тот должен был вот-вот быть освобождён от оккупантов с фашистской символикой и с истинной германской дисциплинированностью. Катя танцевала тогда в новых ботиночках, которые выменяла у заезжих цыган, позже избитых чуть не до смерти, местными жителями, за кражу курицы и поросёнка, на старые карманные часы её деда, Давыда Никифоровича Лобова, сына помещика, род которых терялся где-то при Иване Грозном. Давыд Никифорович купил в Петербурге доходный дом, потом второй, и жил в покое и достатке. А вот сын его, Василий Давыдович Лобов, связался с революционерами, таскал домой листовки и какие-то запрещённые газеты, а после того, как его задержали жандармы, да отпустили через пару дней, он пришёл домой, собрал в котомку вещи и буханку хлеба, простился с отцом, передавшим ему со слезами эти часы, и отбыл в неизвестном направлении, как позже оказалось, в Выборг. Там он принимал активное участие в челночных поездках будущего вождя мировой революции.
Когда Екатерина танцевала, все мужики и мальчики смотрели на неё открывши рты, кто с грустью, кто с тоской, кто с непонятным чувством где-то под лопатками, в суровой безысходности иные. Смотрел на Катю, как она перебирает ножками, как стучат по доскам пола её новенькие каблучки, как машет руками, как вскидывает голову и поводит плечом, простой уральский парень по имени Демьян. Во взгляде его вожделения цель, сжаты его кулаки, желваки мечутся от напряжения. Он смотрит безотрывно на девушку, которая уже вошла в стадию, когда краснеют от одних нескромных взглядов, когда ночное томление не позволяет просто заснуть, когда хочется сказать «Да!», но говоришь всё время «Нет!», лишь потому, что не понимаешь что к чему и почему. Демьян единственный пригласил её на танец, когда оркестр заиграл что-то протяжное и тоскливое, жаль, она не помнит, что же то была за песня. Они кружились в медленном танце, грациозная Екатерина Лобова и угловатый Демьян Быков, и трепетали они в объятиях друг друга, пока лилась рекою песня. А после, он её провожал, до дома, до калитки барака, в мороз, в суровый, в уральский. И на прощание он наклонился к Кате и нежно, не по-уральски вовсе, поцеловал её в нетронутые ранее мужскими ласками губки. Тогда девушке показалось, что жизнь ещё не началась, а мир – всего лишь выдумка, которой нет. Она пришла в себя спустя каких-то пару секунд, ахнула и побежала к двери, а за единственным освещённом окошком тихонько задёрнулась шторка. Демьян стоял как вкопанный, пока не погас свет в окне, а потом ещё, до тех пор, пока не замёрзли в лёд ноги. Потом он ушёл. Два дня назад ему исполнилось восемнадцать, накануне он записался добровольцем на фронт, назавтра он, махнув на прощание матери, пожав руку деду, утерев бабке слезу, ушёл на станцию, в тот самый эшелон, где ехал давешний оркестр, да вместе с ним ещё отряд новобранцев. Война стремительно обретала юное лицо. Демьян вернулся с войны раньше срока всего-то на месяц, восьмого апреля во двор его матери, Анастасии Быковой, единственной оставшейся в живых, въехала повозка, привезшая гроб.
– Дама, вы что замерли, как статуя, брать будете? – Зло спросила продавщица, – Последняя пара, как раз ваш размер, Италия, сносу не будет, завтра будут раза в два дороже.
Екатерина Васильевна потерянно посмотрела на невежливую женщину, безмолвно протянула ей деньги. Продавщица подошла, взяла деньги, пересчитала, замешкалась, решая вернуть сдачу, или сделать вид, что денег ровно столько, сколько нужно, но всё же отдала излишки, вложив их Екатерине Васильевне прямо в ладони, сходила на склад и принесла в коробке второй ботинок. Другая, аккуратно завернула покупку, перевязала бечёвкой и положила в пакет, который и передала Екатерине Васильевне в руки. Потом её проводили, закрыли дверь на замок и побежали на рынок, за продуктами, потому что в магазинах необходимого товара уже не было, или всё скупили, или, что более вероятно, спрятали до момента, когда всё успокоится и станет более-менее ясно по какой цене и что продавать.
Коробку Екатерина Васильевна вскрыла только вечером, когда вернулась домой. Она вспомнила, что даже не померила обувь, тут же одела правый, а затем и левый ботиночек, они пришлись чётко по ноге, чуть поджимая на костяшках, но это ничего, разносятся. На дне коробки, Екатерина Васильевна обнаружила три пары носков, наверное, злой продавщице стало стыдно и она решила так загладить свою вину.
В тысяча девятьсот сорок пятом году, десятого мая, в дом по Лиговскому проспекту, в единственную полностью отремонтированную квартиру, пришло письмо, в котором Екатерине сообщили, что Демьян погиб. И тогда ей показалось, что жизнь закончилась, а мир кто-то выдумал. Тогда она поняла, что война не закончилась, как сообщали вчера, её война продолжалась ещё несколько лет.
Воздух был свеж и лёгок, утренний воздух чрезвычайно бодрит, особенно если вокруг тихо и светло. Екатерина Васильевна смотрела на свисающие берёзовые ветви, вдыхала глубже утренний воздух и слышала, как под ногами хрустят улитки, в этом году они заполонили почти все листья лопухов, сожрали крапиву и постоянно ползали по дорогам. Их было не жаль и, Екатерина Васильевна не переживала по поводу внезапной кончины этих странных брюхоногих, а хруст их панцирей напоминал хруст гальки на пляже Севастополя, где она отдыхала в шестьдесят шестом, по путёвке, добытой чуть не в боях с бухгалтером Ирэной Арнайте, большеносой блондинкой, похожей на огромную шпроту, коих в избытке водилось на её исторической родине, которой цифры заменили всю личную жизнь. Бои, правда, проходили без непосредственного участия самой Екатерины Васильевны, однако она записала эту победу себе в актив. Тогда по распределению, их магазин получил три путёвки в Севастополь, одну отдали директору, Владлену Романовичу Козину, естественно. Вторую на общем собрании, было решено отдать Валентине Бездыханной, только что выписанной из больницы с нервным срывом после развода, чтобы в курортном хаосе забыть неверного мужа, что она и сделала в объятьях Владлена Романовича, прямо в первую же ночь, под мириадами звёзд в севастопольском небе. Третью путёвку распределяли через профком, именно там и случилась заминка, себе её они распределить не могли, ибо при проверке слетели бы головы немедленно, Анастасия Викторовна – главбух, отказалась, сославшись на старость, а значит, конкуренция оставалась только между заведующими отделов и Ирэной, которую все, в том числе и Владлен Романович, хотели сплавить подальше, хотя бы на месяц. И вроде бы заветная путёвка уже готова была уйти в длинные тонкие руки Ирэны, когда кто-то вспомнил, что отдел Екатерины Васильевны единственный выполнил план во все месяцы текущего года, а литовка, ещё ни разу не выписывала премии Екатерине Васильевне. Так что совет профкома постановил, что путёвка достанется Екатерине Васильевне в качестве премии и быстро вписали её имя и фамилию, дальше ситуацию исправить было нельзя. Литовка встала и, высоко задрав свой огромный нос, хмыкнула и громко топая, вышла из актового зала. Люди стали расходиться, кто-то поздравлял Екатерину Васильевну, она в ответ лишь улыбалась, чувствуя неловкость и вину за то, что ей досталась эта злосчастная путёвка. Вечером, она предъявила её мужу, Глебу Валериановичу Сизых, тот поморщился, тяжело вздохнул и уставился в книгу. Через месяц Екатерина Васильевна уехала в Севастополь, где поселилась в кемпинге «Салют», ей выделили маленький двухместный домик, под номером 174, похожий то ли на будку, то ли на улей, с двумя деревянными койками и столом между ними. Ей понравилось, жёстко, зато в одиночестве и тишине. До моря было метров триста, в первый же вечер по приезду, Екатерина Васильевна надела закрытый купальник и пошла на берег. Народу уже было мало, солнце катилось к закату, где-то на горизонте виднелся дым от парохода, море почти не волновалось, а на небе появилась первая звезда. Екатерина Васильевна легла на гальку и услышала хруст и скрип, показавшиеся самыми замечательными звуками на этой планете, она закрыла глаза и растворилась в темноте.
– Красивые здесь закаты, – услышала она тёплый мужской голос в третий вечер пребывания на побережье. Екатерина Васильевна как обычно, лежала на тёплой всё ещё гальке, и, закрыв глаза, мечтала, долгими женскими мечтами.
– Да, – ответила она, – под них очень хорошо мечтается, – потом вздохнула и, открыв глаза, взглянула на гостя. Он стоял всего в двух шагах, глядел на море, приложив ладонь ко лбу, как козырёк. Ему на вид было лет тридцать, тридцать три, в кудрявых волосах игрался тёплый ветерок, а мускулы подрагивали, напрягаясь все поочерёдно. Такой красивый торс Екатерина не встречала в своей жизни больше никогда, ни до, ни после, лишь в эти восемь дней, которые они гуляли вместе по ночному Севастополю, когда они смотрели на военные корабли, когда он собирал ей алычу, она его кормила ягодами и бросала косточки в седое море. На третий день знакомства, Савелий Броневой ласкал её волнующуюся грудь, под сарафаном, купленным в местном универмаге, Екатерина не надела именно сегодня нижнее бельё, а грудь её была ещё крепка, не рыхлы бёдра и красивый, звучный голос, раскрывшийся в солёном воздухе прибоя, угнетённый до того, суровой ленинградской влажностью, фашистским дождиком и мерзким ветром. Савелий удержать себя не мог, да он и не пытался, он искренне хотел её, хоть был и младше на семь лет, а в тридцать лет для многих это очень много значит. Он чувствовал её тепло, её зов плоти, потерявшийся, сорвавший голос, и не докричавшийся до мужа Глеба. Под заходящим солнцем, под шум высоких волн, под нежные нашёптыванья ветра, Савелий гладил её груди, не спеша сорвать с желанной сарафан, затем он медленно, проник в неё и от полузабытого наслаждения, она раскрылась лилии цветком из бледного, полуувядшего бутона.
Они гуляли и предавались плотской радости ещё пять дней, а после, долго глядя ей в глаза, нашёптывая нежные слова, стирая со щеки предательские слёзы, она провожала Савелия, он уезжал на поезде в Москву, с которой, после, отправлялся в свой родной Новосибирск. Поезд уже тронулся, когда он, наконец, смог оторваться от Екатерины глаз и, подхватив тяжёлый чемодан, он побежал за убегающим составом, а она закрыла руками лицо и дала волю слезам, хлынувшим солёным потоком из глаз. Она уходила с вокзала не оглядываясь, она хотела скорее покинуть эту фабрику расставаний. Дальнейший отдых показался ей мукой. Она вернулась в Ленинград на три дня раньше и, застав своего мужа пьяным, села на чемодан и заплакала.
Она писала ему долго, каждую неделю, в течение полутора лет, пока ей не пришёл кошмарный, неожиданный ответ. В конверте, с красно-синими полосками авиапочты, было всего лишь несколько слов: «Савелий умер полтора года назад, возвращаясь из Севастополя, он опаздывал на поезд, и при попытке его догнать, упал на рельсы».
Екатерина Васильевна вышла из парка, она свернула на асфальтовую дорогу и подошла к светофору, до того, как включится зелёный, осталось двадцать две секунды. Двадцать две секунды, подумать только, разомкни они губы чуть позже, хотя бы на эти двадцать две секунды.… Тогда быть может, Валерий Клёст остался бы с ней навсегда, тогда, быть может, он бы не ушёл на небеса, в терминале Пулково, тогда, наверняка она была бы счастлива, тогда она уже не мечтала о детях, куда там, в сорок пять, хоть и ягодка опять! Жара, конец июля, ночное небо Ленинграда, какие-то звёзды на сумраке космоса, и холод под сердцем, уколы в миокард. А Утром, когда восставшее светило, смиренно пряталось за облака, раздался телефонный звонок, резкий, как бросок кобры. Екатерина испугалась, нервно глянула на свадебное фото, в конце апреля сделанное, тогда как раз Валерий первым приземлился в Пулково, а не в Шоссейной, на следующий день они бракосочетались. И вот, предательский аппарат, он никогда не нёс ничего хорошего! Она подошла к телефону, долго смотрела на него, как на неведомую доселе диковину, потом взяла всё же трубку и услышала голос, который поломал её последнюю надежду, последнюю любовь. С тех пор она больше никогда не летала самолётами и не ходила в аэропорт, она старалась избегать поездов и вокзалов, она больше не смотрела на мужчин, она больше не смотрела в небо.
Вот и магазин. Екатерина Васильевна преодолела шесть ступенек вверх, миновала двери и попала в хаос покупателей и продавцов, в беспорядочную систему продуктов сетевого магазина. Она тяжело вздохнула, вспоминая давние времена, когда кругом были очереди и колбасу взвешивали, бросая куски на плотную серую бумагу, и если вдруг, отрезали немного меньше, тонкими, почти прозрачными кусочками добавляли до нужного веса. Екатерина Васильевна улыбнулась. Теперь всё не так, теперь есть, как бы, выбор. Она пошла в хлебный отдел, взяла нарезной батон, упакованный в пакет, но не нарезанный, она не любит нарезанный, в нём уже совсем нет жизни хлеба, нет того неповторимого привкуса печи и муки. Поясок обещал, что батон свежий, что ж, может быть, старушки охотно верят, что их кругом обманывают, они же сами охотно это придумывают. Екатерина Васильевна прошла мимо витрины с алкоголем, ей страстно захотелось плюнуть в каждую бутылку, ведь если бы не эта гадость, всё могло быть не так, всё иначе быть могло! Глеб, с которым они прожили почти десять лет, был инженером и, поначалу, неплохо зарабатывал, получил квартиру, они переехали в Автово, в замечательный кирпичный дом, мимо которого Екатерина Васильевна проходит иногда и смотрит на некогда свои окна с тоской и чувством того, что именно там находится точка невозврата, та точка, после которой всё кубарем катилось вниз, несмотря на то, что вроде бы, жизнь неслась вперёд. Затем его перевели на другую работу, в другое НИИ, за ошибку в расчётах, отчего проект пришлось переделывать и удорожать. Глеб сник и стал иногда выпивать, потому что, там выпивали все, по пятницам, чтоб лучше отдыхалось. А после его выгнали за пьянку, как и трёх его коллег, с которыми они закрылись в актовом зале и, распив бутылку водки, завернувшись в красный флаг, цитировали Ленина, картавя буквы и громко смеясь. Повезло, что не расстреляли, даже не посадили. То ли было лень, то ли, действительно весело, то ли – оттепель. В общем, Глеб остался без работы почти на год, после чего Екатерина Васильевна устроила его в магазин кладовщиком. Они приходили домой, ужинали и не разговаривали, Глеб читал газеты, пил пиво на кухне, а Екатерина Васильевна занималась хозяйством и готовилась к следующему дню. Это было в шестьдесят пятом, а в шестьдесят восьмом он умер от цирроза.
В магазине что-то произошло, вокруг образовалась суета, народ пришёл в какое-то броуновское движение, послышались крики, кто-то уронил корзинку, бабки зашептались, деды беспокойно стали оглядываться по сторонам, детишки с интересом наблюдали за всеми, округлив глаза. Екатерина Васильевна как раз рассматривала цену на наклейке, приклеенной к колбасе, брауншвейгской, дорогой, кусочек в двести грамм стоил около двухсот рублей. Екатерина Васильевна очень любила эту колбасу, ей нравилось кушать её со свеженьким батоном и непременным, почти условным слоем, сливочного масла. А вот Валерий не любил эту колбасу, он морщился, когда Екатерина с наслаждением кусала бутерброд, и перекатывала во рту образовавшийся мякиш, медленно пережёвывая его, прикрыв глаза, порой казалось, что если бы не было на свете мужчин, она бы влюбилась в эту колбасу. Валерий вздыхал и отрезал себе ломоть докторской, аккуратно укладывал его на кусок хлеба и с аппетитом ел, прихлёбывая чаем. В магазине на мгновение погас свет, старушки стали роптать и креститься, послышались какие-то шорохи, а кто-то от неожиданности, или от страха вскрикнул. Кто-то толкнул Екатерину Васильевну в локоть и колбаса выпала из рук, пытаясь в темноте поймать её, Екатерина Васильевна хватанула пустоту, и почувствовала, как за широкий рукав её бежевого плаща проскакивает небольшой батончик колбасы. Она выпрямилась, оцепенела, и в этот миг включился снова свет. Вокруг была суета, все как-то подозрительно оглядывались, люди жмурились и шлёпали по карманам, проверяли сумки. Громко объявили, что кассы не работают и всех просят покинуть магазин, потому как нет никакой абсолютно возможности обслужить покупателей, но через час или два магазин с радостью распахнёт свои двери для всех посетителей, и даже даст пенсионерам дополнительную скидку за причинённые неудобства. Народ нехотя потянулся к выходу, оставляя тележки и корзины прямо там, где стояли, и только особенно не понятливые бабушки, просили продать им хотя бы хлеб и Вискас, а то голодают котики дома.
Екатерина Васильевна стояла в оцепенении, ощущая валик колбасы у себя в рукаве и чувствуя себя довольно глупо, с поднятой параллельно полу левой рукой, в которой лежит колбаса, и вытащить уже поздно, и выходить с ней страшно. Выручил её охранник, мужчина, лет сорока семи, с брюшком и, ну очень усталыми глазами, он подошёл к Екатерине Васильевне, оставшейся уже в одиночестве, взял её бережно под локоток и, что-то бормоча, стал подталкивать её к выходу. Она похолодела, и чуть было не упала на пол, почувствовала, как слёзы наворачиваются на глаза, на старости лет стать воровкой, сесть в тюрьму из-за проклятого огрызка колбасы! Она пыталась что-то сказать человеку в чёрной форме, но из горла доносились только звуки, напоминающие кудахтанье курицы.
– Такое случается, что же поделать, – говорил охранник, подводя её к кассам, – вот пройдёт часок, другой, приедут специалисты и всё сделают как надо, – они прошли мимо касс, ворота почему-то не запищали, – а вы пока идите домой, отдохните, повязочку, может, смените, опасно руки ломать в таком возрасте, – Охранник подвёл Екатерину Васильевну к выходу, за которым толпились человек пятнадцать, не знавших, что им делать, открыл дверь и мягко подтолкнул старушку за дверь. – Они всё починят, тогда всё и купите.
Екатерина Васильевна так и пошла, с поднятой и согнутой в локте рукой, она смотрела только вперёд, мысли её были путаны и скачкообразны. Она дошла до парка, села на первую попавшуюся скамейку и заглянула в рукав, там лежал кусочек колбасы, вкусной, дорогой. Брауншвейгской. Она осмотрелась вокруг – мир был прекрасен, солнце пробивалось сквозь ветви с редеющей, пёстрой листвой, Ветерок шуршал в деревьев кронах, воробьи трещали о чём-то птичьем, мимо прошла молодая мама с коляской. Екатерина Васильевна улыбнулась, чувствуя, как в уголочке глаз скопилась грустная слезинка, сопровождая всплывшее из недр памяти воспоминание. Она сидит на лавочке, в своём довоенном дворе, она лижет карамельку на палочке, и с клёна падают красные листья, солнце играет на крышах, мимо проходит соседка, с ребёнком на руках, в разгаре осень тысяча девятьсот сорокового года. И впереди жизнь полная надежд и планов, жизнь полная добра, любви и счастья, красивая, и долгая такая жизнь.
Август – сентябрь 2012
Ангел
Я вижу, как ты падаешь, как тянется за тобою печаль, готовая рассыпаться на землю, готовая накрыть весь мир, после того, как ты коснёшься зелени травы, а может, серости асфальта. Всё в мире так устроено, что рано или поздно, ты всё же упадёшь, ты распластаешься на тлене вымершей земли, ты перестанешь быть собой и мной, ты перестанешь быть хоть кем-то, ты просто перестанешь. Я провожаю тебя взглядом, я даже помашу тебе рукой, всё кончено, всё потерялось и остановилось, мир уже перевернулся, небо уже рядом, оно как раз после земли. И нет ни крыльев, ни пропеллера, ни парашюта, всё позади, всё в разговорах, в граммах спирта, всё в сигаретах и разорванных газетах. Зажечь свечу, остаться во вселенной, всего делов-то, только попросить, всего делов-то – только чуть помочь. Я вижу, как ты падаешь, как ты уже всё выше, выше.
Сигареты, спички, бьющееся сердце. Кто-то плачет за стеною, кто-то что-то говорит, кто-то набирает номер, всё течёт, всё изменяется, всё скачет, улетает, падает, стремится. Всё в тарелках, в городах, в мёдом пахнущих деревнях, в номерах больших гостиниц, в пахнущих войной плацкартах, в вывернутых наизнанку снах, в выжженных в дороге кишках. Мы метались по стране, по нехоженым дорогам, по расстеленному полю, по прожитому когда-то, по расстрельным стенам храмов и кремлей. Ты топтал святую землю, распивал святую воду, похмелялся на базарах, ты всё время прыгал с неба, раскрывая парашют, ты искал и находил, ты ковал и расплавлялся, ты стрелял и снова восставал из пепла. Ты рассказывал всё это, потирая правый бицепс, пальцами по шраму, памятью по печени, жизнью по любви. Я всё слушала тебя, бросая взгляд на небо синее, вытирая слёзы, запивая коньяком. Ты никогда не падал, а если ты и падал, то вставал. Но теперь, я вижу, как ты падаешь и, точно знаю, что теперь уже в последний раз.
По осколкам босиком, кровью по скрипящему паркету, пальцами по раскрасневшимся щекам, я плюю на справедливость, я плюю туда, где небо, я знаю, что нет путей, кроме торного, я разворачиваю душу, чтобы потерять её, остаться чтобы без её останков. Всё выжжено, как две деревни в Чаде. Я знаю, ты рассказывал, ты был в аду чуть раньше, чем в него вернулся, ты встретил и меня-то только потому, что ад тянул тебя к себе, всё зазывал, вскрывая новые возможности для забытья, не слышать чтобы голосов и криков, не видеть страха и кошмаров, не просыпаться, не выходить из пике. Пропеллеры не движутся, молчат моторы, закончился и путь, и керосин, приходится, расправив руки в стороны, лететь, как птица, прямиком к воде, пытаясь вырваться из лап костлявых, пытаясь просто вырвать из неизвестности ещё денёк-другой. Я слушаю и прижимаюсь к тебе, целуя ломаные пальцы, сжимая левое предплечье, с татуировкой на арабской вязи. Что-то непонятное, что-то, что немного согревает душу, или это спирт? Очередная порция, и снова закрываются глаза, вновь темнота меня с тобой уложит.
В пыли, в расстеленных кроватях, в расплющенных сердцах, в карманах только три монеты. Мы шли куда-то, мы всегда ходили до обеда, мы прятались, запутывали все следы и заходили в магазины, меня всё время выгоняли, а ты смотрел на это, подходил к охране и дипломатично уводил меня под руки, оставив бедных корчиться от боли, стонать и помощи просить. Нас не пускали на пороги магазинов и торговых центров, а если нам вдруг всё же удавалось просочиться, то утро мы, как правило, встречали в обезьяннике, я в женском, ты – в мужском. Я видела тебя скалой, а ты меня, быть может, падшим ангелом, а может быть дешёвой шлюхой, наверное, второе ближе к истине, с моим-то носом, сломанным три раза, с моими вечно красными глазами, почти без сисек и ушами как у обезьяны. Быть может всё не так, со стороны, но зеркало – ведь тоже сторона, другая, не такая как внутри меня. Мы утопали в дыме и тогда, мне становилось и спокойнее и проще, мне было безразлично всё вокруг, мы плавали в нирване, сжимая самокрутки в наших толстых пальцах, мы искали новый мир, где нет воспоминаний о скитаниях, где нет ни мира, ни людей, ни параллельных, ни прямых, ни перекрёстков. Мы просыпались на полу, в обнимку, без одежды и почти без кожи, нас выгоняли, мы спешили прочь. Ты прятался, рассказывая мне про смерть в Афганистане, ты посылал меня за смертью, я не возвращалась, ты посылал меня за водкой, я приносила даже больше. Я слушала тебя, всегда, я так хотела быть тебе полезной, я влюблена была тогда… как и теперь.
Я вижу, как ты падаешь, я чувствую утрату, во мне ломается основа. Я мысленно тебе рисую крылья, я мысленно рисую траекторию твоих полётов, сначала в землю, а оттуда ввысь, я каждое мгновение её рисую, я верю, что ты будешь там, я позабочусь, я же ангел, а не шлюха!
Ты рисовал мне страшные картины, ты мне показывал награды и значки, мы вместе ремонтировали звёзды на погонах, мы вместе подшивали к кителю воротничок, мы вместе поднимали стопки за товарищей, а после ты смотрел в окно, ты плакал и мне называл фамилии бойцов, пропавших, потерявших жизни, угодивших в плен. Ты называл мне страны, ты называл правителей и командиров, ты помнил населённые пункты, ты называл их на трёх языках. Ты говорил, что жалеешь о том, что не стал тем, кем мог бы, ты говорил, что жалеешь о прожитой жизни, ты говорил, что в голове только память как снимки из фотоотчётов, ты всегда мечтал стать какой-нибудь птицей. Мы смотрели на закат, и ты мне сказал: «Помоги». Я вытерла слёзы, я обняла тебя за талию, ведь ты меня намного выше, я слышала, как бьётся твоё сердце, я чувствовала дрожь в твоих руках, я отошла на четверть шага и толкнула тебя в спину. Мне кажется, ты с облегчением вздохнул.
Я вижу, как ты падаешь, я чувствую, как в пятки мне впиваются осколки, я слышу, как визжит какая-то старуха, я слышу, как соседка вызывает скорую, а может быть, милицию. Я чувствую, что ты уже внизу, ты неподвижен, ты уже вне времени, вне мира. И я рисую траекторию полёта, теперь ты вознесёшься в небеса, как мученик, святой.
И, всё-таки, я – Ангел.
21 июля 2010 г.
Мне никуда не деться от себя
Чувствуешь ли ты обман?
Чувствуешь ли ты, что твое поведение руководимо кем-то?
Ощущаешь ли ты свободу?
Четко ли понимаешь что это такое?
Кирпичи – «Вопрос»
Я жду, я всё ещё чего-то жду… Напрасно, бесконечно, бесполезно. Все прожитые годы словно скомканные, неправильно и некрасиво, вычурно написанные сказки. Где жизнь, где солнце и свобода? Заложены кирпичными стенами все выходы, все двери, разрыты все туннели, засыпаны камнями, залиты водой. Рассержены все демоны, убиты ангелы, хранители, и те, что просто наблюдают, простые жители небесные, простые жители земли, все в мире с дьявольской ухмылкой. Простите, небеса, я снова комкаю разорванный на части А4 лист. Последний – это точно. Мне никуда не деться от себя.
Мы в шоке, мы не могли представить, что на такое он способен. Всегда здоровался, всегда поможет сумки донести до этажа, потом на свой обратно спустится, улыбчивый, спокойный, добрый. Мы в шоке, мы не знаем, что нам думать. Вот так вот броситься с окна…
Шагать легко, когда шагаешь по земле, сложнее – если лезешь в гору, и невозможно, если ты стоишь на краешке земли, на грани между смертью и остатком жизни. Разглядываешь грязные ботинки, стираешь с лезвия остатки крови, вдыхаешь аромат лесной листвы, читаешь Александра Блока вслух, ломаешь ветви, прячешь все зловещие улики, и думаешь, ломая мозг, всё думаешь, всё знаешь. Остывшее сознанье прикрываешь ветками, стираешь с рук остатки грязи, бросаешь на траву салфетки, бредёшь обратно, мысленно себя бичуя, стираешь слёзы рукавом, а после пьёшь на кухне чай, вприкуску с рафинадом.
Да нет, никто, пожалуй, и не замечал за ним такого. То, что вы мне рассказали – ужас! Теперь не знаю даже, как мне относиться к людям, если такой вот тихий человек творил такие вещи. Наверное, до пенсии я буду за руку водить детей гулять. Теперь, наверно, никаких гостей. Паника? Нет.… Хотя – да. Мне страшно было жить и до сегодняшнего дня, война там, понимаете, террористы, но чтоб такое, да ещё буквально на соседнем этаже… Конечно страшно.
Запах горелой кожи всегда разный, он зависит от чистоты её, от толщины, от цвета, у женщин и мужчин запах отличается очень сильно. Женский помягче. Когда они кричат, у жертвы расширяются зрачки. Причём, если вставить им в рот кляп – то зрачки расширяются, чуть ли не во весь глаз, а если позволять им кричать с открытым ртом, зрачок чуть меньше, видимо, когда есть выход страху в форме крика – у жертвы есть надежда на спасение. Инстинкты, все мы всё же – звери. Потом приходится проветривать весь дом, зимой на даче нет почти соседей, а те что есть, два старичка – глухие, им не слышать криков. Отряхивая снег с калош, бросая в печь поленья, согревшись коньяком и кофе, рисуешь на заснеженных окошках странные узоры, потом стирая со щеки слезу, упавший с сердца камень замещаешь новым, другим, который всё не выбросить никак. На нём начертаны слова: «Мне никуда не деться от себя».
Да, я с ним учился в школе, тогда, конечно же, как все в далёком детстве, мы таскали домой животных, котят, щенков, а он однажды изловил крысёнка и потащил его домой. Нам всем не разрешали дома держать животных, у кого-то, конечно же, были свои собачки и котята, тем говорили, что достаточно и тех, кто есть. А он говорил, что ему разрешили. Всегда разрешали, понимаете? Примерно раз в неделю мы были у него в гостях с ребятами, потом с девчонками, ну, позже, может быть пореже, не суть, суть в том, что дома у него никогда не было никаких животных. И мы тогда спрашивали, что же с ними стало, и неужели он всё врёт, ему не разрешают оставлять животных дома, на что он злился и твердил, что просто от него они сбегают. Ещё он чуть не криком говорил, чтоб мы спросили у его мамы, если мы ему не верим. Нас почему-то это убеждало. Теперь мне как-то жутко вспоминать всё это. Зачем вы мне разбили детство, отрочество, юность?
Да-да, а помнишь, его назвал Володька «крысоед», после чего так сильно получил, что провалялся месяц в городской больнице? Тогда я, как и все девчонки, подумала, что этот парень сможет постоять не только за себя, но и за свою невесту. Мы все в него влюбились. Правда, теперь меня от этого бьёт дрожь.
Секс не был для меня никогда тем, ради чего стоит совершать поступки, он как бесплатное приложение, есть – хорошо, нет – не очень хорошо, да ну и пусть, в мире много других удовольствий. Хотя, не скрою, было в этом что-то более возвышенное, чем в простой науке. Исследования в области секса более многогранны, причём как для испытуемого, так и испытателя. Порой, не знаешь, на чьей ты стороне, и после этого холодный ум гораздо более полезен, нежели желание продлить мгновение, попробовать ещё. В конце концов, секс – это просто копуляция, спаривание – так уже менее романтично? Рабыни садо-мазо клубов доверчивы и более наивны, чем те, которые стоят вдоль дорог, чем те, которые работают по вызову, а безнадёги у дорожных больше всех. Те, что уже под дозой, более спокойны, а те, кто в ломке, даже не кричат, скорее, просят о прощении, кого-то выше, не тебя. К ним нет ни сожаления, ни чувств, они пропали много раньше. А те, что даже в слякоти крови кричали «СТОП!!!», всё ещё надеясь на удачный выход, когда границы все преодолели, и наслаждение ушло, остались боль и страх, когда цепляясь пальчиками за подушку или ламинат царапая, кричат, впадая в панику лишь только это слово, их становилось жалко. Когда в трясущихся руках дрожит стакан и тлеет сигарета, ты плачешь над прекрасным телом, и прогоняешь демонов своих, которые вычерчивают на лодыжках её тонких: «Мне никуда не деться от себя».