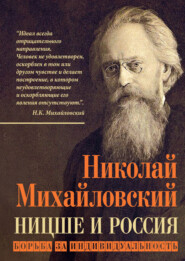По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Жестокий талант
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Какая же радость-с? Почему же радость?
– Я по вашим чувствам сужу.
– Хе, хе, на этот счет вы в моих чувствах ошибаетесь-с, по изречению одного мудреца, «хорош враг мертвый, но еще лучше живой», хи-хи.
. . . . . . . . .
– Слишком понимаю, для чего вам нужен был живой Багаутов, и готов уважить вашу досаду, но…
– А для чего нужен был мне Багаутов, по вашему мнению?
– Это ваше дело.
– Бьюсь об заклад, что вы дуэль подразумевали-с…
– На какой же черт после этого надо было вам живого Багаутова?
– Да хоть бы только поглядеть на дружка-с… Вот бы взяли с ним бутылочку, да и выпили вместе.
В конце концов для вящего мучительного самоуслаждения Трусоцкий едет на похороны Багаутова и провожает его труп до могилы. Как видите, человек до страсти любит страдание. Но заметьте, сколько шипящей злобы в добровольческом страдании Трусоцкого; сколько тут искреннего озлобления на Багаутова, своею смертью поставившего точку к мучительному процессу мучительства! Дело в том, что человек не только любит страдание, а любит и других заставлять страдать, любит быть мучителем. Поэтому за оставшихся жить Лизу и Вельчанинова Трусоцкий принимается с удвоенною энергией. Лизу он мучит сравнительно просто – «щиплет». Но и для нее имеется гастрономия потоньше: Трусоцкий грозит при ней повеситься и объясняет, что повесится «от нее»; ругает ее позорным именем; приводит к себе на ночь, при ней, публичную женщину.
Что касается Вельчанинова, то о характере отношений к нему Трусоцкого можете отчасти судить по вышеприведенному разговору о Багаутове. Павел Павлович все время терзает Вельчанииова разными намеками и прямым рассказом о том, как он узнал о своем рогатом положении; то щекочет его ревность воспоминаниями о других любовниках жены, то будит его совесть соображениями об их старинной дружбе, то держит в напряженном состоянии, намекая, что ему известны отношения Вельчанинова к жене, то отпускает эти вожжи, притворяясь ничего не знающим. Вельчанинов, человек желчный и раздражительный, поддается на все эти удочки и волнуется, смущается, злится. С особенною же стремительностью лезет он на следующую удочку. Трусоцкий, ничего не говоря прямо и даже прикидываясь ничего не знающим, намекает, что Лиза – дочь Вельчанинова. Тот, в страшном волнении, хватается за эту мысль, берет на себя заботы о Лизе; но когда потом бедная девочка умерла, Павел Павлович прямо, и уже без всяких подвохов, объясняет, что отец Лизы не он, Вельчанинов, а хорошо им обоим известный «артиллерии прапорщик»…
В известном лагере, охотно причисляющем Достоевского к «своим», часто раздаются сетования на так называемую отрицательную литературу, что она, дескать, рисует все только мрачные картины и тем обнаруживает свое неуважение к родине, в которой ведь и светло-розового и небесно-голубого очень много. Не будем останавливаться на этой песне, которая еще со времен Гоголя поется глупцами и лицемерами. Но, спрашивается, что же сказать о писателе, берущем чисто индивидуального человека, без внимания к каким бы то ни было общественным изъянам, и в нем, в душе человеческой вообще водружающем такие два знамени, как: 1) человек любит быть мучителем, 2) человек до страсти любит страдание? Не подкоп ли это подо все, что только есть на свете светло-розового и небесно-голубого? Не подкоп ли это под все лучшие воспоминания и под все надежды на лучшее будущее? Пусть об этом хорошенько подумают лицемеры и глупцы, а мы пока посмотрим на историю Трусоцкого как на частный случай по тем или другим причинам заинтересовавший художника.
Если отрешиться от мысли об общих законах человеческой природы с двух противоположных сторон, требующих для человека мучений; если посмотреть на поведение Трусоцкого, напротив, как на исключительный случай, даже как на уродство, то нельзя не признать «Вечного мужа» произведением чрезвычайно замечательным. Неистовая, но сама себя питающая злоба, не вырывающаяся наружу ни громким криком, ни решительным действием, а только шипящая, ползающая, подкрадывающаяся, разработана превосходно. Это, бесспорно, одна из лучших вещей Достоевского. Однако только до того момента, до которого мы довели свой пересказ. Казалось бы, и Достоевскому можно было кончить на этом моменте, то есть на смерти Лизы и «артиллерии прапорщике». Тип Трусоцкого ясен, в утонченности злобной мести идти дальше некуда. Если бы мы имели дело с человеком вроде Отелло, то есть с человеком, желающим так или иначе свалить бремя со своей души и чем-нибудь кончить, то этот искомый им конец был бы вместе с тем и концом драмы. Трусоцкому никакого конца не нужно, он хотел бы целую вечность поджаривать на медленном огне и Багаутова, и Лизу, и Вельчанинова. Но ведь если идти в этом направлении за Трусоцким, так и повести не пришлось бы никогда кончить. Нельзя же в самом деле без конца тянуть визиты Трусоцкого к Вельчанинову и эти поджаривающие, ядовитые разговоры. Смерть Лизы, в связи с «артиллерии прапорщиком», просто даже в техническом отношении выводит автора из затруднения.
Но, как и всегда, Достоевскому мало тех мучительных сцен, которые определяются естественным ходом вещей и условиями техники искусства. А кроме того, для него слишком еще просты чувства Павла Павловича Трусоцкого. До сих пор мы видели только, что когда-то Вельчанинов был предметом любви и уважения для Трусоцкого. Когда-то ведь и Багаутов был его приятелем, а теперь он только потому жалеет о смерти бывшего приятеля, что эта смерть вырвала у него из рук жертву его своеобразной мести. Можно бы было думать, что таковы же его отношения и к Вельчанинову. Рассказывая Вельчанинову о смерти Багаутова, Трусоцкий со страстным порывом говорит, что ведь теперь только он, Вельчанинов, остался для него один на свете. Потом в другом подобном же рассказе он в еще более страстном порыве целует руки у Вельчанинова. Все это, конечно, вариации на ту же тему самопитающейся злобы, которая даже любит предмет своей ненависти, как точку исхода неустанно текущей мести. Это противоестественное сочетание, этот, если позволено будет так выразиться, гермафродитизм чувства Достоевский пожелал довести до высшей возможной точки напряжения.
Павел Павлович задумал опять жениться. Случилось это очень скоро после смерти Лизы и всего три месяца после смерти его жены: Достоевский вообще всегда очень торопил своих действующих лиц и любил толкотню событий, загоняя их в невероятном количестве в самые короткие сроки. Задумал Павел Павлович жениться на пятнадцатилетней девочке, еще посещающей гимназию. Свадьба, впрочем, предполагалась через девять месяцев, чтобы, вышел годовой срок траура, да и невеста чтобы подросла. В один прекрасный день Трусоцкий неожиданно сообщает об этом своем решении Вельчанинову и, кроме того, просит его ехать немедленно, сейчас же вместе с ним в семейство невесты. Вельчанинов, разумеется, поражен этой просьбой, отказывается с отвращением, но Трусоцкий настаивает, умоляет, с величайшим жаром объясняется в любви, и Вельчанинов, наконец, уступает. Не будем следить за тем, что произошло у Захлебининых (фамилия невесты). Скажем кратко, что невеста терпеть не могла Павла Павловича и что Вельчанинов совершенно нечаянно поспособствовал окончательному разрушению мечты «вечного мужа» о новом семейном очаге. Возникает вопрос: зачем Трусоцкий возил с собой Вельчанинова к невесте? Сам Павел Павлович сначала объясняет, что возил просто как друга, но потом открывает, что хотел «испытать» невесту некоторыми блестящими качествами Вельчанинова. Вельчанинов же приходит в конце концов к тому заключению, что Трусоцкий возил его ради хвастовства и вызова: дескать, ты был любовником моей жены, так вот же тебе, смотри, я опять буду счастлив, и ничего ты тут уж не испортишь! Вельчанинов, однако, испортил, хотя и совсем нечаянно. Понятно, что злобные чувства к нему Павла Павловича должны усилиться. К удивлению, однако, Павел Павлович в ту же ночь, когда они вернулись от Захлебининых, обнаруживает необыкновенную нежность к Вельчанинову. Тот заболел, и Павел Павлович ухаживал за ним как за родным братом, так что даже растрогал Вельчанинова. Но, успокоив боль Вельчанинова разными припарками, за которыми бегал сам на кухню, Павел Павлович в ту же самую ночь бросился на спящего Вельчанинова с бритвой… Вельчанинов спасся только случаем – вовремя проснулся.
Вельчанинов на другой день размышляет: «Неужели, неужели правда была все то, что этот… сумасшедший натолковал мне вчера о своей любви ко мне, когда задрожал у него подбородок и он стукал в грудь кулаками? Совершенная правда!.. Он слишком достаточно был глуп и благороден для того, чтоб влюбиться в любовника своей жены, в которой он в двадцать лет ничего не приметил! Он уважал меня девять лет, чтил память мою и мои „изречения“ запомнил – господи, а я-то не ведал ни о чем! Не мог он лгать вчера! Не любил ли он меня вчера, когда изъяснился в любви и сказал: „поквитаетесь“? Да, со злобы любил, эта любовь самая сильная…»
В заключение Павел Павлович доставил Вельчанинову письмо, из которого явствовало, что Лиза действительно его, Вельчанинова, дочь, а вовсе не артиллерии прапорщика…
Кажется, теперь-то уж конец, самый окончательный конец? Отнюдь нет. Чрез два года Вельчанинов сталкивается на железной дороге с Павлом Павловичем, который опять женат, ужасно боится, чтобы Вельчанинов к нему не зашел в гости и не испортил его семейного счастия, а между тем состоит под башмаком у жены и не замечает, что уланский офицерик, с которым они разъезжают втроем, есть любовник его жены…
VI
Если бы мы разрешили себе пользоваться для предлагаемой статьи всеми сочинениями Достоевского, то задача наша количественно была бы, конечно, труднее. Потребовалось бы гораздо больше времени и места, чтобы пересмотреть и предъявить читателю хотя бы только крупнейшие из образцов ненужной жестокости в позднейших произведениях Достоевского. Эти позднейшие произведения, начиная с «Преступления и наказания», и особенно самые последние – «Бесы», «Братья Карамазовы» – переполнены ненужною жестокостью через край. Но именно поэтому критическая задача была бы много легче в качественном отношении. В тех старых произведениях Достоевского, с которыми мы имеем дело, по крайней мере во многих из них, еще сильно пробивается струя «гуманического» направления, как назвал его Добролюбов в известной статье «Забитые люди». Теперь мы должны с этой струей считаться, тогда как в позднейших сочинениях Достоевского она постепенно убывает и под конец совершенно иссякает в пустыне слащавых и худосочных сентенций о любви к ближнему. Понятное дело, что подобные сентенции стоят очень дешево – их и Фома Опискин в большом количестве произносил – и выделить их из живой массы художественных образов и картин не представило бы никакого труда. Теперь же нам предстоит операция несколько более сложная.
Кроме того, мы должны еще взглянуть на внешнюю сторону литературной карьеры Достоевского. Говоря о жестоком таланте, который мог бы выработаться из Фомы Опискина, если бы он не был так глуп и груб, мы видели, что степень его успеха и влияния зависит, во– первых, от размера дарования, а во-вторых, от условий среды, а именно главным образом от того, есть у этой среды настоящее насущное дело или нет. Эти два пункта нам и нужно теперь обсудить по отношению к Достоевскому.
В конце концов мы должны обратиться к статье Добролюбова. В этой статье с величайшею тщательностью разработано «гуманическое» направление Достоевского, а кроме того – она надолго определила тон и характер ходячих суждений о певце «униженных и оскорбленных» и, следовательно, может служить как бы показателем степени влияния Достоевского на современников.
«В произведениях г. Достоевского мы находим одну общую черту, более или менее заметную во всем, что он писал: это боль о человеке, который признает себя не в силах или, наконец, даже не вправе быть человеком, настоящим, полным, самостоятельным человеком, самим по себе. „Каждый человек должен быть человеком и относиться к другим, как человек к человеку“ – вот идеал, сложившийся в душе автора помимо всяких условных и парциальных воззрений, по-видимому даже помимо его собственной воли и сознания, как-то а priori, как что-то составляющее часть его собственной натуры». Такова основная мысль статьи Добролюбова, поскольку он занимается собственно Достоевским, а не «забитыми людьми». Надо еще только прибавить оценку художественного дарования Достоевского. В этом отношении Добролюбов ценил его чрезвычайно низко: он прямо объявил его «ниже эстетической критики», находил у него «бедность и неопределенность образов», «необходимость повторять самого себя», «неуменье обработать каждый характер даже настолько, чтобы хоть сообщить ему соответственный способ внешнего выражения», и т. д. и т. д. Читатель видит, что эта оценка диаметрально противоположна нашей. Мы, напротив, признаем за Достоевским огромное художественное дарование и вместе с тем не только не видим в нем «боли» за оскорбленного и униженного человека, а напротив – видим какое-то инстинктивное стремление причинить боль этому униженному и оскорбленному. Если бы эти оценки исходили из двух противоположных литературных лагерей, то легко, конечно, было бы свалить дело на пристрастие, недобросовестность. Вот, например, я помню в «Русском вестнике» чрезвычайно занимательную статью г. Страхова, в которой доказывалось со свойственною этому критику обстоятельностью, что г. Стахеев есть настоящий и большой художник, а Некрасов и Щедрин – так себе, пустопорожнее место. Ну, а если бы мне пришлось проводить такую странную параллель, то… то я бы никогда не стал ее проводить – до такой степени для меня безапелляционно ясно, где именно находится пустопорожнее место. И весьма вероятно, что кто-нибудь из нас, то есть либо г. Страхов, либо я, руководствуемся недобросовестным пристрастием. Но в настоящем случае ничего подобного сказать нельзя, и спрашивается: откуда же эта резкая разница в суждениях о писателе, несомненно ярком?
Дело объясняется очень просто. На первый взгляд даже слишком просто. Статья Добролюбова написана в 1861 году, а у нас теперь 1882 на исходе. Из этого на первый взгляд еще ровно ничего достойного внимания не проистекает, потому что не обязательно же для нас каждые двадцать лет выворачивать наизнанку свои мнения о крупных представителях русской литературы. Напротив, оценка, сделанная рукою такого мастера, как Добролюбов, должна бы, кажется, пережить не двадцать, а хоть двести лет. Это так, конечно. Но дело-то в том, что никакого выворачивания мнений наизнанку тут нет, а есть вот что. «Униженные и оскорбленные» – последнее из произведений Достоевского, бывших в руках у Добролюбова. Не только «Бесы» или «Братья Карамазовы», а и, например, «Записки из подполья», «Вечный муж» были ему неизвестны. Мы же, хотя и не касаемся теперь самых крупных из произведений Достоевского, но все-таки знаем их. Знаем, следовательно, что со времени «Униженных и оскорбленных» талант Достоевского вырос необычайно. Он, правда, до конца дней своих не отделался вполне от указанных, Добролюбовым недостатков; некоторые из них с течением времени даже еще более определились, как, например, архитектурное бессилие, неспособность обойтись без длинных отступлений, нарушающих гармонию целого. Несмотря на это, талант Достоевского, если можно так выразиться, отточился, получил блеск и остроту, каких и в помине нет в «Бедных людях» или «Униженных и оскорбленных». Отточился и – ожесточился. Или, может быть, наоборот: ожесточился и отточился. Во всяком случае, с нашей точки зрения, процесс был двойственный, развитие таланта шло рядом с его ожесточением. Дело могло происходить так, что, сознав свою специальную силу художественного мучительства, Достоевский увлекся «игрой», как увлекся ею подпольный человек в эпизоде с Лизой, и чем дальше, тем искуснее стал ущемлять сердца своих героев и читателей. А может быть и так, что жестокий по натуре или по условиям своего воспитания талант, перепробовав себя на разные манеры, попал, наконец, – случайно или руководимый инстинктом, – в свою настоящую сферу, где и развернулся со всем блеском, на какой только был способен. Предлагаю следующий опыт. Возьмите первую повесть Достоевского – «Бедные люди», которая так восторженно была встречена Белинским и к которой, впрочем, уже Добролюбов отнесся несравненно сдержаннее, и сравните с последним романом – «Братья Карамазовы», далеко не лучшим из произведений второго периода. «Бедные люди» проникнуты «гуманическим» направлением; но, читая их теперь, после всего того, что мы получили от Достоевского, после всего, что мы вообще за последние годы пережили, – вы не найдете в них ни одной высокохудожественной страницы, а местами так даже получите такое приблизительно впечатление, будто вас насильно манной кашей кормят: кушанье, очень любимое детьми, но редко нравящееся взрослым. В «Братьях Карамазовых», напротив, несмотря на инквизиторский характер основной тенденции, несмотря на ненужную жестокость множества подробностей и вводных сцен, картин и образов, несмотря даже на томительную скуку почти всего, что относится к старцу Зосиме и младенцу Алеше, – вы найдете отдельные места необыкновенной яркости и силы. И напрасно я так говорю: несмотря на инквизиторский характер, несмотря на ненужную жестокость. Скорее, напротив, благодаря жестокости, потому что именно в сфере мучительства художественное дарование Достоевского и достигло своей наивысшей силы. Только он портил дело излишеством, пересаливал, слишком уж терзал своих действующих лиц и своих читателей.
Таким образом, с памяти Добролюбова должна быть совершенно снята ошибка слишком низкой оценки таланта Достоевского. Для своего времени эта оценка была очень верна, и если мы теперь видим некоторую ее ошибочность или даже, собственно говоря, неполноту, так только потому, что мы знаем «Вечного мужа», «Преступление и наказание» и проч., которых Добролюбов не знал. Знаем мы и еще кое-что, чего Добролюбов не знал и не мог знать – в двадцать лет много воды утекло, и пусть бы в это время только вода текла!..
Кажется, все это очень просто. Но есть сторона вопроса более сложная и более любопытная. Сказано было, что и в ранних произведениях Достоевского были уже крупные задатки жестокого таланта, и мы видели их образчики. Мы видели также, что «человек – деспот от природы и любит быть мучителем» и что «человек до страсти любит страдание». Как же это Добролюбов не только не заметил этого, а еще утверждал, будто «человек должен быть человеком и относиться к другому как человек к человеку»? Мы в прошлый раз на каждом шагу встречали у героев Достоевского волчьи инстинкты: злость и мучительство, злость простую, злость квалифицированную, в сочетании с любовью, с дружбой. У Добролюбова же во всей статье есть только два замечания об этом предмете. Во-первых, его поразила обработка характера князя Валковского (в «Униженных и оскорбленных»). «Всматриваясь в изображение этого характера, – говорит Добролюбов, – вы найдете с любовью обрисованное сплошное безобразие, собрание злодейских и цинических черт, но вы не найдете тут человеческого лица. Того примиряющего, разрешающего начала, которое так могуче действует в искусстве, ставя перед вами полного человека и заставляя проглядывать его человеческую природу сквозь все наплывные мерзости, – этого начала нет никаких следов в изображении личности князя. Оттого-то вы не можете ни почувствовать сожаления к этой личности, ни возненавидеть ее тою высшею ненавистью, которая направляется уже не против личности собственно, но против типа, против известного разряда явлений. И ведь хоть бы неудачно, хоть бы как-нибудь попробовал автор заглянуть в душу своего главного героя… Нет ничего, ни попытки, ни намека… Как и что сделало князя таким, как он есть? Что его занимает и волнует серьезно? Чего он боится и чему, наконец, верит? А если ничему не верит, если душа у него совсем вынута, то каким образом и при каких посредствах произошел этот процесс?» Затем, говоря о том, что фигурирующие в повестях Достоевского оскорбленные и униженные люди являются в двух типах – кротком и ожесточенном, Добролюбов замечает о последнем: «Видя, что их право, их законные требования, то, что им свято, с чем они в мир вошли, – попирается и не признается, они хотят разорвать со всем окружающим, сделаться чуждыми всему, быть достаточными самим для себя и ни от кого в мире не попросить и не принять ни услуги, ни братского чувства, ни доброго взгляда. Само собою понятно, что им не удается выдерживать характер, и оттого они вечно недовольны собой, проклинают себя и других, задумывают самоубийство и т. п.».
Вот и все. Как будто Достоевский совсем не тот тонкий знаток и аналитик злобы, мучительства, каким мы его знаем! О собственных же мучительских опытах Достоевского над своими героями и читателями у Добролюбова нет буквально ни одного слова. И едва ли есть возможность объяснить эти пробелы незнакомством критика с позднейшими, характернейшими образчиками творчества Достоевского. Добролюбов во всяком случае знал «Село Степанчиково» и «Двойника». И вот что, между прочим, мимоходом говорит он о героях этих двух повестей: у Достоевского «есть тип человека, от болезненного развития самолюбия и подозрительности доходящего до чрезвычайных уродств и даже до помешательства, и он дает нам г. Голядкина, Фому Фомича». Таким образом, Фома Фомич, терроризующий обитателей села Степанчикова, и Голядкин, безнужно истерзанный самим Достоевским, оказываются стоящими под одной рубрикой. Спора нет, что оба они могут под эту рубрику уместиться, потому что у обоих действительно до болезненности развиты самолюбие и подозрительность. Но не гораздо ли важнее этого сходства то различие, что один – мучитель, а другой – мученик? Как же это критик отметил такую уж слишком общую, расплывающуюся черту сходства и просмотрел такую специальную, резкую, яркую разницу?
В высшей степени любопытно объяснение, придуманное Добролюбовым для «идеи» «Двойника». Голядкин, видите ли, мучается и сходит с ума «вследствие неудачного разлада бедных остатков его человечности с официальными требованиями его положения». Его оскорбляют, и он к этому уже привык, сам себя готов считать за букашку, но вместе с тем в нем еще копошатся какие-то обрывки мыслей о «правах» и о человеческом достоинстве. «И затем его мысли совершенно расстраиваются: он уже не знает, что же он – вправе или не вправе… Он чувствует только одно, что тут что-то не так, неладно. Хочет он объясниться со всеми врагами и недругами, – все не удается, характера не хватает. И приходит он к idee fixe[10 - навязчивой идее (франц.).], к пункту своего помешательства: что жить на свете можно только интригами, что хорошо на свете только тому, кто хитрит, подличает, других обижает. И вот у него является решимость тоже хитрить, тоже подкопы вести, интриговать. Но где уж ему пускаться на такие штуки? Не так он жил прежде, не так приготовлен, характер у него не такой… И господин Голядкин, вообще наклонный к меланхолии и мечтательности, начинает себя раздражать мрачными предположениями и мечтами, возбуждать себя к несвойственной его характеру деятельности. Он раздвояется, самого себя он видит вдвойне… Он группирует все подленькое и житейски-ловкое, все гаденькое и успешное, что ему приходит в фантазию; но отчасти практическая робость, отчасти остатки где-то в далеких складках скрытого нравственного чувства препятствуют ему принять все придуманные им пронырства и гадости на себя, и его фантазия создает ему „двойника“. Вот основа его помешательства. Не знаю, верно ли я понимаю основную идею „Двойника“; никто, сколько я знаю, в разъяснения ее не хотел забираться далее того, что „герой романа – сумасшедший“. Но мне кажется, что если уж для каждого сумасшествия должна быть своя причина, а для сумасшествия, рассказанного талантливым писателем на 170 страницах тем более, то всего естественнее предлагаемое мною объяснение, которое само собой сложилось у меня в голове при перелистывании этой повести (всю ее сплошь я, признаюсь, одолеть не мог)»[11 - Курсив Н. К. Михайловского] .
Все это чрезвычайно тонко и умно; но если бы Добролюбов имел терпение не перелистывать, а читать «Двойника», то, конечно, отказался бы от своего объяснения. Дело в том, что Голядкин № 2, «двойник», не есть только плод расстроенного воображения Голядкина № 1. Если бы это было так, то объяснение Добролюбова было бы не только умно, а и верно или по крайней мере вероятно, мы имели бы дело просто с особым и чрезвычайно интересным видом умопомешательства. Но Голядкин № 2 есть не только галлюцинация, а и реальное действующее лицо повести. Правда, галлюцинация и реальное лицо в течение повести сплетаются и расплетаются, так что местами даже разобрать нельзя, кто перед вами: живой человек с плотью и кровью или же только создание фантазии больного человека. Однако в повести есть прямые указания на действительное существование Голядкина № 2. Так, например, один из сослуживцев героя, разговаривая с ним, удивляется поразительному сходству двух титулярных советников Яковов Петровичей Голядкиных, сидящих друг против друга за одним столом.
Нельзя, конечно, не удивляться такой странной игре природы, и позволительно даже сомневаться, чтобы это природа играла. Положим, что она бывает иногда очень игрива и, играючи, выпускает из своих недр разные диковинки, но только в пределах своей компетенции, в пределах естества. Табель о рангах не ее дело, и титулярных советников не она создает. Историю тоже нельзя обвинять во всех злоключениях «господина Голядкина». История создала табель о рангах и весь тот общий порядок, горячий протест против которого представляет вся статья Добролюбова. Поэтому вините историю, поскольку злоключения Голядкина в самом деле происходят от «неудачного разлада бедных остатков его человечности с официальными требованиями его положения». Пусть из этого разлада проистекает главная струя психического расстройства Голядкина со включением фантастического представления двойника, как это изображено у Добролюбова. Но в живом, реальном двойнике Голядкина, появление которого безмерно увеличило мучения несчастного титулярного советника, не виноваты ни природа, ни история, а виноват исключительно автор. Допустим, что все остальное в повести «Двойник» жизненно и правдиво, что так именно идут дела на грешной земле. Оно, пожалуй, и в самом деле так, в общем, конечно, а не в многочисленных подробностях, полных виртуозной игры на нервах читателя. Пусть же история Голядкина есть история типическая, характерная для большого круга явлений русской ли жизни в частности, или духовной жизни человека вообще. Но согласитесь с тем, что в двух титулярных советниках, которых обоих зовут одними и теми же именами, отчествами и фамилиями, которые как две капли воды друг на друга похожи, которых, наконец, канцелярский фатум усадил друг против друга за одним столом, – согласитесь, что во всем этом нет уже ровно ничего типического. А между тем обстоятельство это играет чрезвычайно важную роль в повести. И ответственность за причитающуюся долю мучений «господина» Голядкина нельзя валить на жизнь, едва ли когда-нибудь создававшую такую комбинацию. Отвечать должен автор, жестокая фантазия которого сделала из до невозможности исключительного случая источник мучений для человека, без того несчастного. И спрашивается, зачем же второй Голядкин понадобился? Я думаю, что этот вопрос совершенно законен, а это уже плохой знак для художественного произведения. Самая возможность его показывает, что тут есть какой-то изъян по части жизненной правды. Художник может и должен иметь свои цели, может и должен их преследовать путем искусства, но вместе с тем его отношения к читателю должны допускать только один вопрос относительно той или другой подробности произведения, именно вопрос – почему? Например: почему господин Голядкин сошел с ума? Потому-то и потому-то, читайте повесть «Двойник» – и получите полные ответы. Но если в уме читателя возникнет вопрос: зачем? например, зачем явился Голяднин № 2? – так это значит, что для появления этого лица нет никаких удовлетворительных резонов в том уголке жизни, которую повесть «Двойник» изображает. Оно введено автором насильственно, вопреки жизненной правде. Но это еще не беда была бы, а только полбеды, потому что нельзя же требовать от художественного произведения совершенства. Многое пишется наскоро, второпях, а известно, что Достоевский именно всегда так писал, где же тут каждое лыко в строку ставить! Наконец, область искусства допускает, даже в величайших своих созданиях, множество условностей и, следовательно, искусственности. Если, например, иметь в виду только требования жизненной правды во всей их полноте и неумолимости, то видимая зрителями тень отца Гамлета окажется совершенной бессмыслицей. Попробуйте устранить все подобные условности, и во всех отраслях искусства камня на камне не останется. Очень забавны те новаторы «реалисты» и «натуралисты» разных мастей, которые требуют, чтобы художник – поэт, беллетрист, музыкант, живописец – копировал природу; чтобы, например, беллетрист с точностью рассказал, сколько раз в день его герой высморкался; чтобы оперный оркестр гнусящими звуками изображал гнусный характер поющего на сцене злодея, и т. п. Как будто это возможно! У нас, например, одно время музыкальные новаторы, во имя жизненной правды, гнали собственно пение и возводили на пьедестал речитатив. Оно, конечно, в жизни так не бывает, чтобы умирающий человек пел сладкозвучным голосом или чтобы какие-нибудь три заговорщика в самую важную для их дела минуту занимались пением, и притом непременно один басом, другой баритоном, третий тенором. Этого не бывает, но ведь и речитативом тоже никто не говорит в жизни…
Итак, некоторая искусственность или насильственность со стороны автора, в ущерб жизненной правде, может быть допущена. Но если уже она есть, если в уме читателя возник вопрос – зачем, то необходимо приискать ответ и затем судить произведение, а может быть, и автора, с точки зрения этого ответа. Зачем тень отца Гамлета, будучи галлюцинацией наследника датского престола, разгуливает по сцене, разговаривает, как живое, реальное лицо? Затем, чтобы эта галлюцинация датского принца стала как бы коллективной галлюцинацией зрителей (коллективные галлюцинации – достоверный психический факт), проникнутых сочувствием к несчастному положению принца. Зачем двойник, галлюцинация господина Голядкина, находит себе точную копию в жизни, в лице настоящего, живого Якова Петровича Голядкина № 2? – не знаю, и читатель тоже не знает… Однако благодаря Достоевскому, благодаря его «проникновению» в разные мрачные глубины человеческого духа мы с читателем можем догадываться: Голядкин № 2 насильственно введен в повесть затем же, зачем Фома Опискин вводит французский язык в село Степанчиково, зачем он зовет Гаврилу «мусью шематоном», зачем подпольный человек рисует Лизе мучительно раздражающие «картинки», зачем Трусоцкий сверлит Вельчанинова – для «игры», для жестокой игры на нервах. Если Достоевский не разъяснил нам окончательно эту мрачную сторону человеческой души, вполне достойную и научного исследования и художественного изображения, то все-таки очень много сделал для нашего в этом отношении просвещения. Он дал нам такие живые образчики этого дикого чувства, такие яркие портреты носителей его, что по крайней мере в самом факте специальной мучительской наклонности не может уже быть никакого сомнения. Достоверно, что есть люди, мучающие других людей не из корысти, не ради мести, не потому, чтобы те люди им как-нибудь поперек дороги стояли, а для удовлетворения своей мучительской наклонности. Эта наклонность проявляется и в искусстве, в жестоких талантах, каков сам Достоевский.
Возвращаясь к статье Добролюбова, надо будет все– таки сказать, что одним недосмотром нельзя объяснить ее неполноту или ошибочность. Положим, что он просмотрел истинную роль Голядкина № 2 в повести «Двойник». Но такой проницательный критик мог бы и при этом условии, касающемся, собственно, частности, хотя и очень характерной, уловить тот общий дух мучительства, которым дышит творчество Достоевского. А между тем он ее не только не уловил, а еще усвоил Достоевскому «гуманическое» направление. Мало того, не заметил или по крайней мере не отметил разницы между мучителем Опискиным и мучеником Голядкиным. И того мало, Добролюбов так скомбинировал картины, сцены, характеристики, образы Достоевского, что из всего этого вышло какое-то не совсем определенное, но во всяком случае отрицательное отношение к тому общему порядку вещей на Руси (тогдашней), который создает униженных и оскорбленных, принижает личность до тупой покорности или какого-то не то жалкого писка, не то безумного бреда, исправляющего должность протеста. В этом, собственно, состоит весь смысл статьи Добролюбова. А между тем уже в «Идиоте» (1868) Достоевский устами одного из действующих лиц резко и определенно выразил одну из своих заветных мыслей, впоследствии много раз им развитую, а именно: кто у нас нападает «на существующие порядки вещей», тот нападает «на самую сущность наших вещей, на самые вещи, а не на один только порядок, не на русские порядки, а на самую Россию».
По-видимому, одно из двух: или Добролюбов грубо ошибался, или Достоевский с течением времени резко изменился. В сущности, однако, не было ни того, ни другого: ни грубой ошибки, с одной стороны, ни резкой перемены, с другой.
VII
В «Униженных и оскорбленных» Достоевский рассказывает:
«Я прочел им (семейству Ихменевых) мой роман в один присест. Мы начали сейчас после чаю, а просидели до двух часов пополуночи. Старик сначала нахмурился. Он ожидал чего-то невообразимо высокого, такого, чего бы он, пожалуй, и сам не мог понять, но только непременно высокого; а вместо того вдруг такие будни и все такое известное, вот точь-в-точь как то самое, что обыкновенно кругом совершается. И добро бы большой или интересный человек был герой или из исторического что-нибудь, вроде Рославлева или Юрия Милославского; а то выставлен какой-то маленький, забитый и даже глуповатый чиновник, у которого и пуговицы на вицмундире обсыпались, и все это таким простым слогом описано, ни дать ни взять как мы сами говорим… Страшно! Старушка вопросительно взглядывала на Николая Сергеича и даже немножко надулась, точно чем-то обиделась. „Ну, стоит, право, такой вздор печатать и слушать, да еще и деньги за это дают“ – было написано на ее лице. Наташа была вся внимание, с жадностью слушала, не сводила с меня глаз, всматриваясь в мои губы, как я произношу каждое слово, и сама шевелила своими хорошенькими губками. И что ж? Прежде чем я дочел до половины, у всех моих слушателей текли из глаз слезы. Анна Андреевна искренно плакала, от всей души сожалея моего героя и пренаивно желая хоть чем-нибудь помочь ему в его несчастиях, что понял я из ее восклицаний. Старик уже отбросил все мечты о высоком: „С первого шага видно, что далеко кулику до Петрова дня; так себе, просто рассказец; зато сердце захватывает, – говорил он, – зато становится понятно и памятно, что кругом происходит; зато познается, что самый забитый, последний человек есть тоже человек и называется брат мой!“ Наташа слушала, плакала и под столом, украдкой, крепко пожимала мою руку. Кончилось чтение. Она встала; щечки ее горели, слезинка стояла в глазах; вдруг она схватила мою руку, поцеловала ее и выбежала вон из комнаты».
Известно, что в «Униженных и оскорбленных», в той части похождений Ивана Петровича, которая касается его литературных занятий, Достоевским введено несколько автобиографических черт: говорится о критике Б. (Белинском), восторженно встретившем первый роман Ивана Петровича, рассказывается примерно содержание «Бедных людей», сообщается манера писания Ивана Петровича, весьма сходная с манерой самого Достоевского, и проч. И можно думать, что Достоевский и сам переживал нечто вроде тех счастливых минут, которые достались Ивану Петровичу в только что приведенном рассказе о чтении первого романа в кругу близких и чутких людей. Конечно, тут дело не в подробностях, созданных авторской фантазией в видах завязки и развязки романа, не в своеобразных, например, отношениях Ивана Петровича к семейству Ихменевых вообще и к Наташе в особенности. Но мы знаем, что Достоевскому была лично знакома та гордая радость, которую должен был испытывать Иван Петрович при виде слез Ихменевых и горячего поцелуя Наташи. Если в его жизни и не было совершенно аналогичного эпизода, что в сущности и не важно, то эпизод этот образно и вместе с тем как бы схематически изображает прием, оказанный читающим русским людом первому роману Достоевского. В статье Белинского можно найти отражение Наташиного страстного поцелуя и слез сочувствия Ихменевых. Словом, Иван Петрович, Достоевский то ж, на первом же шагу на поприще литературы получил такое трогательное, осязательное и подмывающее одобрение, какое вообще редко достается писателю. Иван Петрович, Достоевский то ж, воочию убедился в мощи своего слова, познал на опыте, что может «глаголом жечь сердца людей». Момент в высшей степени важный в истории всякой не чисто стихийной, а способной к самосознанию силы. В этот момент Достоевский находился в таком же положении, в каком находится женщина, впервые убедившаяся в обаятельной силе своей красоты; в каком находится школяр, в первый раз успешно сразившийся с товарищем и понявший, что он уже не «новичок», который должен терпеть всякие издевательства, а что у него самого кулаки есть; в каком находится трибун после первой речи, которая произвела сильное впечатление; полководец, впервые увидавший, что стройные массы солдат не только формально повинуются ему, двигаясь направо и налево, а встречают его с искренним, неподдельным восторгом. И т. д., и т. д. Я прибавил бы, пожалуй, сравнение с тигренком, впервые после материнского молока лизнувшим крови, но это сравнение идет к делу только в отрицательном смысле. Из тигренка должен вырасти кровожадный тигр по непреложным законам естества, и потому можно любоваться его мощной грацией, можно описывать его, можно убить, но судить его нельзя – суда такого нет; у тигров промеж себя, может быть, и есть подходящий суд, но нам до него дела нет; по-нашему, тигр просто подлежит смертной казни, без суда и следствия. Иначе стоит дело относительно других вышеприведенных примеров. Девушка, сознавшая силу производимого ею обаяния, может направить ее к той или другой, непостыдной или постыдной цели, сообразно которой и подлежит оценке. Из разных комбинаций, какие тут возможны, для нас особенно интересна та, когда целью становится самое средство, орудие, самая, так сказать, игра мускулов красоты. Простите это несообразное выражение, но, раз оно сорвалось с языка, позвольте уж заодно говорить и о мускулах мысли, о мускулах творчества и т. п. Все это орудия, и напряжение их должно бы представлять только средства для достижения известных целей. Но бывает так, что, по условиям чисто личного свойства или же по условиям обстановки, обладатель силы ставит себе целью самую игру мускулов. В таких случаях из женщины выходит кокетка, беспредметно заигрывающая со всяким мимоходящим и обращающая свою силу в источник мучений; из трибуна и полководца – честолюбцы, способные ради своих прекрасных глаз натворить множество бед и уложить в могилу тысячи людей. Великое дело – первые пробы силы или власти. Можно сказать даже, что вы не знаете человека, пока он не попробовал власти, да до тех пор и сам он едва ли себя знает. Мало ли людей, искренно клянущихся посвятить себя, добравшись до власти, на благо родины или человечества, а потом упивающихся властью для нее самой: дескать, могу расшибить, могу и помиловать. Нет никакого резона утверждать, что в момент своих горячих клятв такой человек был непременно канальей, что он лгал, чтобы расчистить себе путь к тому наслаждению, которое дается властью над так называемыми ближними. Может быть, и лгал и был канальей, но очень может быть, что он просто не знал самого себя, не предвидел обаятельности того наслаждения, которое дастся ему «дикою, беспредельною властью хоть над мухой». Конечно, это уж не первый сорт человека, но он мог все– таки быть вполне искренен в начале своей карьеры.
И вот перед нами писатель, впервые убедившийся в своей силе. Он и прежде сознавал ее в себе, потому что иначе не принялся бы за работу, но сознавал смутно, и не раз горькие сомнения чередовались в его душе с гордыми надеждами. Теперь конец всем этим колебаниям: присутствие силы засвидетельствовано произведенным ею впечатлением. Писатель убедился, что он властный человек и может двигать сердца своих читателей или слушателей. Но как и куда двигать? Перед ним, как перед сказочным богатырем, расстилаются три дороги, с тою, однако, разницей, что ни на одной из них он ни коня не потеряет, ни сам не погибнет. Какие тут потери, какая гибель! Нет, молодая, сознавшая себя сила играючи преодолеет все препятствия, перелетит через все барьеры и там, где-то в туманной, неведомой дали, водрузит знамя победы! Хорошее время, веселое время…
А дороги-то все-таки предстоят разные, и надо выбирать. Одна из них намечена простодушными восторгами старика Ихменева: «Знаешь, Ваня, это хоть не служба, а все-таки карьера. Прочтут и высокие лица. Вот, ты говорил, Гоголь вспоможение ежегодное получает и за границу послан. А что если бы и ты? а? Или еще рано? Надо еще что-нибудь сочинить? Так сочиняй, брат, сочиняй поскорее! Не засыпай на лаврах. Чего глядеть-то!…Или вот, например, табакерку дадут… Что ж? На милость ведь нет образца. Поощрить захотят. А кто знает, может и ко двору попадешь; или нет? или еще рано ко двору-то?.. Камергером, конечно, не сделают за то, что роман написал: об этом и думать нечего; а все-таки можно в люди пройти, ну, сделаться каким-нибудь там атташе. За границу могут послать, в Италию, для поправления здоровья или там для усовершенствования в науках, что ли; деньгами помогут».
Конечно, если бы наш богатырь захотел идти по этой дороге, то разные табакерки, вспоможения, камергерские ключи посыпались бы на него, как из рога изобилия. Но он по этому пути не пойдет. Не те времена уж, когда для писателя табакерки были желанны и возможны. Зато тем желаннее и возможнее иной путь, тот самый, за один шаг по которому Наташа страстно припала к руке Ивана Петровича и облила ее слезами умиления и сочувствия. Одобрение, полученное Иваном Петровичем, кроме трогательной осязательности формы, имело и вполне определенное содержание. Оно давалось за «простоту» рассказа, в связи с его «гуманическим» направлением: «Познается, что самый забитый, последний человек есть тоже человек и называется брат мой». Опять и опять так же просто и душевно описывать радости и горести забитого человека; опять и опять будить в душе читателя струны сочувствия к униженному и оскорбленному; пробрать силою своего творчества не только благодушных стариков Ихменевых, не только страстную и благородную Наташу, а и тех, кто забивает забитых; пробить их толстые кожи и добраться до самого их сердца – вот путь, по которому пойдет Иван Петрович.
Заманчивый путь, но и трудный путь. Не потому только трудный, что есть на свете внешние препятствия и воздействия или так называемые «независящие обстоятельства», категорически побуждающие молчать, когда хочется говорить, и ехать, когда хочется сидеть дома. Это само собою разумеется. Но избранный Иваном Петровичем путь переполнен иными опасностями, из которых главная состоит в близости и соблазнительности третьей дороги – дороги кокетства в обширном смысле слова, игры мускулов творчества и ненужного мучительства. Она в самом деле очень близка и соблазнительна, эта третья дорога.
Хорошо плачет Наташа! Хорошо видеть плачущею эту ясную девушку при сознании, что ведь это я, Иван Петрович, вызвал эти слезы и вызвал не обидой или оскорблением, а тем, что тронул ее сердце болью за болящего, страданием за страждущего. А если припомнить, что в ясной девушке отражаются и критик Б. и все, что есть мыслящего и чуткого в читающей России, так и подавно хорошо. Очень соблазнительно для пущего эффекта усилить тон, надбавить униженному еще немножко унижени и оскорбленному еще немножко оскорбления: тогда ведь и ясная девушка и все, что в ней для Ивана Петровича олицетворяется, будут еще больше тронуты. Очень это естественное соображение, а между тем отсюда идет наклонная плоскость в сторону отсутствия «простоты», за которую получено одобрение, и присутствия ненужного мучительства, одобрения отнюдь не заслуживающего. С течением времени Иван Петрович со второй дороги может совсем перебраться на третью; первоначальная цель – возбуждение сочувствия к забитому человеку – может постепенно отойти совсем на задний план и уступить свое место тому, что было сначала только средством – игре мускулами творчества. Может, словом, произойти точное воспроизведение двух первых моментов гегелевской формулы диалектического развития: положение перейдет в свое отрицание, сочувствие в мучительство. Разные люди при разных обстоятельствах разно покатятся по этой наклонной плоскости. Как это вышло у Ивана Петровича – нам неизвестно, да и не интересно нисколько. Что же касается самого Достоевского, то он покатился столь быстро, что уже Белинский, при всей своей восторженности от «Бедных людей», должен был назвать последующие произведения Достоевского «нервической чепухой» («даже сильнее», прибавляет г. Пыпин в известной книге о Белинском). «Нервическая чепуха» – это ведь именно и значит отсутствие простоты и присутствие ненужного мучительства. Конечно, не так просто, не так вдруг совершилась эта метаморфоза, и первоначально оба течения довольно долго боролись друг с другом. Одолевало то или другое, смотря по обстоятельствам…
Спрашивается, какие же это обстоятельства, какие условия сдерживают или усиливают раскат по вышеозначенной наклонной плоскости? Прежде всего задерживающие или, напротив того, усиливающие условия могут заключаться в прирожденных личных свойствах писателя: «таланты от бога». Жестокость таланта, как и всякая другая жестокость, может быть результатом несчастного сочетания стихийных сил. Если, например, у Полины, жестоко терзающей «игрока», «следок ноги узенький и длинный, мучительный, именно мучительный», то, значит, ей так на роду написано быть мучительницей. В писателе, однако, прирожденная жестокость таланта может сдерживаться другими, отчасти прирожденными же, стихийными, а отчасти разумными элементами. В художнике на первом плане стоит здесь чувство меры, которое у тонко развитых в художественном отношении натур играет примерно такую же всеконтролирующую роль, как так называемый такт у светских людей. Светский человек, будучи, например, большим негодяем, в силу присущего ему такта не обнаружит своего негодяйства. Тот же такт не позволит светскому человеку сделать какую-нибудь неприличную публичную сцену, хотя бы у него в душе целый ад кипел. Так и в художнике, – чувство меры подавляет и контролирует его личные поползновения. У Достоевского это чувство было чрезвычайно слабо. Талант – чрезвычайно неровный: он то потухал до совершенной бесцветности и томительной скуки, то разгорался сильным и ярким огнем, но никогда не знал меры. За исключением «Мертвого дома» и двух-трех мелких рассказов («Белые ночи», «Маленький герой», «Кроткая»), вполне законченных в смысле гармонии и пропорциональности, все остальное, написанное Достоевским, не поражает нас своею нескладностью, растянутостью, безмерностью (если можно так выразиться) только потому, что мы уж очень привыкли к его манере писания.
Мы представили в прошлый раз образчики этой безмерности в виде рога изобилия несчастий и обид, обрушивающихся на героев, в виде толкотни событий, которых у него в один день совершается столько, сколько другому хватило бы на целый год, в виде ненужных надстроек, вставок и отступлений. Если в некоторых из этих случаев чувство меры оказывается бессильным для обуздания жестокости таланта, то оно было столь же бессильно и тогда, когда Достоевский изображал благожелательные чувства. «Бедные люди», например, трудно читать без некоторой тошноты от чрезмерного обилия всяких «маточек» и «голубчиков моих». А в «Униженных и оскорбленных» Иван Петрович столь чрезмерно пылает самоотвержением, что не только безропотно уступает свою Наташу первому встречному шалопаю, а еще играет роль сводни; словом, столь безмерно благороден, что даже гнусен.
Итак, чувство меры, будучи в Достоевском крайне слабо, не могло его сдержать в движении по наклонной плоскости.
Есть еще одно обстоятельство, которое даже при страшной прирожденной и потому трудно устранимой жестокости таланта могло бы спасти Достоевского от ненужного мучительства, а его читателей и действующих лиц от ненужных мучений. Не помню, кто из героев Эжена Сю, будучи от природы в буквальном смысле слова кровожадным человеком, но, попав под влияние некоторого добродетельного и умного руководителя, становится совершенно несчастным человеком. Стихийные силы натуры влекут его к кровопролитию, а влияние добродетельного и умного руководителя не допускает до кровопролития. Наконец, дело разрешается очень просто: добродетельный и умный руководитель поместил кровожадного героя на бойню мясником. Тут герой мог удовлетворять своим жестоким наклонностям, делая вместе с тем общеполезное дело. Это, конечно, не более как грубая иллюстрация к теории Фурье, по которой страсти и наклонности, вложенные в человека природой, как бы они ни были, по-видимому, безобразны, нуждаются только в известном приспособлении, чтобы сослужить обществу полезную службу. Нам здесь нет дела ни до остроумной теории Фурье, ни до грубой иллюстрации Сю. Но она, эта иллюстрация, может быть именно вследствие своей грубости, если не разрешает нашего вопроса, то наглядно рисует возможность его разрешения. В самом деле пусть злоба, жестокость, мучительство исчезнут с лица земли, и пусть на их могилах пышным цветом расцветает любовь. Чего лучше! Но улита едет, когда-то будет. И доколе нет «на земле мира и в человецех благоволения», самый любвеобильный человек допустит, что возможна и даже обязательна «необузданная, дикая, с лютой подлостью вражда». А всякая вражда требует иногда людей жестоких (не мучителей, конечно, которые ни для какого дела не нужны). Вот и пусть бы Достоевский взял на себя в этой вражде роль, соответственную его наклонностям и способностям, которые нашли бы себе, таким образом, определенную точку приложения. Все равно как нашли себе таковую кровожадные наклонности героя Сю. Но у героя этого был добродетельный и умный руководитель, столь добродетельный, умный и притом могущественный, что в действительной жизни такого, пожалуй, не встретишь. Да и сомнительно, чтобы Достоевский, сам человек властный, надолго подчинился какому-нибудь личному руководительству. Руководителем для него могло бы стать только что-нибудь бесплотное, идеальное, перед чем самому гордому и властному человеку не стыдно склониться, и вместе с тем такое, чтобы оно не в облаках где-нибудь носилось, а стояло всегда тут, близко, постоянно охватывая собою человека. Люди смирные и слабые могут довольствоваться тою нравственною дисциплиною, которая дается личным руководительством или велениями заоблачных начал. Люди же сильные, властные, сами умеющие так или иначе управлять сердцами людей, не наденут на себя ярма личного руководительства. Знакома им (не всем, конечно) и «с небом гордая вражда». Но властные люди могут – и это не только теоретическое соображение, а и многократный исторический факт – склоняться перед идеальным началом, в создании которого они сами принимали участие, в которое они вложили частицу самих себя, своей мысли, чувства, воли; а таким началом может быть только определенный общественный идеал. Будь такой идеал у Достоевского, он не допустил бы его заниматься ненужным мучительством и беспредметною игрою мускулов творчества, а направил бы его жестокие наклонности в какую-нибудь определенную сторону. Но у Достоевского такого идеала не было…
Говорю не в качестве человека партии. Весьма вероятно, что общественный идеал Достоевского, если бы он у него был, оказался бы чем-нибудь вроде утопии г. Каткова – безотрадной, безбрежной пустыней, где только изредка среди всеобщего безмолвия раздаются крики: «Караул!», «Держи!», «Ура!». С моей скромной личной точки зрения, равно как и с точки зрения того великого бога, которому я молюсь, тут нет ровно ничего хорошего и есть очень много скверного. Но, не говоря уже о том, что Достоевский мог быть и счастливее в выборе своем, даже в этом случае он был бы избавлен от беспредметной «игры» на нервах читателей. Но, повторяю, никакого сколько-нибудь определенного общественного идеала у Достоевского не было. Почему не было? – это вопрос особый и для разрешения довольно трудный. Мы и не будем им заниматься, ввиду отсутствия нужных биографических данных. Нам важен только самый факт. Если же кто в этом факте усомнится или попробует сложить какой-нибудь общественный идеал из тех обломков личной морали славянофильской доктрины, которыми пробавлялся Достоевский, в особенности в последнее время, то такому скептику я предложу вложить персты свои в язвы гвоздиные.
Рассуждая о некоторой теории общественных отношений (по всем видимостям социалистической), подпольный человек, между прочим, пишет:
«Тогда-то – это все вы говорите – наступят новые экономические отношения, совсем уже готовые и тоже вычисленные с математическою точностью, так что в один миг исчезнут всевозможные вопросы, собственно потому, что на них получатся всевозможные ответы. Тогда выстроится хрустальный дворец. Тогда… Ну, одним словом, тогда прилетит птица Каган. Конечно, нам нельзя гарантировать (это уже я теперь говорю), что тогда не будет, например, ужасно скучно (потому что что ж и делать-то, когда все будет расчислено по табличке), зато все будет чрезвычайно благоразумно. Конечно, от скуки чего не выдумаешь! Ведь и золотые булавки от скуки втыкаются