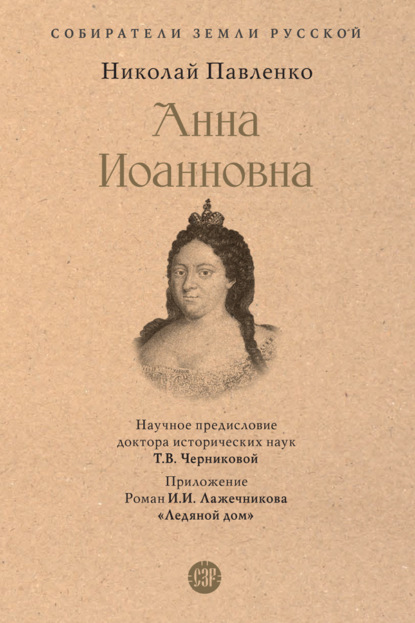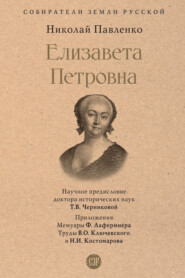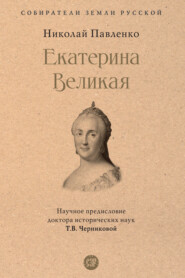По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Анна Иоанновна
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Источники русского происхождения подтверждают свидетельства иностранцев – указы о «винах Остермана» неоднократно подчеркивали, что важнейшие решения он принимал самостоятельно, не советуясь с коллегами. «В важных делах с прочими поверенными персонами откровенных советов не держал, но большей частью поступал по своей собственной воле, о некоторых важных государственных делах генеральных советов собирать не старался и не хотел». И далее: «Мнения свои о важнейших государственных делах так переменял, как оные в угодность другим быть могли, а не так, как присяжная должность требовала».
Напомним еще об одном свойстве Андрея Ивановича – он никогда не афишировал своей причастности к важным событиям и обладал богатым арсеналом средств оставаться незамеченным, непричастным к происходившему. Но главное средство из этого арсенала состояло в умении сказываться больным. К слову сказать, эта хитрость от частого ее использования перестала быть тайной – при дворе и в среде иностранных дипломатов говаривали: раз Андрей Иванович обложился подушками, жди крутых перемен.
Характеристика Остермана будет ущербной без освещения его частной жизни. Здесь он выглядит совсем иным человеком: лукавство, коварство, мстительность, жестокость он оставлял на службе, и, переступив порог дома, он предстает совсем иным человеком: он нежно любящий супруг, заботливый отец – словом, самый добродетельный семьянин, не вызывающий нареканий со стороны самого строгого судьи.
Супругу Остерману выбрал сам Петр I – 18 декабря 1720 года состоялась помолвка с дочерью ближнего боярина и стольника Ивана Родионовича Стрешнева Марфой. Жениху было 34, а невесте 22. Столь поздний брак жениха был нетипичным явлением того времени – Андрей Иванович, видимо, ожидал выгодной партии.
Марфа Ивановна выходила замуж не по любви и не по собственной воле, а по воле царя, которой не мог противиться и отец, придерживавшийся старомосковских взглядов и презиравший заезжих иноземцев. Но разве мог отец предполагать, что его зять совершит умопомрачительную карьеру и станет фактическим правителем России?
Будучи уже в ссылке в Березове, Остерман на странице немецкой Библии сделал следующую надпись: «1721 года, января 21-го старого штиля праздновано бракосочетание наше со всем возможным великолепием, при котором с обеих сторон их императорские высочества, заступая место родителей наших, присутствовать изволили, и мы от высочайших особ, их императорских высочеств отвезены были к брачному ложу».
Получив богатое приданое деньгами, драгоценностями и поместьями, Андрей Иванович был обласкан полюбившей его супругой. Супруг отвечал взаимностью и преданностью семейному очагу. 21 марта 1722 года Марфа Ивановна родила сына Петра, умершего чуть более года спустя, в марте 1723 года родился еще один сын – Федор, в 1724 году – дочь Анна, а год спустя – сын Иван.
В отличие от своего шефа графа Г. И. Головкина, человека жадного и скупого, Остерман, по свидетельству М. М. Щербатова, держал открытый стол – щедрость, характерная для вельмож не первой, а второй половины XVIII века. Но современники отметили и бытовые свойства Андрея Ивановича, не вызывающие симпатий: он был равнодушен к экипировке, появлялся в неряшливом виде и настолько пренебрегал баней, что от него неприятно пахло. Манштейн отмечал, что серебряный сервиз в доме находился в таком грязном виде, что напоминал оловянный.
Историки располагают письмами Марфы Ивановны супругу, содержание которых позволяет судить о счастье и любви, царивших в семье. Первое письмо ее датировано 2 марта 1723 года, когда весь двор, в том числе и Остерман, отправился в Москву на коронацию супруги Петра I Екатерины. Будучи на сносях (дочь Анну родила 22 апреля 1724 года), Марфа Ивановна должна была остаться в северной столице. Надо отметить, что письма супруги отличались нежностью, неподдельной тоской от разлуки. Супруга беспокоится о здоровье Андрея Ивановича, вспоминает о его болезни в Риге, в канун отъезда на Ништадтский конгресс, заявляет, что «покуль не увижу тебя, моя радость, то мне кажется, что ты все нездоров». Супруга она называет «батюшкой дорогим», «любезным другом», обещает «до смерти своей любить» и надеется на взаимность, заклинает не печалиться о ее здоровье. Заканчивается письмо словами: «Любимый мой друг дорогой батюшка Андрей Иванович, живи весело и будь здоров и меня, бедную, люби всегда и я тебя до смерти буду любить. Верная твоя Марфутченка Остерманова».
Всего опубликовано пять писем за март – апрель 1724 года, одно из них хозяйственного содержания, а четыре – с излиянием нежных чувств. Последнее из них датировано 6 апреля, то есть за две с половиной недели до родов: «Богу единому известно, каково мне твое здоровье потребно и каков ты мне мил ныне, в каком я состоянии обретаюсь, однако ж ради тебя желаю себе живота, хотя бы и умерла, только бы при твоих глазах и в твоих дорогих руках»[114 - РГАДА. Госархив. Разряд VI. Д. 321. Ч. I. Л. 8–11; ИВ. 1884. № 9. С. 611.].
Нежное письмо Марфы Ивановны к супругу, правда, недатированное, опубликовал С. М. Соловьев. Оно поражает непосредственностью, искренностью, теплотой, переживаниями от разлуки с супругом в «великий праздник». «Я вчера, – извещала Марфа Ивановна Андрея Ивановича, – у обедни сколько могла крепилась, что в такой великий день не плакать только не могла укрепить: слезы сами пошли»[115 - Соловьев С. М. Указ. соч. Кн. X. С. 301, 302.]. Даже не верится, чтобы Андрей Иванович, имевший репутацию скрытного, черствого и жестокого человека, раскрылся неожиданными чертами своего характера в семейной жизни, в которой он пользовался любовью супруги и отвечал ей взаимностью.
Марфа Ивановна разделила участь супруга и отправилась с ним в Березов 18 января 1742 года. С мая 1742 года Остерман стал поправляться от подагры. Поручик Космачев, командовавший караулом, получил подписанный 10 ноября 1746 года указ прислать в Сенат «известие, по получение сего указа в самой скорости: означенный Остерман ходит ли сам и буде де ходит, давно ли ходить начал. И о сем указе никому тебе, Космачеву, ни под каким видом не объявлять, а содержать в секрете».
14 января 1747 года Космачев отвечал: «Остерман освободился от болезни и начал ходить с 1742 года, августа месяца, о костылях, а потом не в долгое время и без костылей зачал ходить. И по се число прежней его болезни не видим». Не ясно, прикидывался ли он больным настолько, что с 1736 года не выходил из дому, или на него благотворно подействовал сибирский климат и более скромная трапеза ссыльного, но донесение Космачева представляет известный интерес.
С 5 мая 1747 года по доношению того же поручика Космачева Остерман «заболел грудью, впадал в обморок, и 21 мая того же года умер». Хоронила его Марфа Ивановна. Освобождена она была указом 21 июня 1749 года, в январе следующего года она прибыла в Москву, где и скончалась в феврале 1781 года на 84-м году от рождения.
Зададимся вопросом: какое отношение имел обрусевший немец Остерман к немецкому засилью? Самое прямое. С его именем связаны неудачные внешнеполитические акции правительства, а также предоставление теплых местечек своим соотечественникам. Маньян 12 февраля 1732 года доносил: «Все главные должности, как гражданские, так и военные, заняты иностранцами, представляющими из себя клевретов или вообще людей, преданных Остерману»[116 - РИО. Т. 81. С. 308.].
Суммируя отзывы об А. И. Остермане, можно составить о нем общее представление как о человеке неординарном, но не выдающемся, чиновнике, но не государственном деятеле. Он был всего лишь немцем-педантом, прекрасно ориентировавшимся в хитросплетениях придворной жизни, талантливым исполнителем чужой воли, человеком, чуравшимся крутых поворотов как в личной судьбе, так и в судьбе государства, умевшим подстраиваться под вкусы тех, кто стоял выше его. Надобно отметить и такие несомненно привлекательные черты его натуры, как трудолюбие, колоссальную работоспособность, непричастность к казнокрадству и мздоимству, умение не поддаться соблазну быть подкупленным дипломатами иностранных государств. Достойна похвалы его супружеская верность, трогательная забота о супруге и детях.
В то же время этот вкрадчивый и внешне приветливый человек за порогом своего дома был крайне честолюбив, мстителен и коварен. Настойчиво и последовательно, ступень за ступенью он взбирался к вершинам власти, сделался необходимой принадлежностью трона и выполнял все это столь ловко и незаметно, что лишь немногие современники замечали и его лукавство, и готовность предать своего покровителя, и умение скрывать за обаятельной улыбкой подлинные чувства и в критические минуты сказываться больным, чтобы не участвовать в схватке, а затем примкнуть к победившей стороне.
Третьим влиятельным немцем был Бурхард Христофор Антонович Миних.
Генрих Бухгольц.
Портрет Миниха Бурхарда Кристофа. 1765 г.
Холст, масло. Государственная Третьяковская галерея, Москва
Родился Миних в 1683 году в крестьянской семье, однако глава ее со временем получил чин дворянина и был уволен в отставку в чине подполковника. Располагая приличным по тому времени образованием, Миних начал службу в 17-летнем возрасте в должности то пехотного офицера, то инженера, руководившего сооружением канала. Канальное дело ему было знакомо – этой специальностью владел его отец. В 1716 году в чине полковника Миних был принят Августом II на польско-саксонскую службу. В 1718 году велись переговоры с Герцем о поступлении на шведскую службу; но смерть Карла XII и казнь Герца помешали осуществлению этого намерения. Тогда он решил попытать счастья в России и, прибыв в Петербург в 1721 году в чине генерал-лейтенанта, представил Петру записку, в которой изложил степень своей подготовленности к различным профессиям. В записке он признавался, что совершенно не знаком с морской и кавалерийской службами, поверхностно знал артиллерийское дело и гражданскую архитектуру и считал себя специалистом по службе в пехоте, сооружению и штурму крепостей.
В 1723 году Миних по поручению Петра I обследовал ход строительства Ладожского канала, подал царю записку, в которой проявил хорошее знакомство с канальным делом. В результате в январе 1724 года последовал указ Петра I: «Канальное дело во управление поручить ему, генерал-лейтенанту Миниху». Осенью 1724 года Петр I лично осматривал строительные работы и остался доволен результатами усердия Миниха: в весенне-летние месяцы этого года было вырыто около 12 верст канала, в то время как за предшествующие шесть лет было сооружено значительно меньше.
Историк-любитель второй половины XVIII века И. И. Голиков, автор 30-томного сочинения о «Деяниях императора Петра Великого», запечатлел услышанные кем-то слова царя, сказанные супруге: «В Минихе нашел я такого человека, который скоро приведет к окончанию Ладожский канал. Я еще не имел ни одного чужестранца, который бы так, как сей, умел предпринимать и совершать великие дела. Помогайте ему во всем, чего он пожелает»[117 - Голиков И. И. Деяния императора Петра Великого. Т. 10. М., 1839. С. 87.]. Проверить эти слова не представляется возможным, но, несомненно, у Петра Великого были основания для хвалебной оценки деятельности Миниха – он получил назначение «над всеми казенными и гражданскими строениями генерал-директором».
После смерти Петра Великого Михин в полной мере проявил такую черту характера, как алчность, – он то и дело осаждал Екатерину I и Петра II челобитными с просьбой о пожалованиях, которые, впрочем, удовлетворялись: он просил наградить его пятью тысячами рублей за то, что при строении Ладожского канала учинил в казну «немалую прибыль», просил пожаловать «деревеньку Ледново», в потомственное владение дом в Петербурге, наконец, должность генерал-цейхмейстера, то есть главнокомандующего артиллерией России.
Просьба поручить управление артиллерией изобличает в Минихе лишь одну не вызывающую симпатий черту – безмерное честолюбие и карьеризм. Дело в том, что в записке, поданной Петру I в 1721 году, он признавался: «По артиллерии равномерно не могу служить, не зная ее в подробности и умея распоряжаться ею только при атаке и обороне крепостей и в сражениях». В 1728 году он был пожалован Петром II генерал-губернатором столицы, графским достоинством, а в следующем году получил должность, которой давно домогался, – генерал-фельдцейхмейстера.
Не зная в тонкости дела, которым взялся командовать, Миних с немецкой педантичностью сосредоточил свое внимание на внешнем блеске и обрядной стороне управления артиллерией. Чтобы угодить Анне Иоанновне, тоже не равнодушной к внешнему блеску, Миних особое внимание уделял фейерверкам, устройство которых находилось в его ведении. Свою энергию, которой обладал в избытке, он отдал организации московских придворных увеселений. Усердие Миниха было замечено императрицей. В 1731 году «Санкт-Петербургские ведомости» извещали о пожалованиях Миниха «как за его государству поныне верно показанные зело полезные заслуги… изрядными вотчинами и знатною суммою…». В том же году в день коронации Анна Иоанновна пожаловала Миниху орден Андрея Первозванного – высшую награду России.
Мы не станем перегружать главу деталями управления Минихом артиллерией. Приведем несколько отмеченных им «великих неисправностей»: «1) офицеры не только б подчиненных своих экзерциции могли обучать, и в протчих воинских поступках исправлять, но и сами чести своему генералитету отдать не умеют; 2) у капралов некоторых на обшлагах и позументу не нашито; 3) у подпоручика у том смотре башмаки были востроносые, а не тупоносые, а шляпа весьма велика и не в такую пропорцию, как офицеру иметь надлежит… 5) багинеты многие не в надлежащих местах носят». Прочие пункты в том же духе: унтер-офицеры и рядовые не имеют кос, пользуются износившимися портупеями и т. д.[118 - Хмыров М. Фельдцейхмейстерство графа Миниха // Записки фельдмаршала графа Миниха. С. 231, 318.]
Если внутреннюю и внешнюю политику определял Остерман, то военное ведомство и командование армией было отдано на откуп Миниху – человеку, пользовавшемуся огромным расположением императрицы и едва не ставшим ее фаворитом. Это доверие выразилось в чинах и должностях Миниха, а также в щедрых пожалованиях поместьями и деньгами: в феврале 1732 года он занял должность президента Военной коллегии, а в марте стал фельдмаршалом. Миних занимал еще четыре должности, случай для XVIII века уникальный. Совершенно очевидно, что Миних не мог одновременно успешно нести бремя пяти должностей, в особенности в годы, когда Россия вела войну. Уделять внимание остальным должностям он мог лишь во время кратковременного пребывания в столице, которую навещал в месяцы затишья на войне. И все же плоды немецкого влияния на организацию вооруженных сил России сказались как на тактике, которой руководствовался Миних при осуществлении военных операций и заимствованной у прусской армии, так и в экзерцициях и экипировке солдат и офицеров. Английский резидент К. Рондо доносил в сентябре 1732 года своему двору о повелении императрицы, «дабы впредь русские войска обучались по прусскому образцу»[119 - РИО. Т. 66. С. 507.]. Косы и пудра, заимствованные у прусской армии, тоже являлись «подарком» Миниха русским солдатам.
Нельзя не отметить одно свойство натуры Миниха – он был удачлив, причем настолько, что едва не проигранные сражения, как по мановению волшебной палочки, оборачивались победой, как то случилось при взятии Очакова и сражении под Ставучанами. Военное искусство Миних проявил лишь при овладении Перекопом, но этот успех перечеркивается неудачным походом в глубь Крыма в 1736 году.
Что касается пороков, то у Миниха их было в избытке. Уже перечисленные можно дополнить склонностями к интригам, авантюризму, хвастовству. Незначительные по масштабам победы под его пером превращались в крупные военные успехи. В гражданских делах он тоже приписывал себе заслуги, к которым не имел отношения. Так, согласно версии Миниха, ему принадлежала мысль об учреждении Кабинета министров. Остерман, «зная, что императрица питала ко мне большое доверие, просил меня предложить ее величеству учредить Кабинет, который заведывал бы важнейшими государственными делами и мог посылать именные указы Сенату и другим присутственным местам». Миних будто бы выполнил просьбу Остермана, императрица согласилась с предложением, и Кабинет был якобы учрежден в 1730 году, «тотчас по вступлении на престол императрицы, причем она настаивала, чтобы Миних стал членом Кабинета»[120 - Миних Б. X. Записки. С. 44.]. Здесь что ни слово, то ложь, искажение хода событий, стремление поставить себя в их центре.
Один из современников сообщает факт жестокости Миниха. Он относится к 1740 году, когда назначение Бирона регентом вызвало острое недовольство в офицерском корпусе, – девять офицеров арестовали и пытали в присутствии генерал-прокурора Трубецкого, генерала Ушакова, Бирона и Миниха. «Раздражение графа Миниха дошло до того, что он… не мог вдоволь упиться страданиями, причинявшимися этим офицерам»[121 - РИО. Т. 92. СПб., 1894. С. 39, 40.].
Другим примером жестокости фельдмаршала является дело шведского майора Синклера. Оно заслуживает внимания прежде всего потому, что высвечивает нравственный облик как Миниха, так и его покровительницы Анны Иоанновны. Оба они выступают в двух ипостасях: публичной в роли респектабельных людей, осуждающих убийство майора, и тайной, характеризующей их заказчиками и организаторами этого убийства.
Синклер имел репутацию явного недруга России. Он должен был доставить из Стамбула в Стокгольм секретные депеши, в которых турки склоняли шведов включиться в войну против России. О миссии Синклера стало известно русскому резиденту в Швеции М. П. Бестужеву-Рюмину, предложившему русскому двору коварный план убийства Синклера с тем, чтобы овладеть депешами, которые он должен был проездом через Польшу доставить в Стокгольм. «Мое мнение – писал Бестужев, – чтоб его анлевировать (уничтожить. – Н. П.), а потом пустить слух, что на него напали гайдамаки или кто-нибудь другой. Я обнадежен, что такой поступок с Синклером будет приятен королю и министерству».
План Бестужева в Петербурге одобрили и даже его удалось реализовать, но сработано было так грубо, что назревал скандал европейского масштаба и случившееся давало повод Швеции без околичностей объявить войну России. Создавалась опасность войны на два фронта, что, естественно, не устраивало русский двор, стремившийся отмежеваться от причастности к преступлению.
Императрица в послании к Миниху называла убийство Синклера богомерзким, безумным и безответственным поступком, но рекомендовала, если убийцы «из наших людей суть», то их «надлежит самым тайным образом отвесть и содержать, пока не увидим, какое окончание сие дело получит и не изыщутся ли иные способы оное утолить».
Рескриптом русскому дипломату Кейзерлингу в Дрездене Анна Иоанновна решительно отвергала всякую причастность России к убийству: «Не токмо мы к тому никогда указу отправить не велели, но и не чаем, чтоб кто из наших оное определить мог».
Столь же решительно императрица отклоняла причастие русских агентов к «богомерзкому делу» и в рескрипте в Вену к дипломату Бракелю: «Нам же никогда в мысли не приходило, что от наших людей он (Синклер. – Н. П.) до шленских границ преследован бьггь мог, яко же мы по сие время верить не хощем, чтоб то наши люди были, но некоторые интриги в том обращаются, от кого б оные ни произошли».
Миних в тон рескрипту Анны Иоанновны отвечал ей: «Я знаю, что все вашего императорского величества дела и поведение не на чем, как на великодушии и честности, основаны, чего я сам с самых моих молодых лет по сие время навыкнуть тщился…»
Таким образом, императрица поручала своим представителям убеждать иностранные дворы в том, что Россия никакого касательства к гибели Синклера не имела. Эту абсолютно ложную версию должна была подкрепить и мысль о порядочности и офицерской чести фельдмаршала Миниха. Императрице и Миниху хотелось, чтобы именно так, а не иначе выглядело дело Синклера.
Подлинную картину событий отразили не цитированные выше письма императрицы и Миниха, содержание которых предполагалось для успокоения иностранных дворов, а секретнейшие документы, повествующие о том, кто был организатором и исполнителем преступной акции. С холодной расчетливостью инструкция, подписанная Минихом 28 сентября 1738 года, поручает драгунскому поручику Левицкому тайным образом в Польше «перенять» Синклера со всеми имеющимися при нем письмами. «Ежели такой случай найдете, – продолжал Миних, – то старатца его умертвить или в воду утопить, а письма прежде без остатка отобрать».
1 августа 1739 года Миних донес императрице о выполнении Левицким поручения. Синклер убит, а депеши переданы барону Кейзерлингу. Однако «анвелирование» было выполнено Левицким столь топорно, что становилось трудно отрицать причастность русского двора к убийству: Не полагаясь на скромность убийц, их умение молчать, кабинет-министры велели содержать заключенных в полной изоляции, лишив их возможности общения с кем бы то ни было, чтобы затем отправить в ссылку в глухой монастырь в Сибири. Такова цена заверения Миниха не совершать того, «что честности противно», и заявления императрицы, осуждавшей «богомерзкое» убийство[122 - Соловьев С. М. Указ. соч. Кн. X. С. 604, 686–689.].
«Анвелирование» Синклера вызвало огромный резонанс – европейские дворы были единодушны в осуждении этой акции, тем более что она не осталась тайной, ибо союзница России Австрия известила всех, что убийство шведского майора было осуществлено четырьмя русскими офицерами. Но больше всех акцией возмущались в Швеции, где действия России дали повод реваншистам всех мастей для открытия против нее военных действий. Это была не беспочвенная угроза: к русским границам стягивались шведские полки, в Петербурге ожидали шведского вторжения.
Похоже, двор в Петербурге запаниковал и готов был заключить мир с турками. Об этом можно судить по письму императрицы к Остерману с указанием причин, вынуждавших пойти на этот шаг: Россия в одиночестве не в состоянии победить турок – Персия готова заключить с ними мир, а действия Австрии не приносили ожидаемого успеха. Императрица, кроме того, писала о распрях между генерал-фельдмаршалами Минихом и Ласси с генералитетом. С пагубным влиянием этой распри согласился и Остерман: «Бесспорно истинно то, что несогласие между предводителями армии и генералитетом производит следствия зело вредные интересу вашего императорского величества».
Таковы были результаты злодейского поступка Миниха, едва не накликавшего войну России на два фронта. История с Синклером изобличает в злодеянии не только Миниха, но и императрицу.
Общеизвестно, что все современники единодушны в отрицательной оценке человеческих качеств фельдмаршала. Дюк де Лириа, наблюдавший Миниха в 1727–1730 годах, когда тот был еще далек от пика своей карьеры, писал: «Граф Миних, немец, служил генералом от артиллерии, он очень хорошо знал всякое дело и был отличным инженером, но самолюбив до чрезвычайности, весьма тщеславен, а честолюбие его выходило из пределов; он был лжив, двоедушен, казался каждому другом, а на деле не был ничьим; внимателен и вежлив с посторонними, он был несносен в обращении с подчиненными».
Дошедшие до нас документы не уличают Миниха в казнокрадстве и взяточничестве. Но один из современников обвинял в нечистоплотности его супругу: «Его жену считают за женщину корыстолюбивую, и, как утверждают, она ничем более не занимается, как хапаньем и поборами». Вряд ли она это делала без ведома супруга[123 - РИО. Т. 5. С. 453, 454.].
Мы рассказали о наиболее влиятельных немцах, в руках которых сосредоточивалась реальная власть в России. Если бы этот «триумвират» жил в мире и дружбе, действовал согласованно, то немецкому правлению не было бы конца. Но в том-то и дело, что три честолюбца, одолеваемых далеко идущими планами, соперничали друг с другом, ревниво следили за кредитом доверия у императрицы, чем в конечном счете погубили себя.
Самое устойчивое положение в этом триумвирате занимал Бирон, но и он не был освобожден от забот о сохранении за собой «должности» фаворита и должен был зорко следить за лицами, привлекшими внимание императрицы, и принимать срочные меры для удаления соперников от двора.
Возмутителем спокойствия был самый честолюбивый из них, менее других владевший тайнами и искусством дворцовых интриг, посчитавший, что ему все было нипочем, после того как он стал фельдмаршалом и президентом Военной коллегии, – граф Миних.
Напомним еще об одном свойстве Андрея Ивановича – он никогда не афишировал своей причастности к важным событиям и обладал богатым арсеналом средств оставаться незамеченным, непричастным к происходившему. Но главное средство из этого арсенала состояло в умении сказываться больным. К слову сказать, эта хитрость от частого ее использования перестала быть тайной – при дворе и в среде иностранных дипломатов говаривали: раз Андрей Иванович обложился подушками, жди крутых перемен.
Характеристика Остермана будет ущербной без освещения его частной жизни. Здесь он выглядит совсем иным человеком: лукавство, коварство, мстительность, жестокость он оставлял на службе, и, переступив порог дома, он предстает совсем иным человеком: он нежно любящий супруг, заботливый отец – словом, самый добродетельный семьянин, не вызывающий нареканий со стороны самого строгого судьи.
Супругу Остерману выбрал сам Петр I – 18 декабря 1720 года состоялась помолвка с дочерью ближнего боярина и стольника Ивана Родионовича Стрешнева Марфой. Жениху было 34, а невесте 22. Столь поздний брак жениха был нетипичным явлением того времени – Андрей Иванович, видимо, ожидал выгодной партии.
Марфа Ивановна выходила замуж не по любви и не по собственной воле, а по воле царя, которой не мог противиться и отец, придерживавшийся старомосковских взглядов и презиравший заезжих иноземцев. Но разве мог отец предполагать, что его зять совершит умопомрачительную карьеру и станет фактическим правителем России?
Будучи уже в ссылке в Березове, Остерман на странице немецкой Библии сделал следующую надпись: «1721 года, января 21-го старого штиля праздновано бракосочетание наше со всем возможным великолепием, при котором с обеих сторон их императорские высочества, заступая место родителей наших, присутствовать изволили, и мы от высочайших особ, их императорских высочеств отвезены были к брачному ложу».
Получив богатое приданое деньгами, драгоценностями и поместьями, Андрей Иванович был обласкан полюбившей его супругой. Супруг отвечал взаимностью и преданностью семейному очагу. 21 марта 1722 года Марфа Ивановна родила сына Петра, умершего чуть более года спустя, в марте 1723 года родился еще один сын – Федор, в 1724 году – дочь Анна, а год спустя – сын Иван.
В отличие от своего шефа графа Г. И. Головкина, человека жадного и скупого, Остерман, по свидетельству М. М. Щербатова, держал открытый стол – щедрость, характерная для вельмож не первой, а второй половины XVIII века. Но современники отметили и бытовые свойства Андрея Ивановича, не вызывающие симпатий: он был равнодушен к экипировке, появлялся в неряшливом виде и настолько пренебрегал баней, что от него неприятно пахло. Манштейн отмечал, что серебряный сервиз в доме находился в таком грязном виде, что напоминал оловянный.
Историки располагают письмами Марфы Ивановны супругу, содержание которых позволяет судить о счастье и любви, царивших в семье. Первое письмо ее датировано 2 марта 1723 года, когда весь двор, в том числе и Остерман, отправился в Москву на коронацию супруги Петра I Екатерины. Будучи на сносях (дочь Анну родила 22 апреля 1724 года), Марфа Ивановна должна была остаться в северной столице. Надо отметить, что письма супруги отличались нежностью, неподдельной тоской от разлуки. Супруга беспокоится о здоровье Андрея Ивановича, вспоминает о его болезни в Риге, в канун отъезда на Ништадтский конгресс, заявляет, что «покуль не увижу тебя, моя радость, то мне кажется, что ты все нездоров». Супруга она называет «батюшкой дорогим», «любезным другом», обещает «до смерти своей любить» и надеется на взаимность, заклинает не печалиться о ее здоровье. Заканчивается письмо словами: «Любимый мой друг дорогой батюшка Андрей Иванович, живи весело и будь здоров и меня, бедную, люби всегда и я тебя до смерти буду любить. Верная твоя Марфутченка Остерманова».
Всего опубликовано пять писем за март – апрель 1724 года, одно из них хозяйственного содержания, а четыре – с излиянием нежных чувств. Последнее из них датировано 6 апреля, то есть за две с половиной недели до родов: «Богу единому известно, каково мне твое здоровье потребно и каков ты мне мил ныне, в каком я состоянии обретаюсь, однако ж ради тебя желаю себе живота, хотя бы и умерла, только бы при твоих глазах и в твоих дорогих руках»[114 - РГАДА. Госархив. Разряд VI. Д. 321. Ч. I. Л. 8–11; ИВ. 1884. № 9. С. 611.].
Нежное письмо Марфы Ивановны к супругу, правда, недатированное, опубликовал С. М. Соловьев. Оно поражает непосредственностью, искренностью, теплотой, переживаниями от разлуки с супругом в «великий праздник». «Я вчера, – извещала Марфа Ивановна Андрея Ивановича, – у обедни сколько могла крепилась, что в такой великий день не плакать только не могла укрепить: слезы сами пошли»[115 - Соловьев С. М. Указ. соч. Кн. X. С. 301, 302.]. Даже не верится, чтобы Андрей Иванович, имевший репутацию скрытного, черствого и жестокого человека, раскрылся неожиданными чертами своего характера в семейной жизни, в которой он пользовался любовью супруги и отвечал ей взаимностью.
Марфа Ивановна разделила участь супруга и отправилась с ним в Березов 18 января 1742 года. С мая 1742 года Остерман стал поправляться от подагры. Поручик Космачев, командовавший караулом, получил подписанный 10 ноября 1746 года указ прислать в Сенат «известие, по получение сего указа в самой скорости: означенный Остерман ходит ли сам и буде де ходит, давно ли ходить начал. И о сем указе никому тебе, Космачеву, ни под каким видом не объявлять, а содержать в секрете».
14 января 1747 года Космачев отвечал: «Остерман освободился от болезни и начал ходить с 1742 года, августа месяца, о костылях, а потом не в долгое время и без костылей зачал ходить. И по се число прежней его болезни не видим». Не ясно, прикидывался ли он больным настолько, что с 1736 года не выходил из дому, или на него благотворно подействовал сибирский климат и более скромная трапеза ссыльного, но донесение Космачева представляет известный интерес.
С 5 мая 1747 года по доношению того же поручика Космачева Остерман «заболел грудью, впадал в обморок, и 21 мая того же года умер». Хоронила его Марфа Ивановна. Освобождена она была указом 21 июня 1749 года, в январе следующего года она прибыла в Москву, где и скончалась в феврале 1781 года на 84-м году от рождения.
Зададимся вопросом: какое отношение имел обрусевший немец Остерман к немецкому засилью? Самое прямое. С его именем связаны неудачные внешнеполитические акции правительства, а также предоставление теплых местечек своим соотечественникам. Маньян 12 февраля 1732 года доносил: «Все главные должности, как гражданские, так и военные, заняты иностранцами, представляющими из себя клевретов или вообще людей, преданных Остерману»[116 - РИО. Т. 81. С. 308.].
Суммируя отзывы об А. И. Остермане, можно составить о нем общее представление как о человеке неординарном, но не выдающемся, чиновнике, но не государственном деятеле. Он был всего лишь немцем-педантом, прекрасно ориентировавшимся в хитросплетениях придворной жизни, талантливым исполнителем чужой воли, человеком, чуравшимся крутых поворотов как в личной судьбе, так и в судьбе государства, умевшим подстраиваться под вкусы тех, кто стоял выше его. Надобно отметить и такие несомненно привлекательные черты его натуры, как трудолюбие, колоссальную работоспособность, непричастность к казнокрадству и мздоимству, умение не поддаться соблазну быть подкупленным дипломатами иностранных государств. Достойна похвалы его супружеская верность, трогательная забота о супруге и детях.
В то же время этот вкрадчивый и внешне приветливый человек за порогом своего дома был крайне честолюбив, мстителен и коварен. Настойчиво и последовательно, ступень за ступенью он взбирался к вершинам власти, сделался необходимой принадлежностью трона и выполнял все это столь ловко и незаметно, что лишь немногие современники замечали и его лукавство, и готовность предать своего покровителя, и умение скрывать за обаятельной улыбкой подлинные чувства и в критические минуты сказываться больным, чтобы не участвовать в схватке, а затем примкнуть к победившей стороне.
Третьим влиятельным немцем был Бурхард Христофор Антонович Миних.
Генрих Бухгольц.
Портрет Миниха Бурхарда Кристофа. 1765 г.
Холст, масло. Государственная Третьяковская галерея, Москва
Родился Миних в 1683 году в крестьянской семье, однако глава ее со временем получил чин дворянина и был уволен в отставку в чине подполковника. Располагая приличным по тому времени образованием, Миних начал службу в 17-летнем возрасте в должности то пехотного офицера, то инженера, руководившего сооружением канала. Канальное дело ему было знакомо – этой специальностью владел его отец. В 1716 году в чине полковника Миних был принят Августом II на польско-саксонскую службу. В 1718 году велись переговоры с Герцем о поступлении на шведскую службу; но смерть Карла XII и казнь Герца помешали осуществлению этого намерения. Тогда он решил попытать счастья в России и, прибыв в Петербург в 1721 году в чине генерал-лейтенанта, представил Петру записку, в которой изложил степень своей подготовленности к различным профессиям. В записке он признавался, что совершенно не знаком с морской и кавалерийской службами, поверхностно знал артиллерийское дело и гражданскую архитектуру и считал себя специалистом по службе в пехоте, сооружению и штурму крепостей.
В 1723 году Миних по поручению Петра I обследовал ход строительства Ладожского канала, подал царю записку, в которой проявил хорошее знакомство с канальным делом. В результате в январе 1724 года последовал указ Петра I: «Канальное дело во управление поручить ему, генерал-лейтенанту Миниху». Осенью 1724 года Петр I лично осматривал строительные работы и остался доволен результатами усердия Миниха: в весенне-летние месяцы этого года было вырыто около 12 верст канала, в то время как за предшествующие шесть лет было сооружено значительно меньше.
Историк-любитель второй половины XVIII века И. И. Голиков, автор 30-томного сочинения о «Деяниях императора Петра Великого», запечатлел услышанные кем-то слова царя, сказанные супруге: «В Минихе нашел я такого человека, который скоро приведет к окончанию Ладожский канал. Я еще не имел ни одного чужестранца, который бы так, как сей, умел предпринимать и совершать великие дела. Помогайте ему во всем, чего он пожелает»[117 - Голиков И. И. Деяния императора Петра Великого. Т. 10. М., 1839. С. 87.]. Проверить эти слова не представляется возможным, но, несомненно, у Петра Великого были основания для хвалебной оценки деятельности Миниха – он получил назначение «над всеми казенными и гражданскими строениями генерал-директором».
После смерти Петра Великого Михин в полной мере проявил такую черту характера, как алчность, – он то и дело осаждал Екатерину I и Петра II челобитными с просьбой о пожалованиях, которые, впрочем, удовлетворялись: он просил наградить его пятью тысячами рублей за то, что при строении Ладожского канала учинил в казну «немалую прибыль», просил пожаловать «деревеньку Ледново», в потомственное владение дом в Петербурге, наконец, должность генерал-цейхмейстера, то есть главнокомандующего артиллерией России.
Просьба поручить управление артиллерией изобличает в Минихе лишь одну не вызывающую симпатий черту – безмерное честолюбие и карьеризм. Дело в том, что в записке, поданной Петру I в 1721 году, он признавался: «По артиллерии равномерно не могу служить, не зная ее в подробности и умея распоряжаться ею только при атаке и обороне крепостей и в сражениях». В 1728 году он был пожалован Петром II генерал-губернатором столицы, графским достоинством, а в следующем году получил должность, которой давно домогался, – генерал-фельдцейхмейстера.
Не зная в тонкости дела, которым взялся командовать, Миних с немецкой педантичностью сосредоточил свое внимание на внешнем блеске и обрядной стороне управления артиллерией. Чтобы угодить Анне Иоанновне, тоже не равнодушной к внешнему блеску, Миних особое внимание уделял фейерверкам, устройство которых находилось в его ведении. Свою энергию, которой обладал в избытке, он отдал организации московских придворных увеселений. Усердие Миниха было замечено императрицей. В 1731 году «Санкт-Петербургские ведомости» извещали о пожалованиях Миниха «как за его государству поныне верно показанные зело полезные заслуги… изрядными вотчинами и знатною суммою…». В том же году в день коронации Анна Иоанновна пожаловала Миниху орден Андрея Первозванного – высшую награду России.
Мы не станем перегружать главу деталями управления Минихом артиллерией. Приведем несколько отмеченных им «великих неисправностей»: «1) офицеры не только б подчиненных своих экзерциции могли обучать, и в протчих воинских поступках исправлять, но и сами чести своему генералитету отдать не умеют; 2) у капралов некоторых на обшлагах и позументу не нашито; 3) у подпоручика у том смотре башмаки были востроносые, а не тупоносые, а шляпа весьма велика и не в такую пропорцию, как офицеру иметь надлежит… 5) багинеты многие не в надлежащих местах носят». Прочие пункты в том же духе: унтер-офицеры и рядовые не имеют кос, пользуются износившимися портупеями и т. д.[118 - Хмыров М. Фельдцейхмейстерство графа Миниха // Записки фельдмаршала графа Миниха. С. 231, 318.]
Если внутреннюю и внешнюю политику определял Остерман, то военное ведомство и командование армией было отдано на откуп Миниху – человеку, пользовавшемуся огромным расположением императрицы и едва не ставшим ее фаворитом. Это доверие выразилось в чинах и должностях Миниха, а также в щедрых пожалованиях поместьями и деньгами: в феврале 1732 года он занял должность президента Военной коллегии, а в марте стал фельдмаршалом. Миних занимал еще четыре должности, случай для XVIII века уникальный. Совершенно очевидно, что Миних не мог одновременно успешно нести бремя пяти должностей, в особенности в годы, когда Россия вела войну. Уделять внимание остальным должностям он мог лишь во время кратковременного пребывания в столице, которую навещал в месяцы затишья на войне. И все же плоды немецкого влияния на организацию вооруженных сил России сказались как на тактике, которой руководствовался Миних при осуществлении военных операций и заимствованной у прусской армии, так и в экзерцициях и экипировке солдат и офицеров. Английский резидент К. Рондо доносил в сентябре 1732 года своему двору о повелении императрицы, «дабы впредь русские войска обучались по прусскому образцу»[119 - РИО. Т. 66. С. 507.]. Косы и пудра, заимствованные у прусской армии, тоже являлись «подарком» Миниха русским солдатам.
Нельзя не отметить одно свойство натуры Миниха – он был удачлив, причем настолько, что едва не проигранные сражения, как по мановению волшебной палочки, оборачивались победой, как то случилось при взятии Очакова и сражении под Ставучанами. Военное искусство Миних проявил лишь при овладении Перекопом, но этот успех перечеркивается неудачным походом в глубь Крыма в 1736 году.
Что касается пороков, то у Миниха их было в избытке. Уже перечисленные можно дополнить склонностями к интригам, авантюризму, хвастовству. Незначительные по масштабам победы под его пером превращались в крупные военные успехи. В гражданских делах он тоже приписывал себе заслуги, к которым не имел отношения. Так, согласно версии Миниха, ему принадлежала мысль об учреждении Кабинета министров. Остерман, «зная, что императрица питала ко мне большое доверие, просил меня предложить ее величеству учредить Кабинет, который заведывал бы важнейшими государственными делами и мог посылать именные указы Сенату и другим присутственным местам». Миних будто бы выполнил просьбу Остермана, императрица согласилась с предложением, и Кабинет был якобы учрежден в 1730 году, «тотчас по вступлении на престол императрицы, причем она настаивала, чтобы Миних стал членом Кабинета»[120 - Миних Б. X. Записки. С. 44.]. Здесь что ни слово, то ложь, искажение хода событий, стремление поставить себя в их центре.
Один из современников сообщает факт жестокости Миниха. Он относится к 1740 году, когда назначение Бирона регентом вызвало острое недовольство в офицерском корпусе, – девять офицеров арестовали и пытали в присутствии генерал-прокурора Трубецкого, генерала Ушакова, Бирона и Миниха. «Раздражение графа Миниха дошло до того, что он… не мог вдоволь упиться страданиями, причинявшимися этим офицерам»[121 - РИО. Т. 92. СПб., 1894. С. 39, 40.].
Другим примером жестокости фельдмаршала является дело шведского майора Синклера. Оно заслуживает внимания прежде всего потому, что высвечивает нравственный облик как Миниха, так и его покровительницы Анны Иоанновны. Оба они выступают в двух ипостасях: публичной в роли респектабельных людей, осуждающих убийство майора, и тайной, характеризующей их заказчиками и организаторами этого убийства.
Синклер имел репутацию явного недруга России. Он должен был доставить из Стамбула в Стокгольм секретные депеши, в которых турки склоняли шведов включиться в войну против России. О миссии Синклера стало известно русскому резиденту в Швеции М. П. Бестужеву-Рюмину, предложившему русскому двору коварный план убийства Синклера с тем, чтобы овладеть депешами, которые он должен был проездом через Польшу доставить в Стокгольм. «Мое мнение – писал Бестужев, – чтоб его анлевировать (уничтожить. – Н. П.), а потом пустить слух, что на него напали гайдамаки или кто-нибудь другой. Я обнадежен, что такой поступок с Синклером будет приятен королю и министерству».
План Бестужева в Петербурге одобрили и даже его удалось реализовать, но сработано было так грубо, что назревал скандал европейского масштаба и случившееся давало повод Швеции без околичностей объявить войну России. Создавалась опасность войны на два фронта, что, естественно, не устраивало русский двор, стремившийся отмежеваться от причастности к преступлению.
Императрица в послании к Миниху называла убийство Синклера богомерзким, безумным и безответственным поступком, но рекомендовала, если убийцы «из наших людей суть», то их «надлежит самым тайным образом отвесть и содержать, пока не увидим, какое окончание сие дело получит и не изыщутся ли иные способы оное утолить».
Рескриптом русскому дипломату Кейзерлингу в Дрездене Анна Иоанновна решительно отвергала всякую причастность России к убийству: «Не токмо мы к тому никогда указу отправить не велели, но и не чаем, чтоб кто из наших оное определить мог».
Столь же решительно императрица отклоняла причастие русских агентов к «богомерзкому делу» и в рескрипте в Вену к дипломату Бракелю: «Нам же никогда в мысли не приходило, что от наших людей он (Синклер. – Н. П.) до шленских границ преследован бьггь мог, яко же мы по сие время верить не хощем, чтоб то наши люди были, но некоторые интриги в том обращаются, от кого б оные ни произошли».
Миних в тон рескрипту Анны Иоанновны отвечал ей: «Я знаю, что все вашего императорского величества дела и поведение не на чем, как на великодушии и честности, основаны, чего я сам с самых моих молодых лет по сие время навыкнуть тщился…»
Таким образом, императрица поручала своим представителям убеждать иностранные дворы в том, что Россия никакого касательства к гибели Синклера не имела. Эту абсолютно ложную версию должна была подкрепить и мысль о порядочности и офицерской чести фельдмаршала Миниха. Императрице и Миниху хотелось, чтобы именно так, а не иначе выглядело дело Синклера.
Подлинную картину событий отразили не цитированные выше письма императрицы и Миниха, содержание которых предполагалось для успокоения иностранных дворов, а секретнейшие документы, повествующие о том, кто был организатором и исполнителем преступной акции. С холодной расчетливостью инструкция, подписанная Минихом 28 сентября 1738 года, поручает драгунскому поручику Левицкому тайным образом в Польше «перенять» Синклера со всеми имеющимися при нем письмами. «Ежели такой случай найдете, – продолжал Миних, – то старатца его умертвить или в воду утопить, а письма прежде без остатка отобрать».
1 августа 1739 года Миних донес императрице о выполнении Левицким поручения. Синклер убит, а депеши переданы барону Кейзерлингу. Однако «анвелирование» было выполнено Левицким столь топорно, что становилось трудно отрицать причастность русского двора к убийству: Не полагаясь на скромность убийц, их умение молчать, кабинет-министры велели содержать заключенных в полной изоляции, лишив их возможности общения с кем бы то ни было, чтобы затем отправить в ссылку в глухой монастырь в Сибири. Такова цена заверения Миниха не совершать того, «что честности противно», и заявления императрицы, осуждавшей «богомерзкое» убийство[122 - Соловьев С. М. Указ. соч. Кн. X. С. 604, 686–689.].
«Анвелирование» Синклера вызвало огромный резонанс – европейские дворы были единодушны в осуждении этой акции, тем более что она не осталась тайной, ибо союзница России Австрия известила всех, что убийство шведского майора было осуществлено четырьмя русскими офицерами. Но больше всех акцией возмущались в Швеции, где действия России дали повод реваншистам всех мастей для открытия против нее военных действий. Это была не беспочвенная угроза: к русским границам стягивались шведские полки, в Петербурге ожидали шведского вторжения.
Похоже, двор в Петербурге запаниковал и готов был заключить мир с турками. Об этом можно судить по письму императрицы к Остерману с указанием причин, вынуждавших пойти на этот шаг: Россия в одиночестве не в состоянии победить турок – Персия готова заключить с ними мир, а действия Австрии не приносили ожидаемого успеха. Императрица, кроме того, писала о распрях между генерал-фельдмаршалами Минихом и Ласси с генералитетом. С пагубным влиянием этой распри согласился и Остерман: «Бесспорно истинно то, что несогласие между предводителями армии и генералитетом производит следствия зело вредные интересу вашего императорского величества».
Таковы были результаты злодейского поступка Миниха, едва не накликавшего войну России на два фронта. История с Синклером изобличает в злодеянии не только Миниха, но и императрицу.
Общеизвестно, что все современники единодушны в отрицательной оценке человеческих качеств фельдмаршала. Дюк де Лириа, наблюдавший Миниха в 1727–1730 годах, когда тот был еще далек от пика своей карьеры, писал: «Граф Миних, немец, служил генералом от артиллерии, он очень хорошо знал всякое дело и был отличным инженером, но самолюбив до чрезвычайности, весьма тщеславен, а честолюбие его выходило из пределов; он был лжив, двоедушен, казался каждому другом, а на деле не был ничьим; внимателен и вежлив с посторонними, он был несносен в обращении с подчиненными».
Дошедшие до нас документы не уличают Миниха в казнокрадстве и взяточничестве. Но один из современников обвинял в нечистоплотности его супругу: «Его жену считают за женщину корыстолюбивую, и, как утверждают, она ничем более не занимается, как хапаньем и поборами». Вряд ли она это делала без ведома супруга[123 - РИО. Т. 5. С. 453, 454.].
Мы рассказали о наиболее влиятельных немцах, в руках которых сосредоточивалась реальная власть в России. Если бы этот «триумвират» жил в мире и дружбе, действовал согласованно, то немецкому правлению не было бы конца. Но в том-то и дело, что три честолюбца, одолеваемых далеко идущими планами, соперничали друг с другом, ревниво следили за кредитом доверия у императрицы, чем в конечном счете погубили себя.
Самое устойчивое положение в этом триумвирате занимал Бирон, но и он не был освобожден от забот о сохранении за собой «должности» фаворита и должен был зорко следить за лицами, привлекшими внимание императрицы, и принимать срочные меры для удаления соперников от двора.
Возмутителем спокойствия был самый честолюбивый из них, менее других владевший тайнами и искусством дворцовых интриг, посчитавший, что ему все было нипочем, после того как он стал фельдмаршалом и президентом Военной коллегии, – граф Миних.
Другие электронные книги автора Николай Иванович Павленко
Другие аудиокниги автора Николай Иванович Павленко
Петр I




 0
0