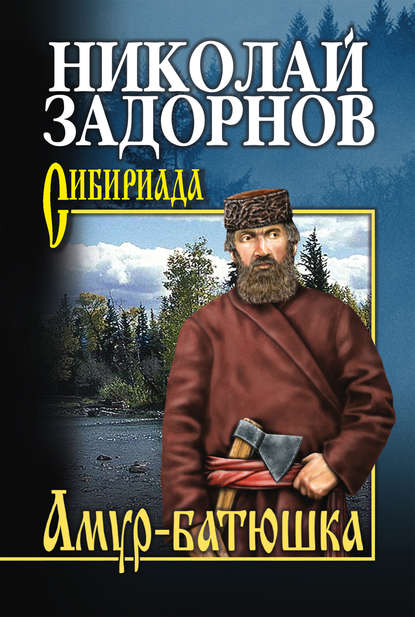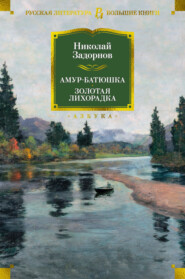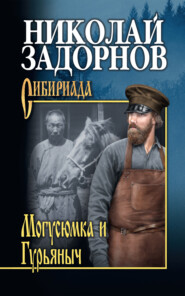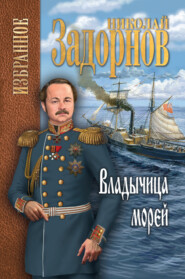По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Амур-батюшка
Серия
Год написания книги
1946
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Экая духота! – разогнулась Наталья, вытирая потный лоб, облепленный комарами.
Рой гнуса назойливо жужжал над головой. Влажный воздух был тяжел и недвижим, лес молчал, через солнце тянулись облачка. Деревья утихли в истоме. Руки и ноги наливались тяжестью, голова кружилась от прели и духоты, и думать в такую погоду ни о чем не хотелось.
Кузнецовы снова налегли на вагу. Пенек наконец отвалился, и переселенцы увидели черный перегной. Слой его был неглубок. На месте поднятых становых корней кое-где проглядывала глина.
– Вот и землица, – склонился дед, беря щепоть перегноя в темные пальцы.
Глава девятая
День за днем, от восхода до заката, переселенцы рубили и выжигали тайгу, корчевали пни и копали землянки в высоком обрыве берега. Понемногу край релки очищался от леса. Из обрубленных ветвей складывали огромные костры, пылавшие круглые сутки и отгонявшие дымом гнус. Эти костры пугали по ночам гольдов в соседних стойбищах.
Как-то раз, вечером, Федюшка на краю вырубленного леса встретил сохатого. Горбатый и бородатый зверь выбежал из леса и стал как вкопанный, с удивлением уставившись на балаганы. Парень сплоховал и во весь дух помчался обратно. На стану он рассказал мужикам.
– Рогатый зверь выбежал из тайги… Испугал до смерти.
– Эх вы, лесовики! – проворчал дед на сыновей. – Пошто ружье у сибиряков не взяли? Такая туша мяса сама пришла к стану, а вы что? Эх, родимцы!..
Дед никогда не ругался нехорошими словами, а если хотел кого-нибудь попрекнуть, с мягкостью в голосе говорил: «Э-эх, родимец!..»
Мужики поговорили, что надо бы походить с ружьями по следу и добыть зверя. На том и разошлись.
В сумерках кричал филин. Небо затянуло тучами. Ночью пошел дождь, перешедший в ливень. Егор еще с вечера затянул берестинами имущество, оставшееся на берегу.
Под утро крепкий сон его нарушила Наталья.
– Чужие на стану, проснись-ка, – шептала она тревожно. – Слышь, собаки заливаются? Жучка разбудила, сорвалась с места…
Где-то ниже стана лаяли собаки, кто-то не по-русски покрикивал на них. Слышно было, как собаку ударили и она завизжала. По-видимому, неизвестные отгоняли напавших на них крестьянских собак. Издали лаяли хрипатые чужие псы, подвывая, словно их удерживали на привязи.
– Это не Бердышов ли вернулся? – вымолвил Егор, отдергивая холстину, закрывавшую вход в балаган.
Брезжил мутный рассвет. Утро было теплое и сырое. В такую погоду весь мир кажется огромным парящим котлом, над которым только что подняли мокрую деревянную крышку. Туман раскинулся по реке и лесу. За рекой рваные облака ползли по склонам серых сопок и, цепляясь за лесистые распадки, оставляли там белесые лохмотья, стелившиеся снизу вверх, словно там тянули куделю с деревянных зубьев. Дождя не было, но на землю падала мельчайшая водяная пыльца.
Егор, накинув мешковину на плечи и вооружившись колом, пошел на лай. Его босые ноги ощущали мокрый теплый песок. Дойдя до бормотовского балагана, он различил в тумане неясные очертания лодки. Подле нее копошились люди, таскавшие на берег грузы.
– Это ты, что ль, Егор? – высунулся из балагана бородатый Пахом.
– Кто это на берегу? – спросил Кузнецов.
– Сам не знаю, я на всякий случай забил пульку, – осклабился Бормотов. – Не ровен час, как бы не бродяжки.
Неизвестные, выгрузив лодку, стали таскать грузы в распадок, к бердышовской избе. В тумане довольно ясно обрисовывались согнутые, горбатые фигуры с мешками на спинах.
– Нет, это не бродяжки, а гольды, – сказал Егор, вслушавшись в голос, окликавший собак.
– Может, родственники Ивана привезли ему товары, – согласился Пахом. – Рассветет – выйти бы к ним. Они, поди-ка, знают, где он промышляет.
– Может, и сам-то он с ними же.
– Голоса-то русского не слыхать, – возразил Пахом.
Туман стал редеть. К лодке со взгорья возвращалась женщина, за ней трусила собака. Кто-то хрипловато и глухо прокричал у избы. Женщина остановилась и бойко затараторила в ответ.
– Ишь, наговаривает, – усмехнулся Пахом.
– А тот на Кешку голосом сдается. Может, и впрямь Иван Карпыч?
– Ну бог с ними! Разъяснит, тогда пойдем, – сказал Егор и направился к своему балагану.
Спустя полчаса, когда туман рассеялся, толпа мужиков, хлюпая по лужам, подошла к потемневшей от дождя Ивановой избушке. Около нее ярко пылал большой костер. Поодаль двое мужиков, одетых в дабовые халаты[23 - Дабовые халаты – даба – грубая хлопчатобумажная материя, чаще всего – синяя.], сидя на корточках, свежевали короткими ножами тушу зверя. Егор различил, что низкий горбоносый старик с косичкой на затылке, обутый в долгоносые улы[24 - Улы – обувь, шитая из лосиной или рыбьей кожи.], – гольд, а плечистый и рослый, с темными короткими усами, в поярковой шляпе на голове – русский. Обличьем он смахивал на казаков-забайкальцев. В его исчерна-загорелом лице, в усмешливом взгляде исподлобья было что-то сродни Кешке и Петровану.
Гольд, взявши сохатого за растопыренные красные ноги, перевалил его на другой бок и, оттягивая шкуру от хребтины, подрезал ее короткими и быстрыми движениями.
– Бог на помощь, добрые люди, – снял шапку Егор.
Мужики сделали то же самое.
Русский в поярковой шляпе разогнулся, обтер руки о высокую траву, а ножик о полу халата, мельком глянул на мужиков, наклонил голову, будто усмехнулся в темные усы, и что-то буркнул в ответ. Гольд тоже поднялся, мотнул головой и довольно чисто поздоровался с переселенцами по-русски.
Русский вытащил кисет и трубку, достал несколько листьев табаку, свернул их, вставил в ганзу и вдавил большим пальцем. Гольд стал рубить топором тушу зверя. Переселенцы наблюдали. У русского движения были неторопливы. Его широкие покатые плечи и бычья шея таили в себе, по-видимому, большую силу. Он высек огня, помолчал, покурил, искоса поглядывая на мужиков.
– Видать, хозяин приехал? – спросил его Федор.
– Однако, хозяин, – обронил тот. – Знаете, что ль, меня?
– Иван Карпыч, что ль, будете? – Не Бердышов ли?
– Однако, Бердышов, – ответил он, и это «однако», которому сибиряки придают множество разных оттенков, прозвучало на этот раз как насмешка над спрашивающими: мол, а кто же другой, как не я? Али народу много тут, не признали?
– Ну, так давай тебе бог здоровья, знакомы будем, – стали здороваться с ним мужики.
– Иннокентия-то Афанасьева, поди-ка, знаешь?
– Это Кешку-то? – переспросил Бердышов.
– Да амурский же казак, сплавщиком у нас на плоту шел. Он наказывал: кланяйтесь, дескать, как Иван Карпыч из тайги выйдет.
– Он нам и сказал про тебя.
– Ну и Петрован же был с имя? – спросил Бердышов.
– Как же, и он был, а еще Иван молодой с Горбицы и Дементий – здоровый мужик, долгий.
– Каланча-то? – дрогнув бровями, спросил Бердышов.
– Во-во, так будто его прозывали! Гребцами они у барина, у Барсукова Петра Кузьмича, работали.
– Не знай, что за Кешка, – вдруг со строгостью вымолвил Иван Карпыч и, нахмурив свои густые и неровные брови, подозрительно оглядел мужиков. – А вы с Расеи, что ль? – как бы между прочим, словно невзначай, спросил он, словно «Расея» была где-то тут, неподалеку.