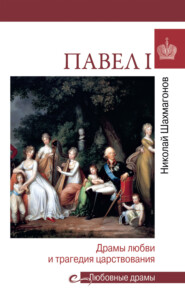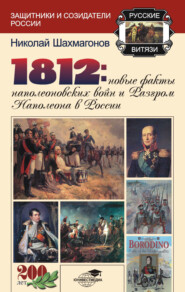По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Орлы Екатерины в любви и сражениях
Жанр
Серия
Год написания книги
2016
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Пётр Майков приводит строки из письма Хилкова:
«Генерал Вейде посажен в зело тесной каморке; Трубецкого заперли в доме, где сидят осуждённые к смерти для покаяния; ночью с ним замкнуты двое караульных… лучше быть в плену у Турок, чем у Шведов; здесь русских ставят ни во что, ругаются бесчестно и осмеивают. Этот же Головин писал Андрею Артамоновичу Матвееву:
“Извествую милости твоей, что содержат оных генералов и полоняников наших в Стокгольме как зверей, заперши и морят голодом, так что и своего что присылают получить они свободно не могут и истинно многие из среды их померли и которого утеснения и такого тяжкого мучительства ни в самых барбаризах обретается…”»
Далее Пётр Майков сообщил:
«По словам Голикова в “Деяниях Петра Великого”, один Трубецкой был оставлен в Стокгольме, a прочие генералы и офицеры развезены по разным городам врознь и все содержатся зело жестоко».
Ну а что же Пётр I?
Западная Европа бурно радовалась «успехам» царя, ставшего сатрапом антирусских сил. Была выбита памятная медаль, где Пётр I изображён на коне с выпадающей из рук шпагой, в сваливающейся с головы шапке и утирающим градом текущие слёзы. Надпись гласила: «И исшед вон, плакася горько».
Впрочем, «плакася» Пётр вряд ли. За всё своё царствование он никогда не жалел людей, уничтожая их десятками, а то и сотнями тысяч, ради своих сиюминутных идей.
История Северной войны знает не один пример, когда венценосный «полководец» показывал себя трусом. Однажды Карл XII окружил сильный русский отряд под Гродно. Несмотря на троекратное численное превосходство над противником, Пётр, «в адской горечи обретясь», приказал «всё бросить и помышлял лишь о бегстве и собственном спасении». Дождавшись ледохода, русские войска по его приказу утопили в Немане всю артиллерию и ушли в Киев. Шведы не преследовали их из-за распутицы.
Позор Русской армии, виновником которого стал Пётр I, смыл с неё блистательный русский полководец, старый московский воевода Борис Петрович Шереметев. Кстати, именно его победы позволили в конце концов обменять Трубецкого на пленённого шведского фельдмаршала.
Уже в первые годы Северной войны Шереметев, вступив в Прибалтику с небольшим отрядом, основу которого составляла старая дворянская конница, стал одерживать одну победу за другой. Благо Пётр не мешал и не вешал ему на шею своих любимцев – иноземных генералов. К примеру, летом 1702 года, имея равные силы, он разгромил 6-тысячный шведский отряд, от которого после боя осталось всего 560 человек.
Предвижу возражения: а как же Полтава? Русскими войсками в Полтавском сражении командовал всё тот же Борис Петрович Шереметев. Пётр никаких распоряжений в ходе битвы не давал. Он лишь присутствовал на поле брани. И, конечно, славу победителя прозападные историки отдали ему.
Впрочем, сам Борис Петрович Шереметев не считал полтавскую победу особенно значительной. По отзыву Василия Осиповича Ключевского, под Полтаву пришло «30 тысяч отощавших, обносившихся, деморализованных шведов». Предыдущие победы Бориса Петровича Шереметева и других русских генералов довели шведскую армию до такого состояния, что она в течение двух месяцев не могла взять штурмом Полтаву, гарнизон которой составлял всего 4 тысячи человек.
Один из исследователей петровского царствования справедливо отметил, что на «20-м году царствования у Петра I не было лучшего полководца, чем воевода московской школы, и самой боеспособной частью была дворянская конница, которую Пётр не успел разгромить».
В сражении 27 июля 1709 года, вошедшем в историю как Полтавская битва, у русских было 42 тысячи человек при 102 орудиях. У шведов было 30 тысяч человек и 39 орудия. Но все шведские орудия, кроме одного, Карлу XII пришлось оставить в обозе, поскольку снарядов едва хватило лишь для одного орудия.
В.О. Ключевский писал об этом сражении:
«Пётр праздновал Полтаву, как великодушный победитель, усадил за свой обеденный стол пленных шведских генералов, пил за их здоровье, как за своих учителей, на радостях позабыл преследовать остатки разгромленной армии, был в восторге от гремевшего красным звоном панегирика, какой в виде проповеди произнёс ему в Киевском Софийском соборе префект духовной академии Феофан Прокопович (разрушитель Православной церкви). Но победа 27 июля не достигла своей цели, не ускорила мира, напротив, осложнила положение Петра и косвенно затянула войну».
Всё это случилось опять же из-за политической и дипломатической недальновидности царя…
Иван Лукьянович Солоневич рассказал о заигрывании Петра с пленными шведскими генералами и об издевательстве над полководцем, подарившим ему победу:
«Шлиппенбах (по Пушкину – “пылкий Шлипенбах”) переходит в русское подданство, получает генеральский чин и баронский титул и исполняет ответственные поручения Петра. А Шереметев умирает в забвении и немилости и время от времени молит Петра о выполнении его незамысловатых просьб».
Увы, Пётр относится к этим просьбам без всякого внимание. Шереметев ему не нужен. Он – русский.
Точно так же не нужны были ему и томящиеся в шведских застенках русские генералы, брошенные Петром в лапы врагу под Нарвой.
«…уверил, что он вдов и от неё имел сына…»
Но вот мы и подошли к следующему этапу повествования.
Судя по некоторым воспоминаниям современников, со временем жёсткость содержания в плену Ивана Юрьевича Трубецкого и других русских генералов была несколько ослаблена. Возможно, сыграли роль личные качества пленников.
К примеру, Трубецкой, по отзыву жены британского консула Томаса Варда леди Рондо, был «человек с здравым смыслом… нрава мягкого и миролюбивого, учтив и обаятелен…».
А Василий Александрович Нащокин в своих записках, упоминая о И.Ю. Трубецком, говорит, что, будучи «отвезён в Стокгольм со многими генералами, прижил побочного сына, который и слывёт Иван Иванов сын Бецкой; он воспитан с преизрядным учением».
Настало время назвать имя главного героя повествования – Ивана Ивановича Бецкого, рождением своим обязанного именно шведскому плену его отца, в то время генерал-майора, а в будущем генерал-фельдмаршала Ивана Юрьевича Трубецкого.
Сам факт рождения волновал многих исследователей. Как, каким образом это могло случиться в плену? Высказывались разные предположения относительно того, кто была мать ребёнка.
В ряде биографических заметок называли баронессу Вреде, но Пётр Майков предлагал всё-таки не заострять внимание на матери, поскольку особого значения это не имело ни для истории, ни, как мы увидим дальше, и для самого ребёнка.
Итак, в шведском плену у русского генерала Трубецкого, представителя знаменитого рода, восходящего на дальних своих коленах к Рюриковичам, появился сын, которого отец назвал Иваном. Ну а фамилию дал, как в ту пору было принято, свою, только в усечённом виде. Отец – Трубецкой. Сын – Бецкой, поскольку сын незаконнорожденный.
Пётр Майков замечал, что трудности в определении матери усложняются деликатностью вопроса. Он писал по этому поводу:
«Конечно, до крайности трудно доказывать в настоящее время, по прошествии почти двух столетий (написано в начале ХХ века. – Н.Ш.), рождение лица именно от известной особы, вне законного брака, а потому, казалось бы, гораздо благовиднее, не бросая бездоказательного укора на то или другое семейство и неотрицая безусловно, что Иван Иванович Бецкой действительно был сын князя Ивана Юрьевича Трубецкого, признать, что мать первого в точности нам неизвестна, как это и делали, впрочем, лица, стоявшие гораздо ближе нас к Бецкому и Трубецкому и имевшие поэтому возможность получить более точные сведения о его рождении.
Оставив нам свои записки, в которых упоминается о рождении Бецкого, эти лица, вероятно, не упустили бы сообщить, кто была его мать, если бы это было им известно. Но они этого не сделали, a, следовательно, можно предполагать, что они этого обстоятельства в точности не знали, что весьма естественно».
Пётр Михайлович Майков (1833—1916) был мировым судьёй, чиновником II Отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии. Но именно история явилась главным делом всей жизни. Его труды своеобразны, но предельно точны с точки зрения историографии. Он не просто приводил тот или иной факт, размышлял над правдоподобием его, искал доказательства, подтверждающие его выводы.
Нельзя не согласиться с такими вот размышлениями:
«Подобные, незаконные рождения, являясь, по общепринятому воззрению, позором не только для отдельного лица, но и всего семейства, обыкновенно тщательно скрываются и ни в каком случае не разглашаются. Помимо этого роман в данном случае происходил, можно сказать, за тридевять земель; вспомнив состояние сообщений и сношений одного государства с другим в то время, можно допустить, что о нём могли даже “совсем не знать в другом государстве”… Так… современник Бецкого, знаменитый князь Щербатов, в своём известном рассуждении “О повреждении нравов” указывает, что князь И.Ю. Трубецкой, быв пленен шведами, имел любовницу, сказывают благородную женщину (выражение, прибавим мы от себя, собственно говоря, ничего не означающее в точности), его высшее дворянство, которое, по моему мнению, так прекрасно и так образовано, как ни при каком другом европейском дворе. Всего боле нас изумило то, что в стране столь неприятной, столь каменистой, являющейся отброском природы, можно было встретить двор столь приятный и вежливый».
Это было в Стокгольме, где Трубецкой встретил такую женщину и «уверил, что он вдов и от неё имел сына, которого именовал Бецким и сей ещё при Петре Великом, почтён был благородным и в офицерских чинах и т.д.)».
«Не оскорбилась связью мужа с иноземною особою…»
В словаре Бантыш-Каменского сказано, что Бецкой родился 3 февраля 1704 года в Стокгольме (причём ни один из его родителей вовсе не назван), продолжал учение в доме отца своего, поступил в Коллегию иностранных дел и т.д. и только из дальнейшего изложения можно заключить (Бантыш-Каменский сам и этого не говорит прямо), что отцом Бецкого был князь Ив. Ю. Трубецкой.
А вот размышление об этих всех фактах, принадлежащее перу Петра Майкова:
«Бецкой был рождён в стране иноземной, в которой и провёл, вместе с своим отцом, первые годы детства. Каких-либо сведений об этом времени жизни Бецкого нам не удалось найти; да едва ли возможно предполагать их существование. О ребёнке, ничем не отличавшемся от множества других, ему подобных, нечего и говорить, тем более нечего записывать. Упомянем только, что после его рождения прибыла в Стокгольм к своему супругу княгиня Трубецкая, урождённая Нарышкина, вместе с двумя её дочерями, которая… не только не оскорбилась связью своего мужа с иноземною особою, но усыновила мальчика и не делала никакого различия между ним и собственными детьми».
Откинув из этих слов всё излишнее, напоминающее французские романы и совсем не соответствующее ни духу того времени, ни положению русской женщины той эпохи, только что освобождённой из терема, ни характеру самого князя Трубецкого… можно «принять, что Бецкой остался в семействе своего отца (что вполне естественно) и получил первоначальное воспитание в его доме, наравне с прочими его детьми. Дети же князя Трубецкого – его дочери – получили воспитание хорошее».
В то время вельможи «не щадили ничего для образования своих детей».
Неудивительно поэтому, что и сам Бецкой, по словам Нащокина, был «воспитан с преизрядным учением».
Это замечание очень важно, ибо образованность Ивана Ивановича и его воспитание, которое он постоянно демонстрировал впоследствии, привлекли к нему внимание одной особы, о которой пока лишь вскользь упомянуто в начале повествования.
Конечно, нам очень сложно представить себе, каким образом Ивану Юрьевичу Трубецкому удалось, находясь в шведском плену, воспитать сына и дать ему хорошее образование.
Пётр Майков сообщил:
«Князь Трубецкой… был разменен на фельдмаршала Реншельда, взятого в плен в Полтавском сражении, и возвратился в Россию».
В плену он находился, как известно из биографии князя, восемнадцать лет. Значит, Иван Бецкой прибыл в Россию в четырнадцати- или пятнадцатилетнем возрасте.
«Генерал Вейде посажен в зело тесной каморке; Трубецкого заперли в доме, где сидят осуждённые к смерти для покаяния; ночью с ним замкнуты двое караульных… лучше быть в плену у Турок, чем у Шведов; здесь русских ставят ни во что, ругаются бесчестно и осмеивают. Этот же Головин писал Андрею Артамоновичу Матвееву:
“Извествую милости твоей, что содержат оных генералов и полоняников наших в Стокгольме как зверей, заперши и морят голодом, так что и своего что присылают получить они свободно не могут и истинно многие из среды их померли и которого утеснения и такого тяжкого мучительства ни в самых барбаризах обретается…”»
Далее Пётр Майков сообщил:
«По словам Голикова в “Деяниях Петра Великого”, один Трубецкой был оставлен в Стокгольме, a прочие генералы и офицеры развезены по разным городам врознь и все содержатся зело жестоко».
Ну а что же Пётр I?
Западная Европа бурно радовалась «успехам» царя, ставшего сатрапом антирусских сил. Была выбита памятная медаль, где Пётр I изображён на коне с выпадающей из рук шпагой, в сваливающейся с головы шапке и утирающим градом текущие слёзы. Надпись гласила: «И исшед вон, плакася горько».
Впрочем, «плакася» Пётр вряд ли. За всё своё царствование он никогда не жалел людей, уничтожая их десятками, а то и сотнями тысяч, ради своих сиюминутных идей.
История Северной войны знает не один пример, когда венценосный «полководец» показывал себя трусом. Однажды Карл XII окружил сильный русский отряд под Гродно. Несмотря на троекратное численное превосходство над противником, Пётр, «в адской горечи обретясь», приказал «всё бросить и помышлял лишь о бегстве и собственном спасении». Дождавшись ледохода, русские войска по его приказу утопили в Немане всю артиллерию и ушли в Киев. Шведы не преследовали их из-за распутицы.
Позор Русской армии, виновником которого стал Пётр I, смыл с неё блистательный русский полководец, старый московский воевода Борис Петрович Шереметев. Кстати, именно его победы позволили в конце концов обменять Трубецкого на пленённого шведского фельдмаршала.
Уже в первые годы Северной войны Шереметев, вступив в Прибалтику с небольшим отрядом, основу которого составляла старая дворянская конница, стал одерживать одну победу за другой. Благо Пётр не мешал и не вешал ему на шею своих любимцев – иноземных генералов. К примеру, летом 1702 года, имея равные силы, он разгромил 6-тысячный шведский отряд, от которого после боя осталось всего 560 человек.
Предвижу возражения: а как же Полтава? Русскими войсками в Полтавском сражении командовал всё тот же Борис Петрович Шереметев. Пётр никаких распоряжений в ходе битвы не давал. Он лишь присутствовал на поле брани. И, конечно, славу победителя прозападные историки отдали ему.
Впрочем, сам Борис Петрович Шереметев не считал полтавскую победу особенно значительной. По отзыву Василия Осиповича Ключевского, под Полтаву пришло «30 тысяч отощавших, обносившихся, деморализованных шведов». Предыдущие победы Бориса Петровича Шереметева и других русских генералов довели шведскую армию до такого состояния, что она в течение двух месяцев не могла взять штурмом Полтаву, гарнизон которой составлял всего 4 тысячи человек.
Один из исследователей петровского царствования справедливо отметил, что на «20-м году царствования у Петра I не было лучшего полководца, чем воевода московской школы, и самой боеспособной частью была дворянская конница, которую Пётр не успел разгромить».
В сражении 27 июля 1709 года, вошедшем в историю как Полтавская битва, у русских было 42 тысячи человек при 102 орудиях. У шведов было 30 тысяч человек и 39 орудия. Но все шведские орудия, кроме одного, Карлу XII пришлось оставить в обозе, поскольку снарядов едва хватило лишь для одного орудия.
В.О. Ключевский писал об этом сражении:
«Пётр праздновал Полтаву, как великодушный победитель, усадил за свой обеденный стол пленных шведских генералов, пил за их здоровье, как за своих учителей, на радостях позабыл преследовать остатки разгромленной армии, был в восторге от гремевшего красным звоном панегирика, какой в виде проповеди произнёс ему в Киевском Софийском соборе префект духовной академии Феофан Прокопович (разрушитель Православной церкви). Но победа 27 июля не достигла своей цели, не ускорила мира, напротив, осложнила положение Петра и косвенно затянула войну».
Всё это случилось опять же из-за политической и дипломатической недальновидности царя…
Иван Лукьянович Солоневич рассказал о заигрывании Петра с пленными шведскими генералами и об издевательстве над полководцем, подарившим ему победу:
«Шлиппенбах (по Пушкину – “пылкий Шлипенбах”) переходит в русское подданство, получает генеральский чин и баронский титул и исполняет ответственные поручения Петра. А Шереметев умирает в забвении и немилости и время от времени молит Петра о выполнении его незамысловатых просьб».
Увы, Пётр относится к этим просьбам без всякого внимание. Шереметев ему не нужен. Он – русский.
Точно так же не нужны были ему и томящиеся в шведских застенках русские генералы, брошенные Петром в лапы врагу под Нарвой.
«…уверил, что он вдов и от неё имел сына…»
Но вот мы и подошли к следующему этапу повествования.
Судя по некоторым воспоминаниям современников, со временем жёсткость содержания в плену Ивана Юрьевича Трубецкого и других русских генералов была несколько ослаблена. Возможно, сыграли роль личные качества пленников.
К примеру, Трубецкой, по отзыву жены британского консула Томаса Варда леди Рондо, был «человек с здравым смыслом… нрава мягкого и миролюбивого, учтив и обаятелен…».
А Василий Александрович Нащокин в своих записках, упоминая о И.Ю. Трубецком, говорит, что, будучи «отвезён в Стокгольм со многими генералами, прижил побочного сына, который и слывёт Иван Иванов сын Бецкой; он воспитан с преизрядным учением».
Настало время назвать имя главного героя повествования – Ивана Ивановича Бецкого, рождением своим обязанного именно шведскому плену его отца, в то время генерал-майора, а в будущем генерал-фельдмаршала Ивана Юрьевича Трубецкого.
Сам факт рождения волновал многих исследователей. Как, каким образом это могло случиться в плену? Высказывались разные предположения относительно того, кто была мать ребёнка.
В ряде биографических заметок называли баронессу Вреде, но Пётр Майков предлагал всё-таки не заострять внимание на матери, поскольку особого значения это не имело ни для истории, ни, как мы увидим дальше, и для самого ребёнка.
Итак, в шведском плену у русского генерала Трубецкого, представителя знаменитого рода, восходящего на дальних своих коленах к Рюриковичам, появился сын, которого отец назвал Иваном. Ну а фамилию дал, как в ту пору было принято, свою, только в усечённом виде. Отец – Трубецкой. Сын – Бецкой, поскольку сын незаконнорожденный.
Пётр Майков замечал, что трудности в определении матери усложняются деликатностью вопроса. Он писал по этому поводу:
«Конечно, до крайности трудно доказывать в настоящее время, по прошествии почти двух столетий (написано в начале ХХ века. – Н.Ш.), рождение лица именно от известной особы, вне законного брака, а потому, казалось бы, гораздо благовиднее, не бросая бездоказательного укора на то или другое семейство и неотрицая безусловно, что Иван Иванович Бецкой действительно был сын князя Ивана Юрьевича Трубецкого, признать, что мать первого в точности нам неизвестна, как это и делали, впрочем, лица, стоявшие гораздо ближе нас к Бецкому и Трубецкому и имевшие поэтому возможность получить более точные сведения о его рождении.
Оставив нам свои записки, в которых упоминается о рождении Бецкого, эти лица, вероятно, не упустили бы сообщить, кто была его мать, если бы это было им известно. Но они этого не сделали, a, следовательно, можно предполагать, что они этого обстоятельства в точности не знали, что весьма естественно».
Пётр Михайлович Майков (1833—1916) был мировым судьёй, чиновником II Отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии. Но именно история явилась главным делом всей жизни. Его труды своеобразны, но предельно точны с точки зрения историографии. Он не просто приводил тот или иной факт, размышлял над правдоподобием его, искал доказательства, подтверждающие его выводы.
Нельзя не согласиться с такими вот размышлениями:
«Подобные, незаконные рождения, являясь, по общепринятому воззрению, позором не только для отдельного лица, но и всего семейства, обыкновенно тщательно скрываются и ни в каком случае не разглашаются. Помимо этого роман в данном случае происходил, можно сказать, за тридевять земель; вспомнив состояние сообщений и сношений одного государства с другим в то время, можно допустить, что о нём могли даже “совсем не знать в другом государстве”… Так… современник Бецкого, знаменитый князь Щербатов, в своём известном рассуждении “О повреждении нравов” указывает, что князь И.Ю. Трубецкой, быв пленен шведами, имел любовницу, сказывают благородную женщину (выражение, прибавим мы от себя, собственно говоря, ничего не означающее в точности), его высшее дворянство, которое, по моему мнению, так прекрасно и так образовано, как ни при каком другом европейском дворе. Всего боле нас изумило то, что в стране столь неприятной, столь каменистой, являющейся отброском природы, можно было встретить двор столь приятный и вежливый».
Это было в Стокгольме, где Трубецкой встретил такую женщину и «уверил, что он вдов и от неё имел сына, которого именовал Бецким и сей ещё при Петре Великом, почтён был благородным и в офицерских чинах и т.д.)».
«Не оскорбилась связью мужа с иноземною особою…»
В словаре Бантыш-Каменского сказано, что Бецкой родился 3 февраля 1704 года в Стокгольме (причём ни один из его родителей вовсе не назван), продолжал учение в доме отца своего, поступил в Коллегию иностранных дел и т.д. и только из дальнейшего изложения можно заключить (Бантыш-Каменский сам и этого не говорит прямо), что отцом Бецкого был князь Ив. Ю. Трубецкой.
А вот размышление об этих всех фактах, принадлежащее перу Петра Майкова:
«Бецкой был рождён в стране иноземной, в которой и провёл, вместе с своим отцом, первые годы детства. Каких-либо сведений об этом времени жизни Бецкого нам не удалось найти; да едва ли возможно предполагать их существование. О ребёнке, ничем не отличавшемся от множества других, ему подобных, нечего и говорить, тем более нечего записывать. Упомянем только, что после его рождения прибыла в Стокгольм к своему супругу княгиня Трубецкая, урождённая Нарышкина, вместе с двумя её дочерями, которая… не только не оскорбилась связью своего мужа с иноземною особою, но усыновила мальчика и не делала никакого различия между ним и собственными детьми».
Откинув из этих слов всё излишнее, напоминающее французские романы и совсем не соответствующее ни духу того времени, ни положению русской женщины той эпохи, только что освобождённой из терема, ни характеру самого князя Трубецкого… можно «принять, что Бецкой остался в семействе своего отца (что вполне естественно) и получил первоначальное воспитание в его доме, наравне с прочими его детьми. Дети же князя Трубецкого – его дочери – получили воспитание хорошее».
В то время вельможи «не щадили ничего для образования своих детей».
Неудивительно поэтому, что и сам Бецкой, по словам Нащокина, был «воспитан с преизрядным учением».
Это замечание очень важно, ибо образованность Ивана Ивановича и его воспитание, которое он постоянно демонстрировал впоследствии, привлекли к нему внимание одной особы, о которой пока лишь вскользь упомянуто в начале повествования.
Конечно, нам очень сложно представить себе, каким образом Ивану Юрьевичу Трубецкому удалось, находясь в шведском плену, воспитать сына и дать ему хорошее образование.
Пётр Майков сообщил:
«Князь Трубецкой… был разменен на фельдмаршала Реншельда, взятого в плен в Полтавском сражении, и возвратился в Россию».
В плену он находился, как известно из биографии князя, восемнадцать лет. Значит, Иван Бецкой прибыл в Россию в четырнадцати- или пятнадцатилетнем возрасте.