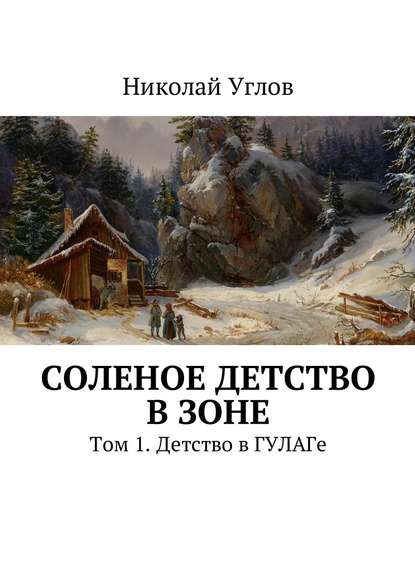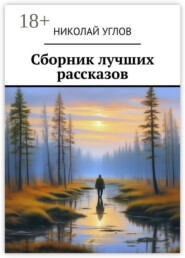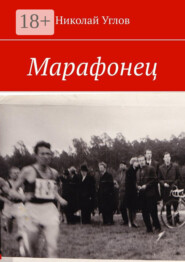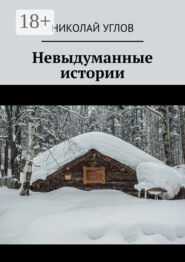По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Соленое детство в зоне. Том 1. Детство в ГУЛАГе
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Зайцев тоже заглянул на полати, посмотрел на нас, покачал головой:
– Что же ты делаешь, Иван Леонтьевич? Неужели нельзя было помочь этим бедолагам? Ладно, китайцы чужие люди. А это же всё – таки русские.
Калякин заорал, что есть мочи:
– Архип! А на кой ляд они мне нужны – эти дармоеды, туда их мать! Их много таких навезли. И никто не хочет работать. А жрать все хотят – только давай!
Плюнул в сердцах на пол Зайцев, и вместе с Ольгой Федосеевной понёс нас с Шуркой на сани. Маму еле стащили с полатей и привели в чувство. Ей Ольга Федосеевна дала больше полбуханки хлеба и нам за щёки сунула по маленькому кусочку, сказала:
– Дети! Хлеб не ешьте, а только медленно сосите – иначе умрёте! Потерпите немного! Вас спасут! А вы, Углова, постарайтесь завтра найти меня. Чем могу – помогу!
Мать, шатаясь, поднялась, заголосила, кинулась в ноги к Ольге Федосеевне, целовала руки, благодарила.
Она осталась, а нас повезли во Вдовинскую больницу.
От холодного воздуха пришли в себя – голова кружилась. Помню, занесла в помещение меня какая-то женщина, говорит:
– А этот ещё ничего – щёки есть! А постарше, видно, не выживет!
Скинули с нас лохмотья – и тут я потерял сознание.
Глава 9
БОЛЬНИЦА
И я обращаюсь к правительству нашему с просьбою:
Удвоить, утроить у этой стены караул,
Чтоб Сталин не встал и со Сталиным прошлое.
Евгений Евтушенко.
Был уже март, но холода и пурга не унимались. В больнице мы отошли, поправились, начали опять шалить. Но ежедневно вспоминали о матери – жива ли? Позавтракаем и сразу лезем на подоконники. Подуем на лёд, растопим, сделаем окошечко и смотрим на дорогу – не идёт ли мать? Нас нянечки отгоняют от окон, а мы опять лезем.
И вот как-то раз я закричал:
– Шурка! Мама идёт!
И впрямь, вглядываемся: вдалеке кандыляет мать. Встретились, расплакались:
– Деточки! Голубушки! Живы! Слава тебе, Господи! Слава тебе, Всевышний! Я уже думала, вас не увижу.
Мать суёт нам по целой сырой свёкле. Ей дала наша кисловодчанка, ссыльная Ольга Соловьёва, которая работала в правлении колхоза бухгалтером во Вдовино. Мы смеёмся:
– Что ты, мама! Мы сыты, здесь здорово кормят, сама съешь!
– Ну, как вы? Как я рада. Дети! Вас спасла Ольга Федосеевна! Помните её всю жизнь. Коля! Вон девочка побежала. Это не Зинка Драганчу из Носково? Помните, в соседней избе жили молдаване?
– Да, она. Так знаешь, она одна осталась, её тоже недавно привезли в больницу. Все пять братьев и сестёр умерли от голода в эту зиму. Вчера её мать приходила навестить. Сама еле тащит ноги, плачет, всё это рассказала. И ещё говорит, что детей не стала хоронить в снеговой общей яме, т. к. волки стали растаскивать трупы. Все трупы детей сложила она в холодный погреб до весны. Говорит, чуть засну и чудится мне, что дети все хором зовут меня и плачут: мама, дай покушать! Открою крышку погреба – нет, все мои деточки лежат, как живые, но не шевелятся!
– Ужас, дети! Я хожу по деревням – тоже видела трупы замёрзших людей. Что творится здесь! Я сейчас, дети, уйду, а то ещё увидит главный врач и заставит вас забрать. Это же смерть нам всем.
Засобиралась мать, т. к. зимние дни в Сибири короткие и уже вечерело. Только позднее узнали мы, что в этот день мать была на грань от смерти и опять чудом спаслась. До Носково восемь километров. Дорога практически в снегу, не наезжена, еле угадывается, т. к. постоянно перемётывается позёмкой. Со своей хромой ногой уже затемно дошла до Вдовино и решила там заночевать. Попросилась ночевать к тем, кого уже знала: Масленниковым, Крыловым, Захаркиным, но все отказали, так как якобы не было места в избах. Мать заплакала:
– Бессовестные вы и бессердечные люди! Мне что, умирать теперь? Я же не дойду. Бог вас накажет.
Нечего делать. Пошла, на ночь глядя, в Носково. Дорога из Вдовино в Носково идёт вдоль Шегарки. Пурга усиливается, столбы телефонные стоят вдоль дороги, гудят. Это хорошо, думает мать, не заблудишься. Только смотри за столбами, т. к. дороги ночью не видно, кругом бело. Долго и утомительно продвигалась мать по еле заметной санной дороге. Ноги застревают в рыхлой массе по колено, колючий злой ветер перебивает дыхание, слепит глаза, темно. Вот и уклонилась незаметно чуть в сторону мать. Ахнула с головой в снежную яму. Оказывается, попала на берег Шегарки. А река переметена снегом вровень с берегами и полем, зимой просто её не видно. Даже не догадаешься, где когда-то летом была речка. Пыталась, пыталась Анна Филипповна выбраться, да ещё глубже провалилась до самого льда реки, так как нога-то негнущаяся. Тяжело бороться калеке в снежном плену. Барахталась, барахталась, обессилела, плачет, снегу везде набилось. Поняла, что пришёл конец.
Да видать, не помирать нам было в Сибири! Бог спасал всех нас! Притихла мама, замерзая, и вдруг сквозь сон услышала звон колокольчика. Завозилась, закричала, завизжала из последних сил. А это ехал почтальон дед Лазарев. Услышал он какой-то крик, не поймёт, откуда идёт. Остановил сани, слушает. Затем привязал лошадь к ближайшему телефонному столбу, пошёл на звук голоса:
– Кто там кричит? Что за дьявол? Откуда крик, не пойму? Мать взмолилась:
– Помогите! Замерзаю, провалилась в реку. Это Углова Нюся!
Дед, наконец, разглядел в снегу мать:
– Эк, тебя угораздило, чёртова баба! Как же ты сюда попала? Глаза, что ли, у тебя повылазили?
Поворчал дед Лазарь, протянул руку, вытащил мать, спас от верной гибели. Привёз к крайнему дому в деревне к Кузнецовой Полине и вместе с ней оттёрли свиным салом, укутали, напоили горячим молоком мать. С того дня остались у матери отметки. И без того стёртые при стирке в госпитале пальцы рук здесь тоже обмёрзли и верхушки стали куцыми.
По пурге ещё раз приходила проведать нас мать, и с первого раза её пустили ночевать Шмаковы, хотя у самих было восемь душ детей. Со всеми этими людьми мы ещё будем встречаться, жить во Вдовино после, но, забегая вперёд, скажу, что судьба этих бессердечных людей была жестокой! Может это и совпадение, но я верю в Божью кару. У Калякина сняла довольно значительную сумму сбережений, обманув его, родная сноха, якобы для покупки дома в Алма-Ате, и исчезла с ними. Калякин с горя начал беспробудно глушить самогон вместе с сыном, да так поочерёдно оба загнулись от перепоя. У Масленниковой Нади повесился взрослый сын Мишка, а она с горя тоже быстро умерла. У Крыловых аналогичная ситуация: дочь повесилась. А Захаркин умер от ожирения. Что касается Атоянца Мосеса Мосесовича, то его в эту зиму выгнали за какие-то грехи из бухгалтерии и он умер от голода вместе с женой, а сына Ашота также взяли в детдом вместе с нами.
Наступила весна 1946 года и первой новостью среди наших была:
– Слышали? Казарезова Маруська убежала с детьми! Вот отчаянная бабёнка, а? Как она эти двести вёрст до Новосибирска дойдёт? Ведь поймают, забьют до смерти.
А надо сказать, что все ссыльные отмечались каждую неделю в комендатуре. Но сразу скажу, что права поговорка: «Кто не рискует, тот не пьёт шампанское». Казарезова месяц добиралась до Новосибирска, прячась с детьми в кустах около дороги, когда встречались люди. А в Новосибирске забралась в товарняк и благополучно приехала в Пятигорск. Не знаю, как она там устроилась, но после нашего освобождения мы неоднократно встречались с её детьми.
Из больницы нас с Шуркой перевели, опять по настоянию Ольги Федосеевны, во Вдовинский детдом, как и мать. Её также устроила она прачкой в детдом. Всё это ей стоило опять неимоверных усилий, т. к. директор детского дома Микрюков категорически не хотел нас принимать, и звонил даже в Пихтовку какому – то начальству. Но Ольга Федосеевна перехватила телефонную трубку и всё – таки доказала кому – то, что она права.
Но Микрюков затаил на нас злость, строил всякие подлости и, в конце концов, выгнал мать и нас из детского дома, опять поставив нашу семью на грань смерти. Но об этом чуть позже.
Мать впервые за эти два ужасных года отправила письмо бабушкам Оле и Фросе, сообщив, что мы живы – здоровы.
Вдовино в то время было самое большое село в том краю – около пятисот дворов по обе стороны речки Шегарки. Два колхоза. «Северный земледелец» – слева от Шегарки, «Северное сияние» – по правую сторону речки. Во Вдовино находилась больница, школа – семилетка, точнее 5 – 7 классы. Вторая начальная школа за прудом, 1 – 4 классы. Имелась почта, мельница, пекарня, магазин, клуб. Село большое, раскидистое, привольно размахнулось, расстроилось по берегам красивой таёжной речке Шегарки, извилистой, с широкими омутами, спокойной и неторопливой. Сразу за деревней колхозные поля. Сажали в то время рожь, лён, овёс, картофель, горох, брюкву, свёклу и турнепс. Поля идут вперемежку с перелесками и чем дальше от села, тем больше берёзовых, осиновых колков. А в 9 – 10 километрах начинался сплошной Красный лес, т. е. сосновый, пихтовый бор, уходящий в Васюганские болота. За деревней сразу болота, кочкарник клюквенный, гудящий летом комарьём. Слева от Вдовино большое село Каурушка (до войны было даже больше Вдовино – 650 дворов). Вверх к истокам Шегарки посёлок Жирновка (350 дворов), ещё выше Юрковка (250 дворов) и Вершина (100 дворов). Вниз по Шегарке были небольшие посёлки Лёнзавод, Носково, Хохловка, а в двадцати километрах от Вдовино большое село Пономарёвка на 800 дворов, в котором располагалась МТС, снабжавшая наши колхозы тракторами, машинами, уборочной техникой. А в пятидесяти километрах от Вдовино была наша «столица» – районное село Пихтовка на 1000 дворов. Между Пономарёвкой и Пихтовкой было ещё с десяток сёл – Атуз, Залесово, Мальчиха и Марчиха, Вьюны и другие. Вообщем, жизнь бурлила, клокотала там в те годы. Основное население там – ссыльные. Это был огромная пересыльная зона. Коренных сибиряков там было очень мало. Те, кто считал себя уже сибиряками, были сосланные в 1929 – 33г.г. семьи кулаков и подкулачников – так именовала советская власть зажиточных крестьян и тех, кто не хотел вступать в колхозы. В каждом селе была комендатура, где еженедельно отмечались все взрослые. У комендантов были в подчинении рядовые бойцы, а сами они разъезжали на сытых конях, глумясь над беззащитными людьми.
Много тысяч разного люда было сослано туда. В каждой избе во всех сёлах и деревнях было набито «до потолка» людей «всех мастей», но больше политических.
Вспоминается эпизод, о котором долго судачили в деревне. Работал в колхозе неприметный мужичонка по фамилии Феньков, о котором говорили, что «не всё ладно у него с головой». Но был тихим, старательным, работящим. В этом году он женился на одной доярке. Говорят – любил её беззаветно! Но не прожили они и трёх месяцев, как её комендант Альцев арестовал, и отправил в Пихтовку. Вроде бы она украла четверть мешка жмыха и ночью, когда тащила его домой, попалась комендантам. Дали ей четыре года тюрьмы. Феньков с горя запил, благо самогон всегда можно было найти. Самогон тогда гнали втихомолку почти в каждом дворе, т, к. водка была дорогая. Как только его не увещевали, грозили отдать под суд – он не выходил на работу. Однажды с перепоя он чуть не сжёг избу, и изрубил топором всю свою немудрящую мебель. Под горячую руку попался ему один сапог – он и его искромсал. Но всё же через некоторое время он остепенился и вышел на работу… в одном сапоге. Вместо другого сапога был старый лапоть. Мужики смеялись над бедным Феньковым:
– Прокоп! Что же ты в одном сапоге и лапте? Выкинь его и ходи в двух лаптях. А так… смешно.
Феньков невозмутимо отвечал:
– Дык… конечно… оно тово! Сапоги – они для мужика, особо в нашу грязь, очень нужны. Это как семья – два сапога. Муж и жена. А что я таперича без жены? Вон – видел по фильму, как Сталин всегда в сапогах. И жена, видать, у него есть. Дюже любит он сапоги! А я что? Я тоже.
Кто – то, возьми, и скажи ему: