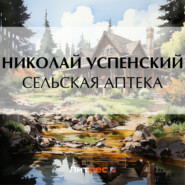По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Колдунья
Год написания книги
1871
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Колдунья
Николай Васильевич Успенский
«Была осень. Близ засеки, в полуверсте от села, стояла новая непокрытая изба, вокруг которой в беспорядке лежали срубленные деревья.
В избе, на кровати с ситцевым одеялом, сидела молодая больная мещанка, прислушиваясь к ветру, потрясавшему рамы и стекла…»
Николай Васильевич Успенский
Колдунья
Была осень. Близ засеки, в полуверсте от села, стояла новая непокрытая изба, вокруг которой в беспорядке лежали срубленные деревья.
В избе, на кровати с ситцевым одеялом, сидела молодая больная мещанка, прислушиваясь к ветру, потрясавшему рамы и стекла.
В избу вошла низенького роста пожилая баба с мешком муки за плечами.
– Здравствуй, матушка; аи больна чем? – сказала баба, перекрестившись на образа и вскинув черными глазами на хозяйку.
– Больна, Марья: лихорадка бьет.
Хозяйка обнаружила беспокойство и начала ощупывать подле себя шубу.
– А где же муж-то?
– В засеку поехал; он скоро приедет.
– А я вам принесла два пуда муки, помнишь, я брала у вас хлебом, – сказала баба, садясь на скамейку и с каким-то робким недоверием поглядывая на хозяйку. – Аи у вас до сих пор нет работницы? Ноне они дороги стали… А я хотела попросить деньжонок у Амельяна Трофимыча – за иструб; ведь мы вчетвером его срубили; и моя доля тут.
Наступило молчание. Больная оделась в шубу, подошла к двери и проговорила:
– Что это он не едет? пора бы ему…
– Ничего, я подожду, матушка, – ответила Марья и пристально, но ласково посмотрела на хозяйку. – Анна Тихоновна! – вдруг сказала баба, – может быть, ты меня боишься?
– Нет, Марьюшка, – ответила больная, в замешательстве отворяя и опять затворяя дверь.
– Что я за оглашенная? – сказала баба, – ведь я вижу, что ты меня боишься! Я знаю… тебе небойсь сказали, что я колдунья.
Больная, по-видимому, сконфузилась.
– Я, Марья, этому не верю… мало ли что народ говорит?
Баба стала перед образами и воскликнула:
– Анна Тихоновна! вот тебе святые иконы! Убей меня господь, ежели это правда… Сошли мне господь истаять, как свечка тает!.. Царь небесный, батюшка, видит, сколько я перенесла от людей.
У бабы навернулись слезы; она снова села на скамейку и, сделав жест рукой, продолжала:
– Ну, постой, я тебе сейчас расскажу, за что меня прозвали колдуньей… Говорить аль нет?.. Может быть, я тебя беспокою?..
– Нет, Марья; известно, я здесь живу недавно и ничего не знаю; а от баб ваших я слышала…
– Ну, вот что же! – опять ставши перед образами, начала Марья.
– Создай мне, господи, чтобы мои руки-ноги отнялись, тресни…
– Марья, Марья! не божись… я тебе верю… Я боюсь такой божбы!
– Ах, Анна Тихоновна! за что я терплю такую напраслину?..
Наконец, баба начала рассказ:
– Жила я у своего дяди. Девчонка я была проворная и ростом махонькая, хотя и года мне вышли; замуж меня никто не брал, потому что я была сирота и ничего не имела.
Однова, зимою., подле нас ходили нищие – старуха с сыном; сын был взрослый; и стужа такая стояла на дворе – лютая! а одеты они были в худеньких кафтанах, и, видно уж, чему быть – то, верно, богом назначено, мне их стало с чего-то и-и-и-их жалко! и дала я им по кусочку, а погреться позвать не посмела от дяди…
Вскоре приходит к нам одна баба и говорит: «А что вы не отдаете Марью за нищего малого Андрея, за побирашку-то? ведь ее замуж никто больше не возьмет; хоть она девчонка моторная, да мала ростом – и сирота!»
Дядя мой и согласился выдать меня за того нищего малого. Так я и вышла за него.
Вошла я к ним в разваленный дом, и на дворе у них только и было: курица да кочет… Стали мы жить. Старуха тут померла; старик все сидел дома и ничего не делал, а мы с мужем все побирались; мой муж был такой хворый и какой-то, прости меня господи, ляд: что, бывало, ни наберет, все пропьет.
Года через два мы нанялись стеречь скотину; я начала думать, что на мужа надежда плоха, а надо мне самой копеечку сбирать…
Года через три мы стали наниматься в работники, где за плату, а где из хлеба… И много, моя голубушка, зазнали нужды!.. Дворик наш все стоял разоренный… Однако я маленько сберегла деньжонок, и бросили мы найматься в работники, а стали жить дома.
Жили мы здесь в селе; место тут засечное, а в засеке в те поры было слабо. Начали мы с мужем по ночам возить лес; он, бывало, повозит да ляжет на печку – от живота… А я примусь одна возить… Лошадку когда люди дадут, а когда нет… три года я на себе дрова носила и воду возила… бывало, беременная работаешь!.. и не успеешь поправиться после родов, – а все в работе, потому все на мне лежало; к тому же обужа, одежа были плохие. Однова я поехала с мужем в засеку ночью – дуб наваливать, да там и родила… так дуб и не привезли; после муж побил меня… Пьяный человек! Кое-как да кое-как поставили мы себе хатку. Осенью я набрала мер шесть орехов да продала за пять целковых и на эти деньги купила себе телочку, только она не пошла в руку, издохла… Я стала опять копить денежку; бывало, ежели захочешь покупать коровенку али жеребенка (я всегда сама заправляла этим), пойдешь к одному, другому – спросишь, – как бы не ошибиться… Один скажет то, другой – другое, и сличаешь… И выучилась я узнавать скотину.
Раз продают на слободе корову, и такая она на вид дохлая, – и всю-то ее можно в беремя унесть, весу пуда три, а просят недорого. Я попытала ее и вижу, что коровка добрая; помолилась богу, что будет не будет, отдала деньги и привела к себе: вот-то от этой коровы у меня идет весь завод; у меня теперь, моя матушка, две телочки такие – по селу не скоро найдешь… (Рассказчица перекрестилась.) Лошадку я тоже сама купила. Тоже начала я иструбчиками
(#c_1) промышлять. Войдешь с кем-нибудь в часть, и поставим иструбчик, а после продадим.
Так вот я тебе хотела сказать, за что невзлюбил меня народ-то. А вот за что: бывало, что я себе ни куплю, овечку ли, поросенка ли, и все мне удается, а оттого царь небесный посылал, что я научилась узнавать в них толк.
– Отчего же у тебя телушки-то хороши? – спросила хозяйка, по-видимому увлеченная житейской картиной.
– Да, правду сказать, оттого, что я в них души не чаю; кормлю их, сама не евши… иногда, случается, завернет стыдь, так я их на ночь своим кафтаном и одену; а когда они были махонькие, я их месяца три одним молоком поила: вот отчего они такие.
– А сами-то, верно, не хлебали молоко?
– Нет! А отчего не хлебали? признаться, у нас о ту пору велась убоина; боровка зарезали… Так-то, матушка моя! А еще потому меня невзлюбил народ и прозвал колдуньей, что я по гостям никогда не хожу да что у меня черные глаза; а есть когда мне по гостям-то ходить!.. А уж сколько отведала я горя-то от людей!.. мне на свет божий нельзя показаться; а ведь разве мне хотелось на срамоте-то людской жить? Да и побоев немало приняла…
– Ну, вот что, Марья: я слышала, ты и в церковь не ходишь; отчего ты в церковь не ходишь?
– Анна Тихоновна, да нешто мне не хотелось бы с людьми во храм пойти? разве мне не хочется встретить праздник, как добрые люди?
– Отчего же ты этого не делаешь?
– А вот отчего, моя милая: некогда, недосуг мне! мне дыхнуть некогда! Ты спроси-ко: у меня ведь двое маленьких детей, а там старик; он тоже ничего не делает, только лежит на печке; а муж, я говорила, какой он… Намесь говорю ему: «Пойдем воды принесем», – так бросился колотить. На всех все я одна! Матушка моя! я вот тебе расскажу, что я делаю-то: встанешь поутру, подоишь корову, прогонишь ее в стадо, а там прогонишь телят на выгон, придешь домой – принесешь воды, почистишь картофель, истопишь печку, соберешь позавтракать мужу с свекором, а там муки нет – надо на мельницу; а тут веретья нет – пойдешь добывать; все село обходишь: у того нет, другой не дает; а там раз пятнадцать в день-то сбегаешь в одонья свиней согнать, а там скотина своя пришла; надо ей дать корму, а там муж зовет – сарай покрыть, там плетень повалился… А как придет рабочая-то пора! Веришь али нет? рубашонки, рубашонки своей некогда зашить… вот лаптей и то нету! отчего же я перед тобой ноги-то поджимаю? – лапти развалились, онучи сопрели!.. разве нужд-то мало? Поживешь, друг, увидишь… иное место ум расступается! Опять же я все сама во всякий след… Я смогу и лошадь запречь, я не впервой одна езжала в город хлеб продавать. Бабье ли это дело?.. а нужда научит всему!..
Николай Васильевич Успенский
«Была осень. Близ засеки, в полуверсте от села, стояла новая непокрытая изба, вокруг которой в беспорядке лежали срубленные деревья.
В избе, на кровати с ситцевым одеялом, сидела молодая больная мещанка, прислушиваясь к ветру, потрясавшему рамы и стекла…»
Николай Васильевич Успенский
Колдунья
Была осень. Близ засеки, в полуверсте от села, стояла новая непокрытая изба, вокруг которой в беспорядке лежали срубленные деревья.
В избе, на кровати с ситцевым одеялом, сидела молодая больная мещанка, прислушиваясь к ветру, потрясавшему рамы и стекла.
В избу вошла низенького роста пожилая баба с мешком муки за плечами.
– Здравствуй, матушка; аи больна чем? – сказала баба, перекрестившись на образа и вскинув черными глазами на хозяйку.
– Больна, Марья: лихорадка бьет.
Хозяйка обнаружила беспокойство и начала ощупывать подле себя шубу.
– А где же муж-то?
– В засеку поехал; он скоро приедет.
– А я вам принесла два пуда муки, помнишь, я брала у вас хлебом, – сказала баба, садясь на скамейку и с каким-то робким недоверием поглядывая на хозяйку. – Аи у вас до сих пор нет работницы? Ноне они дороги стали… А я хотела попросить деньжонок у Амельяна Трофимыча – за иструб; ведь мы вчетвером его срубили; и моя доля тут.
Наступило молчание. Больная оделась в шубу, подошла к двери и проговорила:
– Что это он не едет? пора бы ему…
– Ничего, я подожду, матушка, – ответила Марья и пристально, но ласково посмотрела на хозяйку. – Анна Тихоновна! – вдруг сказала баба, – может быть, ты меня боишься?
– Нет, Марьюшка, – ответила больная, в замешательстве отворяя и опять затворяя дверь.
– Что я за оглашенная? – сказала баба, – ведь я вижу, что ты меня боишься! Я знаю… тебе небойсь сказали, что я колдунья.
Больная, по-видимому, сконфузилась.
– Я, Марья, этому не верю… мало ли что народ говорит?
Баба стала перед образами и воскликнула:
– Анна Тихоновна! вот тебе святые иконы! Убей меня господь, ежели это правда… Сошли мне господь истаять, как свечка тает!.. Царь небесный, батюшка, видит, сколько я перенесла от людей.
У бабы навернулись слезы; она снова села на скамейку и, сделав жест рукой, продолжала:
– Ну, постой, я тебе сейчас расскажу, за что меня прозвали колдуньей… Говорить аль нет?.. Может быть, я тебя беспокою?..
– Нет, Марья; известно, я здесь живу недавно и ничего не знаю; а от баб ваших я слышала…
– Ну, вот что же! – опять ставши перед образами, начала Марья.
– Создай мне, господи, чтобы мои руки-ноги отнялись, тресни…
– Марья, Марья! не божись… я тебе верю… Я боюсь такой божбы!
– Ах, Анна Тихоновна! за что я терплю такую напраслину?..
Наконец, баба начала рассказ:
– Жила я у своего дяди. Девчонка я была проворная и ростом махонькая, хотя и года мне вышли; замуж меня никто не брал, потому что я была сирота и ничего не имела.
Однова, зимою., подле нас ходили нищие – старуха с сыном; сын был взрослый; и стужа такая стояла на дворе – лютая! а одеты они были в худеньких кафтанах, и, видно уж, чему быть – то, верно, богом назначено, мне их стало с чего-то и-и-и-их жалко! и дала я им по кусочку, а погреться позвать не посмела от дяди…
Вскоре приходит к нам одна баба и говорит: «А что вы не отдаете Марью за нищего малого Андрея, за побирашку-то? ведь ее замуж никто больше не возьмет; хоть она девчонка моторная, да мала ростом – и сирота!»
Дядя мой и согласился выдать меня за того нищего малого. Так я и вышла за него.
Вошла я к ним в разваленный дом, и на дворе у них только и было: курица да кочет… Стали мы жить. Старуха тут померла; старик все сидел дома и ничего не делал, а мы с мужем все побирались; мой муж был такой хворый и какой-то, прости меня господи, ляд: что, бывало, ни наберет, все пропьет.
Года через два мы нанялись стеречь скотину; я начала думать, что на мужа надежда плоха, а надо мне самой копеечку сбирать…
Года через три мы стали наниматься в работники, где за плату, а где из хлеба… И много, моя голубушка, зазнали нужды!.. Дворик наш все стоял разоренный… Однако я маленько сберегла деньжонок, и бросили мы найматься в работники, а стали жить дома.
Жили мы здесь в селе; место тут засечное, а в засеке в те поры было слабо. Начали мы с мужем по ночам возить лес; он, бывало, повозит да ляжет на печку – от живота… А я примусь одна возить… Лошадку когда люди дадут, а когда нет… три года я на себе дрова носила и воду возила… бывало, беременная работаешь!.. и не успеешь поправиться после родов, – а все в работе, потому все на мне лежало; к тому же обужа, одежа были плохие. Однова я поехала с мужем в засеку ночью – дуб наваливать, да там и родила… так дуб и не привезли; после муж побил меня… Пьяный человек! Кое-как да кое-как поставили мы себе хатку. Осенью я набрала мер шесть орехов да продала за пять целковых и на эти деньги купила себе телочку, только она не пошла в руку, издохла… Я стала опять копить денежку; бывало, ежели захочешь покупать коровенку али жеребенка (я всегда сама заправляла этим), пойдешь к одному, другому – спросишь, – как бы не ошибиться… Один скажет то, другой – другое, и сличаешь… И выучилась я узнавать скотину.
Раз продают на слободе корову, и такая она на вид дохлая, – и всю-то ее можно в беремя унесть, весу пуда три, а просят недорого. Я попытала ее и вижу, что коровка добрая; помолилась богу, что будет не будет, отдала деньги и привела к себе: вот-то от этой коровы у меня идет весь завод; у меня теперь, моя матушка, две телочки такие – по селу не скоро найдешь… (Рассказчица перекрестилась.) Лошадку я тоже сама купила. Тоже начала я иструбчиками
(#c_1) промышлять. Войдешь с кем-нибудь в часть, и поставим иструбчик, а после продадим.
Так вот я тебе хотела сказать, за что невзлюбил меня народ-то. А вот за что: бывало, что я себе ни куплю, овечку ли, поросенка ли, и все мне удается, а оттого царь небесный посылал, что я научилась узнавать в них толк.
– Отчего же у тебя телушки-то хороши? – спросила хозяйка, по-видимому увлеченная житейской картиной.
– Да, правду сказать, оттого, что я в них души не чаю; кормлю их, сама не евши… иногда, случается, завернет стыдь, так я их на ночь своим кафтаном и одену; а когда они были махонькие, я их месяца три одним молоком поила: вот отчего они такие.
– А сами-то, верно, не хлебали молоко?
– Нет! А отчего не хлебали? признаться, у нас о ту пору велась убоина; боровка зарезали… Так-то, матушка моя! А еще потому меня невзлюбил народ и прозвал колдуньей, что я по гостям никогда не хожу да что у меня черные глаза; а есть когда мне по гостям-то ходить!.. А уж сколько отведала я горя-то от людей!.. мне на свет божий нельзя показаться; а ведь разве мне хотелось на срамоте-то людской жить? Да и побоев немало приняла…
– Ну, вот что, Марья: я слышала, ты и в церковь не ходишь; отчего ты в церковь не ходишь?
– Анна Тихоновна, да нешто мне не хотелось бы с людьми во храм пойти? разве мне не хочется встретить праздник, как добрые люди?
– Отчего же ты этого не делаешь?
– А вот отчего, моя милая: некогда, недосуг мне! мне дыхнуть некогда! Ты спроси-ко: у меня ведь двое маленьких детей, а там старик; он тоже ничего не делает, только лежит на печке; а муж, я говорила, какой он… Намесь говорю ему: «Пойдем воды принесем», – так бросился колотить. На всех все я одна! Матушка моя! я вот тебе расскажу, что я делаю-то: встанешь поутру, подоишь корову, прогонишь ее в стадо, а там прогонишь телят на выгон, придешь домой – принесешь воды, почистишь картофель, истопишь печку, соберешь позавтракать мужу с свекором, а там муки нет – надо на мельницу; а тут веретья нет – пойдешь добывать; все село обходишь: у того нет, другой не дает; а там раз пятнадцать в день-то сбегаешь в одонья свиней согнать, а там скотина своя пришла; надо ей дать корму, а там муж зовет – сарай покрыть, там плетень повалился… А как придет рабочая-то пора! Веришь али нет? рубашонки, рубашонки своей некогда зашить… вот лаптей и то нету! отчего же я перед тобой ноги-то поджимаю? – лапти развалились, онучи сопрели!.. разве нужд-то мало? Поживешь, друг, увидишь… иное место ум расступается! Опять же я все сама во всякий след… Я смогу и лошадь запречь, я не впервой одна езжала в город хлеб продавать. Бабье ли это дело?.. а нужда научит всему!..