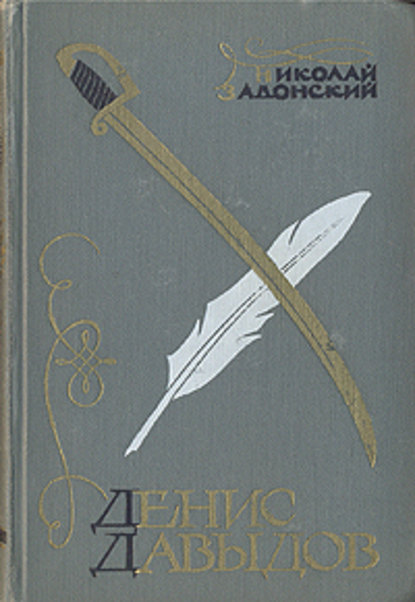По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Денис Давыдов (Историческая хроника)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Я не понимаю одного, – сказал Вяземский, – кто же все-таки из высоких особ тебе так пакостит?
Давыдов резко повернулся к нему лицом. Горячие глаза гневно вспыхнули.
– Кто, кто! – сердито повторил он. – Государь! Александр Павлович! Вот кто!
Вяземский невольно покраснел. Он находился еще под обаянием царя. Разочаровываться было неприятно и тяжело.
– Ну, уж это ты, кажется, напрасно, – произнес он неуверенно. – Государь мягок и благороден…
– Для кого как! – обрезал Давыдов. – А меня он давно не любит. Басен забыть не может. А того хуже, что чужеземцами и гатчинскими парадирами себя окружил. Эти всю жизнь по мне, как клопы, ползают. Знают о неприязни государя, ну и творят со мной, что хотят, и жалят, гады…
– Так напиши государю, – посоветовал Вяземский. – Возможно, они без его ведома приказ сочинили. Вспомни, как говорят французы: «Сильные мира сего причиняют нам меньше страданий, чем их обезьяны…»
– Может быть, спорить не буду. Напишу, пожалуй, – согласился Давыдов. – Да ведь письма-то через их руки проходят! Они хотя и невежды в делах военных, а на интриги и подлости ума хватает! Бештимтзагеры чертовы!
Вяземский понимал: в словах Дениса много горькой правды. Штабные господа могут, конечно, и письмо задержать и новую гадость придумать. Но все-таки писать государю необходимо, иных надежд на возврат чина нет. Надо лишь отвлечь Дениса от мрачных мыслей, ободрить, воздействовать на чувствительность, которая порой заглушает у него доводы рассудка.
Вяземский взглянул на Дениса, улыбнулся:
– Расскажи-ка лучше, как этим штабным господам в Париже нос утерли… Очень хорошо у тебя получается!
Денис сразу оживился, упрашивать себя не заставил.
– Да, брат, было дело… Собрались эти парадиры – педанты в генеральских мундирах – на холме, наблюдают, как наша пехота в Париж входит… Погода чудесная. Солнце. Музыка. Парижанки с цветами. Картина на всю жизнь. Солдаты идут весело, с песнями, шагом широким, русским, а не гусиным прусским. Шинели и ранцы в пыли, кивера прострелены, сапоги стоптаны. И утомление на многих сказывается. Еще бы! Всю Европу с боями прошли, непобедимого полководца победили… Ну, а парадирам не суть важна, а внешность. Лупят на солдат глаза бараньи, перешептываются, морщатся. В это время и подъехал к ним один из наших русских боевых генералов. Поздоровался, спрашивает: «Что это вы невеселы, ваши превосходительства? Войска-то наши как идут – смотреть любо!» Парадиров за живое задело. Вытянули шеи, как гусаки, и залопотали: «Можно ли вздор такой говорить! Плохо войска идут. Совсем устав забыли. Шеренги неровные. Одеты не по форме. Пряжки не чищены. А шаг у солдат каков! Шаг каков! Заново учить шагу надо!» Посмотрел генерал на педантов тупоумных, усмехнулся: «Смею, однако, заметить, ваши превосходительства, это тот самый шаг, коим мы дошли до Парижа». Откозырял и уехал.
Давыдов рассказывал мастерски. Тонкий, фистульный с хрипотцой голос придавал оригинальность речи. Парадиров представлял он в лицах, воплощал в себе. Каждая фраза произносилась с особой интонацией, сопровождалась характерным жестом. Бездарные ревнители шагистики выглядели, словно живые.
Вяземский от души смеялся. Денис, чувствуя, что рассказ дошел в полной мере, с довольным видом по старой привычке подкручивал усы. «Кажется, отошел уже», – подумал Вяземский, давно приметивший в характере приятеля склонность к быстрой смене настроений.
Разговор легко перешел на другие темы. Когда Вяземский рассказал о вчерашней ссоре с женой, Давыдов, дружески расположенный к Вере Федоровне, не удержался от упрека:
– Виноват ты, а не жена! Дал слово вчера вечером дома быть, так помни. Я не знал, а то бы сам тебя к ней доставил… Она умная, славная, обижать грех! Другая бы такого повесу, как ты, давно к рукам прибрала, а княгиня тебя не стесняет, знает, что горбатого одна могила исправит… Поезжай, проси прощенья, вези домой!
– Я и сам так хотел… Возок заложен. Может, и ты со мною?
– Нет, брат, в этих случаях третий лишний. Я, если разрешишь, вздремну здесь… Голова трещит… Приедете, разбудишь!
– Сделай милость! Располагайся как дома…
– Всю ночь, признаться, глаз не смыкал, – продолжал Давыдов, укладываясь на диване. – Стихи Ивановой писал… Влюблен, как дурак, ей-богу!
Он сверкнул глазами и с чувством продекламировал:
Я – ваш! И кто не воспылает!
Кому не пишется любовью приговор.
Как длинные она ресницы подымает,
И пышет страстью взор!
Давыдов смолк и неожиданно вздохнул:
– Нет, право, будь у меня средства, женился бы, оставил службу да принялся за сочинительство… Я в Париже записи партизанские Ермолову читал, одобряет… «Слог, – говорит, – живой, хороший, мемуарист толковый из тебя выйдет…»
– О боги, что я слышу! – комически воскликнул Вяземский. – Певец вина, любви и славы мечтает о презренной прозе!
– Всего, что видел, стихами не опишешь, – произнес Давыдов. – А поэзия… это статья особая! Я не цеховой поэт, не хватаюсь за перо по каждому поводу, но чувства поэтические всегда со мною… В пылу сражения, в дыму бивуаков, в кочевке партизанской и в женской красоте. Я прирос к поэзии, как полынь к розе, и не устану упиваться роскошным ее ароматом… Так-то, друг милый! А прозы презирать не должно… Это служба, отечеству не бесполезная… Этим не шути…
Давыдов хотел еще что-то добавить, но не смог. Лохматая голова странно качнулась вбок, руки беспомощно опустились. Сон настиг его мгновенно.
Вяземский прикрыл окно шторой и тихо вышел из кабинета.
Рассказ о случае с Денисом Давыдовым произвел большое впечатление у Четвертинских.
– Возмутительная история, – негодовал Борис Антонович. – Я знаю Дениса с юнкерского чина, его не раз притесняли по службе, но сводить счеты с неугодным лицом подобным образом – вещь неслыханная! Отнять заслуженный в сражениях чин! Какой жестокий, оскорбительный произвол!
Плотный и плечистый, похожий на цыгана Федор Иванович Толстой, подъехавший одновременно с Вяземским, сверкая черными глазами, прорычал:
– Экие скоты! Имена бы проведать! Да всех к барьеру!
Дамы выражали сочувствие пострадавшему по-своему. Вера Федоровна, уже примирившаяся с мужем, вздыхала:
– Бедняжка Денис Васильевич! Представляю, каково ему переносить все это!
– Ужасно, ужасно! – вторила сестра Надежда Федоровна. – Нет, я благодарю бога, что Борис оставил военную службу и находится вдали от всяких интриг и козней…
– Отставка, пожалуй, была бы лучшим выходом из положения и для Дениса, – заметил Борис Антонович, – но, насколько известно, он не имеет никакого состояния.
– В этом трагедия! – подтвердил Вяземский. – Остается одна надежда на государя. Денис как будто собирается писать ему.
– Не поможет! – решительно заявил Толстой. – Знаю. Испробовал. Меня дважды лишали офицерских чинов…
– Добавь, что за дуэли, законом воспрещенные…
– Все равно! Государь не принимает никаких жалоб по производству и разжалованию…
Мужчины заспорили. Вера Федоровна, зная, что убедить Толстого невозможно, он всегда упрямо стоит на своем, вмешавшись в разговор, сказала:
– Мне кажется, господа, нам прежде всего следует сделать все от нас зависящее, чтобы Денис Васильевич не так остро ощущал тяжесть удара и не впал в мизантропию…
Вяземский посмотрел на жену, улыбнулся:
– Умница! Ты словно читаешь мои мысли… Приглашай же всех к нам обедать. Это будет самым приятным сюрпризом для Дениса – видеть друзей, которые любят и ценят его не по чину.
– Чудесно, чудесно! И ты, конечно, сочинишь нечто подходящее для такого случая? – сказал Четвертинский.
– Да… В моей голове уже что-то бродит…
– Ветер, ветер! – рассмеялась Вера Федоровна и, ласково взяв руку мужа, добавила: – Я пошутила, Петр! Не обижайся!
* * *
Давыдов резко повернулся к нему лицом. Горячие глаза гневно вспыхнули.
– Кто, кто! – сердито повторил он. – Государь! Александр Павлович! Вот кто!
Вяземский невольно покраснел. Он находился еще под обаянием царя. Разочаровываться было неприятно и тяжело.
– Ну, уж это ты, кажется, напрасно, – произнес он неуверенно. – Государь мягок и благороден…
– Для кого как! – обрезал Давыдов. – А меня он давно не любит. Басен забыть не может. А того хуже, что чужеземцами и гатчинскими парадирами себя окружил. Эти всю жизнь по мне, как клопы, ползают. Знают о неприязни государя, ну и творят со мной, что хотят, и жалят, гады…
– Так напиши государю, – посоветовал Вяземский. – Возможно, они без его ведома приказ сочинили. Вспомни, как говорят французы: «Сильные мира сего причиняют нам меньше страданий, чем их обезьяны…»
– Может быть, спорить не буду. Напишу, пожалуй, – согласился Давыдов. – Да ведь письма-то через их руки проходят! Они хотя и невежды в делах военных, а на интриги и подлости ума хватает! Бештимтзагеры чертовы!
Вяземский понимал: в словах Дениса много горькой правды. Штабные господа могут, конечно, и письмо задержать и новую гадость придумать. Но все-таки писать государю необходимо, иных надежд на возврат чина нет. Надо лишь отвлечь Дениса от мрачных мыслей, ободрить, воздействовать на чувствительность, которая порой заглушает у него доводы рассудка.
Вяземский взглянул на Дениса, улыбнулся:
– Расскажи-ка лучше, как этим штабным господам в Париже нос утерли… Очень хорошо у тебя получается!
Денис сразу оживился, упрашивать себя не заставил.
– Да, брат, было дело… Собрались эти парадиры – педанты в генеральских мундирах – на холме, наблюдают, как наша пехота в Париж входит… Погода чудесная. Солнце. Музыка. Парижанки с цветами. Картина на всю жизнь. Солдаты идут весело, с песнями, шагом широким, русским, а не гусиным прусским. Шинели и ранцы в пыли, кивера прострелены, сапоги стоптаны. И утомление на многих сказывается. Еще бы! Всю Европу с боями прошли, непобедимого полководца победили… Ну, а парадирам не суть важна, а внешность. Лупят на солдат глаза бараньи, перешептываются, морщатся. В это время и подъехал к ним один из наших русских боевых генералов. Поздоровался, спрашивает: «Что это вы невеселы, ваши превосходительства? Войска-то наши как идут – смотреть любо!» Парадиров за живое задело. Вытянули шеи, как гусаки, и залопотали: «Можно ли вздор такой говорить! Плохо войска идут. Совсем устав забыли. Шеренги неровные. Одеты не по форме. Пряжки не чищены. А шаг у солдат каков! Шаг каков! Заново учить шагу надо!» Посмотрел генерал на педантов тупоумных, усмехнулся: «Смею, однако, заметить, ваши превосходительства, это тот самый шаг, коим мы дошли до Парижа». Откозырял и уехал.
Давыдов рассказывал мастерски. Тонкий, фистульный с хрипотцой голос придавал оригинальность речи. Парадиров представлял он в лицах, воплощал в себе. Каждая фраза произносилась с особой интонацией, сопровождалась характерным жестом. Бездарные ревнители шагистики выглядели, словно живые.
Вяземский от души смеялся. Денис, чувствуя, что рассказ дошел в полной мере, с довольным видом по старой привычке подкручивал усы. «Кажется, отошел уже», – подумал Вяземский, давно приметивший в характере приятеля склонность к быстрой смене настроений.
Разговор легко перешел на другие темы. Когда Вяземский рассказал о вчерашней ссоре с женой, Давыдов, дружески расположенный к Вере Федоровне, не удержался от упрека:
– Виноват ты, а не жена! Дал слово вчера вечером дома быть, так помни. Я не знал, а то бы сам тебя к ней доставил… Она умная, славная, обижать грех! Другая бы такого повесу, как ты, давно к рукам прибрала, а княгиня тебя не стесняет, знает, что горбатого одна могила исправит… Поезжай, проси прощенья, вези домой!
– Я и сам так хотел… Возок заложен. Может, и ты со мною?
– Нет, брат, в этих случаях третий лишний. Я, если разрешишь, вздремну здесь… Голова трещит… Приедете, разбудишь!
– Сделай милость! Располагайся как дома…
– Всю ночь, признаться, глаз не смыкал, – продолжал Давыдов, укладываясь на диване. – Стихи Ивановой писал… Влюблен, как дурак, ей-богу!
Он сверкнул глазами и с чувством продекламировал:
Я – ваш! И кто не воспылает!
Кому не пишется любовью приговор.
Как длинные она ресницы подымает,
И пышет страстью взор!
Давыдов смолк и неожиданно вздохнул:
– Нет, право, будь у меня средства, женился бы, оставил службу да принялся за сочинительство… Я в Париже записи партизанские Ермолову читал, одобряет… «Слог, – говорит, – живой, хороший, мемуарист толковый из тебя выйдет…»
– О боги, что я слышу! – комически воскликнул Вяземский. – Певец вина, любви и славы мечтает о презренной прозе!
– Всего, что видел, стихами не опишешь, – произнес Давыдов. – А поэзия… это статья особая! Я не цеховой поэт, не хватаюсь за перо по каждому поводу, но чувства поэтические всегда со мною… В пылу сражения, в дыму бивуаков, в кочевке партизанской и в женской красоте. Я прирос к поэзии, как полынь к розе, и не устану упиваться роскошным ее ароматом… Так-то, друг милый! А прозы презирать не должно… Это служба, отечеству не бесполезная… Этим не шути…
Давыдов хотел еще что-то добавить, но не смог. Лохматая голова странно качнулась вбок, руки беспомощно опустились. Сон настиг его мгновенно.
Вяземский прикрыл окно шторой и тихо вышел из кабинета.
Рассказ о случае с Денисом Давыдовым произвел большое впечатление у Четвертинских.
– Возмутительная история, – негодовал Борис Антонович. – Я знаю Дениса с юнкерского чина, его не раз притесняли по службе, но сводить счеты с неугодным лицом подобным образом – вещь неслыханная! Отнять заслуженный в сражениях чин! Какой жестокий, оскорбительный произвол!
Плотный и плечистый, похожий на цыгана Федор Иванович Толстой, подъехавший одновременно с Вяземским, сверкая черными глазами, прорычал:
– Экие скоты! Имена бы проведать! Да всех к барьеру!
Дамы выражали сочувствие пострадавшему по-своему. Вера Федоровна, уже примирившаяся с мужем, вздыхала:
– Бедняжка Денис Васильевич! Представляю, каково ему переносить все это!
– Ужасно, ужасно! – вторила сестра Надежда Федоровна. – Нет, я благодарю бога, что Борис оставил военную службу и находится вдали от всяких интриг и козней…
– Отставка, пожалуй, была бы лучшим выходом из положения и для Дениса, – заметил Борис Антонович, – но, насколько известно, он не имеет никакого состояния.
– В этом трагедия! – подтвердил Вяземский. – Остается одна надежда на государя. Денис как будто собирается писать ему.
– Не поможет! – решительно заявил Толстой. – Знаю. Испробовал. Меня дважды лишали офицерских чинов…
– Добавь, что за дуэли, законом воспрещенные…
– Все равно! Государь не принимает никаких жалоб по производству и разжалованию…
Мужчины заспорили. Вера Федоровна, зная, что убедить Толстого невозможно, он всегда упрямо стоит на своем, вмешавшись в разговор, сказала:
– Мне кажется, господа, нам прежде всего следует сделать все от нас зависящее, чтобы Денис Васильевич не так остро ощущал тяжесть удара и не впал в мизантропию…
Вяземский посмотрел на жену, улыбнулся:
– Умница! Ты словно читаешь мои мысли… Приглашай же всех к нам обедать. Это будет самым приятным сюрпризом для Дениса – видеть друзей, которые любят и ценят его не по чину.
– Чудесно, чудесно! И ты, конечно, сочинишь нечто подходящее для такого случая? – сказал Четвертинский.
– Да… В моей голове уже что-то бродит…
– Ветер, ветер! – рассмеялась Вера Федоровна и, ласково взяв руку мужа, добавила: – Я пошутила, Петр! Не обижайся!
* * *