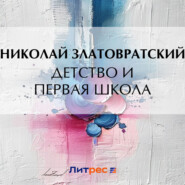По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Мечтатели
Год написания книги
1911
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Бог один для всех! – повторила она и, снова жалобно и ласково улыбнувшись, пошла к двери.
Дема был взволнован и всей историей с Липатычем, и этою сценой, которую он не мог понять хорошенько, но от которой чувствовал тяжесть на душе, и ему не нравился смех рабочих. Он взял фуражку и незаметно выбрался из трактира.
II
Липатыч быстро шел по заводской улице, расталкивая попадавшиеся ему группы рабочих. Напряженно растерянными глазами он глядел вперед себя и, по-видимому, кого-то и что-то искал, но кого ему нужно было, он никак не мог припомнить. Он только чувствовал, что ему было душно и жарко и что внутри у него что-то «подкатывало» и клокотало, как в котле с кипятком. Он скоро и незаметно дошел до конца улицы – и остановился: пред ним был пустырь. Тогда он вдруг как будто что-то вспомнил и, быстро повернувшись, пошел к своей квартире. Там была жена Демы, – высокая, худая, с высохшей грудью женщина, которая шила у окна, и ее ребятишки. Ребятишки бросились было весело к Липатычу, но, взглянув на его лицо, пугливо и смущенно остановились. Липатыч этого не заметил. Он стоял среди каморы и рассеянно оглядывал ее. Наконец он спросил: «Нет его?»
– Да ведь он с вами пошел, Вавил Липатыч.
– Куда пошел? – строго допрашивал Линатыч.
– Да ведь вы в трактир пошли… вместе пошли… всегда вместе… Я уж и не знаю – как так вышло, что вы друг от друга отбились.
Липатыч опять что-то вспомнил, сошел с лестницы, но вдруг вернулся, вынул из кармана горсть подсолнечных семян, молча насыпал их в подолы ребятишкам и снова вышел на улицу. Подойдя к трактиру и заглянув, не входя, в дверь, он, наконец, казалось, все понял и уже уверенно, как к определенной цели, зашагал крупными шагами за заводскую округу. Чем дальше оставлял он за собой и невнятный гул, и говор заводской улицы, и песни, и визг гармоники и трактирных дверей, тем он начинал чувствовать спокойнее на душе и как будто приходить в себя: его не душило больше и не клокотало внутри. Он шел минут десять. За заводом скоро город кончился, и за небольшим выгоном уже начались поля: рожь, гречиха, горох… Кругом было так тихо, что Липатычу не верилось, что у него не шумит в ушах, не бьет в голову, не вертится все колесом пред глазами. Он остановился, посмотрел на ясное, беспредельное небо и вздохнул: «О, господи!.. Господи! – прошептал он. – Благодать!..» Ему стало почему-то грустно, но и хорошо. Потом он почему-то подумал: «Али умирать уж пора?..» И при этом он почувствовал, что там, на самой глубине души, что-то еще ныло и болело, за что-то было обидно… Он опять вспомнил, зачем пришел сюда, и стал кого-то внимательно высматривать. Вон вдали, среди самого поля, он заметил черную фигуру, неподвижно сидевшую в глубине межи. «Он самый!» – подумал Липатыч и, утвердительно мотнув своей лохматой седой головой, подошел к полям.
Между двумя полосами высокой золотистой ржи сидел на пригорке один-одинешенек Дема и задумчиво делал букетик из нарванных им васильков, ромашки и ржаных колосьев. Грубые и почерневшие от железной пыли пальцы плохо ладили с тонкими и нежными стеблями и лепестками. Но Дема, кажется, мало обращал на это внимания. Он иногда бросал в сторону сделанный букетик, срывал несколько новых колосьев ржи и начинал внимательно вглядываться в них, считать семена, пробовать их на язык. И в то же время он что-то мурлыкал себе под нос: это была какая-то длинная-длинная и бесконечно грустная мелодия, состоявшая даже не из слов, а из одних певучих звуков.
Липатыч подошел к Деме и тихо остановился возле него. Дема мельком взглянул на него и снова взялся за букетик, продолжая мурлыкать. Липатыч молча присел к нему и стал вертеть бумажную сигаретку.
– Я так и знал… Здесь, мол, он, беспременно, – наконец заметил Липатыч, не глядя на Дему и, по-видимому, весь занятый собственными мыслями.
Дема молчал.
– Беспременно! Я так и знал, – опять говорил Липатыч и уже начинал раздраженно сплевывать, затягиваясь крепким дымом махорки. – Да все одно – ахинея… Ничего не будет… Это вот ежели умирать пора – точно, места прекрасные… Пожалуйте, милости просим!.. И могилка свежая, и цветочки прорастут… В лучшем виде!..
– Что ж, Вавил Липатыч, я ведь, кажись, никому своим занятием не мешаю, – грустно заметил Дема, – на глаза не лезу… Стараюсь сторониться…
– Не мешаю!.. Не мешаешь – да не так рассуждаешь!.. Вот об чем я говорю, – строго и даже сурово сказал Липатыч.
– В чем же я не так рассуждаю?.. Только что насчет правды… Правду свою всякий должен говорить предо всеми. Запрещать это нельзя, и притом с кулаками!.. Надо быть справедливым, – в свою очередь возразил Дема в ответ на строгое поучение Липатыча, стараясь по возможности говорить резонистее и поучительнее.
– Заладил!..– раздраженно заметил Липатыч и сердито сплюнул. – Словно поп… ха!.. Право, словно поп, – повторил Липатыч и фыркнул в бороду: ему почему-то понравилось самому это сравнение Демы с попом.
Они оба замолчали. Дема все думал, что бы такое сказать, чтобы окончательно успокоить и себя, и Липатыча. И наконец, сказал то, что говорил всегда в затруднительных случаях.
– Я вам всегда говорил, Вавил Липатыч: оттого вы на меня осерчаетесь, что у вас – одно мечтание; а у меня – другое.
Но это замечание, по-видимому, не произвело теперь того впечатления на Липатыча, какое производило прежде. Дема искоса посмотрел на старого приятеля – и удивился. Липатыч, очевидно, совсем не слыхал, что сказал Дема: он сидел, нагнув седую большую голову над коленками, и до того смотрел грустно и раздумчиво в расстилавшуюся пред ним даль, что Дема почти не узнал Липатыча. Никогда еще не видал он его в такой «меланхолии», и Деме стало почему-то жалко старика, и вдруг он понял как будто, зачем это его старый приятель заговорил нынче так насмешливо о «могилке».
– Эх, брат, Демьян Петрович! – неожиданно заговорил Липатыч таким необычно мягким голосом, все посматривая перед собой вдаль, что Дема невольно, как будто ожидая чего-то необыкновенного, насторог жился, стараясь не проронить ни одного слова своего приятеля. – Тоже, друг, говорят: правда!.. Видали и мы эту самую правду… Видали!.. Не обидел бог. Было у меня такое времечко в моей жизни… Тоже стар уж я, добрая ты душа, грешить-то зря али попусту языком болтать. Тоже слова-то они с языка не спуста идут… Гляди, не ноне-завтра в яму свалите… Было и у меня времечко. Давно уж это было, признаться… Ты еще тогда, поди, без штанов бегал… Эвона когда это!.. Тянул это я тогда лямку на немецком заводе, в Питере, по Шлиссельбургскому трахту… Ну, тяну эту лямку, как быть, по чеети, умный ты человек, – а не то что… Тогда я, даром что моложе был, – куда был скромнее… Это уж я, умная ты голова, от старости озорую!.. А ты думал, я уж всегда был такой пропащий?.. Нет, погоди, друг… Так вот, служу я, значит, у этих немцев верой-правдой, жизнь свою для них покладаю и конца этому не чаю; только, леточком этак, помню, вдруг к нам в мастерскую гости!.. Добро пожаловать… Впереди дирехтор наш идет, значит, дорогу показывает, все объясняет, а за ним персона со звездой, а там еще персона, а за ними все юнцы – десятка два их было али три… Идут, работы рассматривают, инструменты, машины… Ну, глядят – как глядят, и шабаш!.. Поглядел и я на них, а потом думаю – чего нам в их!.. Их дело – глядеть, наше дело – статья особая… Забрал в руки напильник – только свист пошел за ушами!.. Глядь, кто-то меня по плечу трогает… Обернулся, а вокруг меня все гости стоят… Отер рукавом лоб, смотрю на них, – что дальше будет. «Молодец, – говорит один персона, – люблю таких!.. Эка, – говорит, – силища-то!.. Ну-ка, – говорит другому персоне, – ощупайте его!.. Жилы-то, жилы-то – проволока, – говорит!.. А это-кремень!..» А сам это меня пальцами то там, то в другом месте потычет. Ну, думаю себе, – что-то будет с тобой, Липатыч!.. Как бы тебя на конную площадь в продажу к барышникам не пустили!.. А персона тут и говорит нашему директору: «Отдайте, – говорит, – его нам… Мы, – говорит, – его на выставку выставим!» Смеется. Дирехтор говорит: «С удовольствием!..» И раскланивается… Ему что я!.. Конечно, с нашим удовольствием, хоть в омут головой спущай… «Ну, хочешь, – говорит, – братец, к нам в техническую школу?.. Вот ты будешь работать, а наши молодцы эти будут смотреть на тебя да к делу приучаться. Жалованья, – говорит, – тебе будет столько-то, работы столько-то…» Говорит он, а у меня пред глазами ровно уж мухи летают… Ну, – думаю, – должно, создатель с небеси на меня своим оком воззрил… Эко, подумаешь, на человека счастье сдуру нанесло… Ну, и пожил я тогда, умный ты человек!.. Было времячко и у нас!.. Было!.. Что!.. Сам себе хозяин, сам себе работник!.. Встанешь утром с прохладой, пойдешь в мастерские, материал, струмент изготовишь… Сам это, братец, в чистой блузе ходишь… Сапоги глянцем наведешь… Рыло-то с мылом вымоешь… Ну, а там, глядишь, – налетит к тебе в мастерские молодая команда… Шу-шу!.. Зажужжит, что улей… Молодо все, весело… Все барчуки… Неделя прошла, а уж все со мной ровно век прожили… Один кричит: Липатыч! мне бы то, пожалуйста… другой: Вавило Липатыч, будьте добренькие, мне бы это показать: как тут да как там… Ну, а ты, значит, этак держишь себя строго, в ноте, – тому покажешь, другому… Объяснишь все, обстоятельно… Полюбил, друг мой, я эту молодягу, ну, вот ровно своих племяшей… Такая у нас дружба пошла… А вечером, коли главный наставник уйдет, побросают инструменты, заберутся кучкой в угол, на станках, на чурбанах усядутся, и тут-то пойдут беседы!.. Меня притащут, посередь себя посадят… Про наше житье заставят рассказы говорить… И пойдут кто что знает!.. «Эх, господа, – закричит какой ни то кудряш, – кабы вот рабочего человека так-то устроить… по божьему!..» А другой кричит: «Кабы вот и мужичку деревенскому такое ж одолжение насчет жизни сделать?..» А третий расскажет, как по другим странам наш рабочий человек живет… И все так любовно… Все чтобы так доброе сделать трудящемуся, значит, человеку… Помню, один такой кудряш был… Говорит, – у мово, – говорит, – дяденьки фабрика; умрет – мне достанется… Я, – говорит, – первым делом по любви… Окликну, – говорит, – рабочих: вот, мол, братцы, так и так, по любви будем жить… Я пред вами весь начистоту буду… Обо всем сообща будем договариваться. Я в чем прошибусь – вы поправите; вы в чем недомекаете – я укажу… Говорит, а у самого глаза так и играют… Известно – вьюнош!.. А тут, глядь, кто ни то песню затянет… Одним махом подхватят, так ровно к небесам и вынесут!.. Голоса молодые, воздуху забирают в полную волю!.. Да, было времячко, Демьян Петрович, и у меня… Есть чем вспомнить… Да! Пожил Липатыч часок!.. Ну, и за то спасибо… Благодарим покорно!.. Так ли?
И Липатыч как-то особенно выразительно высморкался на сторону – и замолчал. Он ждал, может быть, что скажет Дема. Но Дема словно застыл, уставив глаза в землю, как будто рассказ Липатыча убаюкал его до сонных грез.
– Ну и что ж после того? – спросил Липатыч и долго смотрел на Дему. Но Дема не шелохнулся.
– Измена!..– выразительно сказал Липатыч.
– Слышь, Демьян Петрович, что я говорю: из-ме-е-на-а! – строго и отчетливо выговорил Липатыч. – И что всему начало и причина – немец… Вот что я говорю… Ты теперь пойми!..
Дема зашевелился. Очевидно, он готовился что-то наконец сказать.
– Что ж, Вавило Липатыч, – почему ж немец?.. Разве измена без немца быть не может, – сказал он.
– Где эти юнцы?.. Ты мне скажи – где они? – строго спросил Липатыч.
– Выросли, надо быть…
– Где ж они рощеные-то?
– Вы, Вавило Липатыч, не огорчайтесь очень, – мягко заметил Дема. – Где ж им быть?.. Знамо, они не немцы, а наши… барчуки… Проживают где ни то, потому они по мастерским или где около простого рабочего… черной работой заниматься не станут… А живут где ни то, по-благородному… Может, по заграницам.
Вдруг Липатыч поднялся и, нагнувшись к самому уху Демы, сказал каким-то тяжелым удрученным шепотом:
– Вот тут и есть… измена!.. Это он самый их деньгой обошел!.. Отшиб – прямое дело!..
Дема сомнительно покачал головой.
– Ну? что еще? – сурово прикрикнул на него Липатыч, выпрямляясь во весь рост. Дема опасливо взглянул на него: пред ним снова стоял прежний Липатыч, тот «озорной старик», которого знал и по-своему любил весь завод.
– Вот, Вавил Липатыч, – заметил Дема так же сурово, – вы вот все на стороне вину ищете… А я говорю: надо быть справедливым… особливо старому человеку…
Липатыч сурово посверкал на Дему своими черными глазами, плюнул – и, засунув руки в карманы штанов, сердито посвистывая, гордым гоголем пошел к заводу.
Дема только грустно покачал головой и остался. Он любил и очень уважал Липатыча, но он никак не мог, по мягкости и рассудительности своей натуры, переносить резкий, нетерпимый тон, который в последнее время все больше и больше прорывался у Липатыча, – а потому часто на него обижался. Дема знал Липатыча давно, слышал, как он ругает ругательски «немцев», и сначала просто не понимал, почему это Липатыч распалялся всегда такой к ним ненавистью. На заводе, на котором служили он и Липатыч, было и прежде и теперь всякое начальство: были и немцы (точно, что их было немало), и поляки, и евреи, и англичане (ну, положим, что и это все «немцы»), но были и самые настоящие, свойские русаки. Вот и теперь у них смотритель мастерской – самый коренной русак, и зовут его Псой Псоич (шельма он – точно и выбрался в начальство всеми правдами-неправдами). Очевидно, Липатыч был несправедлив и разносил только немцев единственно по своему озорству и крайней нетерпимости; когда же ему указывали на Псоя и спрашивали, какой он будет нации, – он с обычной своей озорной резкостью говорил: «Какой Псой нации? Пес он – вот какой нации!..» Дема так и не мог понять озлобления Липатыча против немцев и приписывал его исключительно «озорству».
И вот теперь, когда Липатыч так оскорбительно оставил Дему одного, – он, однако, не обиделся: он вспомнил и признание Липатыча, и его необычно мягкий тон, каким он вспоминал о своем прошлом, и его замечание о «могилке», и чем больше он думал об этом, тем грустнее и больнее становилось у него на душе; ему стало жалко и «старого служаку» Липатыча, и себя самого, и многих-многих других, – жалко и вместе обидно за что-то… На него как будто вдруг повеяло общим холодом жизни, тем холодом, который раньше он смутно ощущал в себе и думал, что это только ему «холодно», и от которого бежал он в свои «мечтания» среди полей, стыдливо скрывая их от шумной сутолоки заводской жизни.
– Ах, Липатыч, Липатыч, – прибавил он, так же загадочно и уныло покачав головой. Дема поднялся и медленно, раздумывая, пошел домой. Он вдруг открыл в Липатыче что-то, чего прежде не знал и не понимал.
III
Это случилось спустя месяц после «дружеского признания» Липатыча. Все заметили, что с Липатычем творится что-то необычное. Липатыч перестал совершенно кстати и некстати разносить «немцев». Липатыч сделался сразу как-то мягче, добродушнее и вместе с тем таинственнее; Липатыч не только не стрелял теперь сурово и вызывающе направо и налево своими черными глазами, но – напротив – весело всем улыбался ими и как будто каждому, на кого смотрел, загадочно подмигивал. Рабочим своей мастерской, поочередно, он уже успел неясно и туманно намекнуть на что-то, что сулило им в ближайшем будущем неизреченные блага. Дело было в том, что Псоя наконец совсем «порешили», и мастерская ждала назначения нового начальника. Завод был заинтересован. И только Юрка с некоторыми другими заводскими скептиками позволял себе по-прежнему сомневаться в значении таинственных подмигиваний Липатыча; но это всего единственный раз нарушило добродушное настроение Липатыча и вызвало в нем взрыв старого «озорства».
– Кто же он это будет? этот самый незнакомец? – спросил как-то опять в трактире неугомонный Юрка Липатыча, – стало быть, из русачков, не из немцев?
– Не из немцев, брат! А из наших… из самых, из настоящих, – таинственно подмигивая, сказал Липатыч.
– Та-ак-с!.. Какие же такие у них будут особые прелести?.. Все мы вот ждем от вас, что разъясните в точности, а замест того – только один туман…
– Дурак!..– проворчал сквозь зубы Липатыч. Он начинал волноваться.
– Это они-то-с… Ну, не велики прелести! – издевался Юрка, поощряемый обычным хохотом трактира.
Липатычу не хотелось объясняться с Юркой, а тем меньше открывать ему что-нибудь из того таинственного сокровища, которое полжизни носил он в своей груди. Но ему, однако, хотелось сразу убить Юрку одним словом. Он долго и пристально смотрел на него.
– Прелести какие – говоришь? – спросил он с расстановкой и отчетливо, – Душа-а!..
– Хо-хо! – залился Юрка. – Ну, нынче эта штучка по дешевым ценам ходит!..