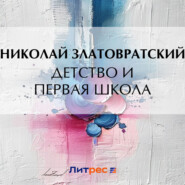По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Мечтатели
Год написания книги
1911
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Мечтатели
Николай Николаевич Златовратский
«Когда кто-нибудь спрашивал Липатыча или Дему, всякий тотчас же, с особой готовностью, показывал в угол длинной и высокой мастерской с огромными закопченными и пыльными окнами, где они оба работали бок о бок: «Вон, вон они, Липатыч и Дема, у нас как же!…»
Николай Николаевич Златовратский
Мечтатели[1 - Впервые – в журнале «Русское богатство». 1893. No 4.Неоднократно выходил отдельной книгой, в сборниках рассказов Н. Н. Златовратского. Включен в собрания сочинений Н. Н. Златовратского 1897 г. и 1912—1913 гг.Текст печатается по изданию: Златовратский Н. Н. Собрание сочинений. Спб., 1912. т. 7.]
Рассказ
I
Когда кто-нибудь спрашивал Липатыча или Дему, всякий тотчас же, с особой готовностью, показывал в угол длинной и высокой мастерской с огромными закопченными и пыльными окнами, где они оба работали бок о бок: «Вон, вон они, Липатыч и Дема, у нас как же!» И при этом все почему-то улыбались непременно, но улыбались добродушно, ласково, любовно, как будто одно напоминание о них уже вызывало особое настроение в душе заводского человека.
Липатыч и Дема – оба были простыми рабочими в механической мастерской и закадычные приятели.
Липатыч был старый служака, выслуживший уже все сроки на пенсию, если бы только последняя для него существовала; Дема был почти вдвое его моложе. Липатыч был давно одинок и давно уже семьей была для него только та постоянно менявшаяся артель, в которой он работал; Дема же был женат и имел двоих детишек. У Липатыча поэтому не было своего хозяйства, и он нанимал «угол» в каморке Демы, а ребятишки Демы звали его «дедушкой».
И Липатыч и Дема были крестьяне, но Липатыч так давно уже был увезен из деревни в «учебу», что совсем забыл о своем деревенском происхождении: ему казалось, что не только он сам никогда не выходил за пределы «заводской округи», но что и родился он чуть ли не в самой мастерской. Это был истинно рабочий человек, – та, всем знакомая городская «мастеровщина», у которой, как известно, есть свой «нрав».
Дема – совсем наоборот. Несмотря на то что он уже лет десять работает рядом с Липатычем, несмотря на то что уже давно и семью к себе выписал он из деревни, – он весь жил в деревне; он за все эти десять лет как будто не видал хорошенько своей мастерской; она с утра до вечера только неясно, в каком-то тумане мелькала пред ним. И завод, и самый город – это было для него что-то временное, переходящее, как сонное видение, как станция, на которой останавливаются на несколько минут, чтобы проглотить кусок. Перед ним, в туманной дали, как желанная пристань, постоянно носилась деревня; вместо закопченных и сырых стен мастерской, среди грохота и шума машин и инструментов, он слышал трели жаворонка, скрип возов с сеном и снопами, говор сельской улицы; он видел свою избу, свою корову, лошадь, широкие поля, чистое бирюзовое небо, зеленый лес и… и простор, простор необозримый. «Вот уж скоро, – думал он постоянно и упорно каждый вечер, кончая работу в мастерской, – вот еще разве годок только, а там с ребятами переберемся к себе в деревню… И жена вздохнет… Все же оно там привольней, а то здесь, в прачках, уморилась… Теснота, сырь, болезни… Только бы вот на хозяйство скопить, а там и шабаш!..» Но проходил год, другой, а Дема все стоял у станка с утра до ночи, а другой раз и с ночи до утра, и пред ним по-прежнему, вместо грязного, темного и вонючего заводского двора, расстилался чистый, благоуханный простор деревенского поля… Дема, одним словом, был ненадежный человек среди коренного заводского населения; он принадлежал к той особой, впрочем, у нас еще довольно значительной группе рабочих, которая известна на заводах под кличкой «деревни».
Таковы были наши два приятеля. Дема уважал и по-своему даже любил Липатыча; Липатыч был привязан к Деме, но, как городской человек и притом пожилой, несколько ему как будто покровительствовал. Вообще они жили мирно и дружно, за исключением тех случаев, когда на Липатыча «находило» или «накатывало», как сам он говорил, и когда Дема за него «опасался». Особенно часто стало «находить» на Липатыча в последнее время, – оттого ли, что он чаще стал прихварывать или по другим причинам. Прихворнув, теперь обыкновенно Липатыч сердито говорил: «Ну, пора, пора тебе, служака, в яму лезть! Чего еще ждать?.. Сваливай колоду – отслужила!.. Кому нужда в гнилой колоде!.. На гнилую колоду неоткуда и слезе капнуть!..» Дема обыкновенно обижался на эти речи Липатыча, но в душе тем не менее хорошо понимал и чувствовал, как холод одиночества снедал Липатыча, и старался его утешить. Однако Липатыч этого не любил. «Ну, деревня, распустила нюни!.. А ты гляди прямо, в самую точку… Нечего глаза-то в сторону сворачивать!..» – ворчал он. И действительно, чуть только болезнь «отпускала» Липатыча, – он снова бодро нес свою рабочую службу, и только теперь чаще, чем прежде, разнообразя ее взрывами того особого «озорства», которое знало за Липатычем все население завода.
– Эй, деревня! Али помирать здесь задумал? – говорил одним воскресеньем Липатыч, входя в мастерскую, где уже все не только кончили «казенные уроки», но и то, что успели урвать из «казенного времени» на свой собственный барыш, а Дема, ничего не замечая и не слыша, продолжал неистово визжать громадным рашпилем по куску стали, воображая, может быть, что жаворонок напевает ему свои трели. – Ты чего же, деревня, забыл, что ли, что ноне праздник?.. Чего жадничаешь? Вас бы, жадных, давно следовало по шеям с завода… Баловство вот эдакое заведете да потом по деревням и разбежитесь… Брось, говорю, эту ахинею – все об одном думать… Я, брат, думал тоже. Не хватись вовремя, смотрел бы давно вперед затылком… На гвоздь уж веревку прилаживал… Бог спас!.. Я вот и один, да от такой подлости отбился, а у тебя семья… Брось, говорю…
– Ты, Липатыч, другой человек, – тихо и как-то мечтательно заметил Дема.
– Какой такой другой человек? Почему так? – обиделся Липатыч, грозно сверкая темными глазами из-под седых бровей. – Это еще надо доказать… Да… И ты человека старше себя обижать не имеешь права.
Липатыч был вообще очень чуткий человек ко всякой обиде; теперь же он окончательно был рассержен и хотел уйти, не дождавшись приятеля.
Тогда Дема, взглянув мельком на Липатыча, грустно почему-то покачал головой и сказал:
– Я вас, Вавил Липатыч, обижать не намерен… Я только к тому, что у меня – одно мечтание, а у вас – другое. Я вот к чему.
– Ты так и говори… А то – другой человек!.. Мы, брат, все одни, человеки-то!.. Пойдем чай пить.
Оба приятеля выбрались из мастерской и пошли по направлению к трактиру, и трудно было определить, кто из них был старше, так как Липатыч всегда шел впереди, гоголем, гордо и вызывающе подняв, как петух, голову, покрытую копной седых волос, на которой сбоку, блином, лежал замасленный картуз, а обе руки были засунуты в штаны под блузу; Дема же, напротив, шел тихо, медленно двигая длинными ногами, сутуловато согнув широкую спину и опустив вниз изъеденное оспой широкое добродушное лицо, с мясистым носом и крупными губами, как будто его неустанно пригнетала его неотвязная дума.
В ближайших к заводу трактирах и портерных[2 - Портерная – торговое заведение, где продают и пьют портер, английское темное пиво.] стоял дым коромыслом; все столы были заняты. Двери уже не визжали, а как-то жалобно стонали, устало и изнеможенно. Липатыч и Дема сели рядом с одной кучкой рабочих. Липатыч заказал чаю и мрачно молчал. Дема уже не раз внимательно и опасливо взглядывал на него и чувствовал, что нынче Липатычу не по себе и что, того гляди, он окажет свое «озорство».
Рядом сидевшие рабочие о чем-то громко беседовали, когда Липатыч совершенно неожиданно прервал их, не обращаясь в частности ни к кому.
– Я говорю, что всему причина дух этот самый… немецкий, – твердо и уверенно выговорил Липатыч на всю комнату несколько осипшим басом, подняв вызывающе, как и всегда, свою седую львиную голову и сверкая из-под седых бровей темными глазами. – Да, и от этого к нам всякая пакость идет…
– Ну-у! – проворчал Дема и сокрушенно покачал головой. Он уже знал, что такой приступ ни к чему хорошему не приведет, если Липатыч попал на эту «линию».
– Не смей! Молчи! – замахал Липатыч грозно своей, принявшей уже совсем стальной цвет рукой, предупреждая возражение. – Я знаю, что говорю… Сорок пять лет он у меня вот где сидит… И как его только к нам через границу пропущают – диво!.. Деньги, главная вещь, – не иначе… Потому, нет чтобы перенять что ни то хорошее от него, а все норовят пакость самую… Вот от этого и нет ни свету, ни воздуху для рабочего человека… Это просто одна подлость али измена!.. Да, ума нет – вся причина: дурачье! Больно уж смирен да богобоязлив русский человек, страх божий у него есть, – вот его всякий и лупит и в хвост, и в гриву…
– Ну, брат, тоже… – возразил вдруг один молодой, худенький и низенький рабочий, в новой синей блузе, с темным маленьким лицом, длинным сухим носом и быстрыми бегающими глазками, которого все звали Юркой. – Другой русский тоже, брат… есть тоже такие… хахали!.. О, о! Еще почище немца… Еще они самим-то немцем вроде как колбасой закусят да жидом поперчат!..
Громкий хохот десятка голосов раскатился по трактиру.
– Что-о? – сурово спросил Липатыч.
– А вот и то! – говорил поощренный Юрка, входя в азарт. – Брешешь ты – вот что! Немецкий дух!.. Своего весьма достаточно… Зачем, вишь, за границу пущают, измена! А ты вот поди попробуй – устрой шламбаум?
– Ты со мной не смей так говорить… Слушай ухом, а не брюхом об чем говорят, – степенно-сурово сказал Липатыч. – Молодо-зелено так-то разговаривать… Послужи с мое… Сорок пять лет…
– Что – сорок пять лет! Заладил одно!.. Тут, брат, наука-то нехитра… Мы тоже побывали в разных хороших местах, насмотрелись прелестей… Немцы! И немцы есть хорошие люди… Тут не в немце дело, а в положении лица… в жизни… в самой то есть жизни… Понял? Вот я тебе и говорю – своих подлецов весьма достаточно… Русачок-то, он, брат, тоже скользкий, мылом смазан… хоть бы наш Псой Псоич!.. Да чего далеко ходить: середь нас самих такие есть братцы-русачки – их голой-то рукой не трожь… Ящеры! Ха-ха! – засмеялся Юрка своей собственной остроте, и хохот гостей снова потряс жидкие трактирные перегородки, а на лампах задребезжали стеклянные подвески.
– Молчи! – крикнул Липатыч, грозно поднимаясь из-за стола. – Как ты смеешь такие слова говорить про своего брата? про рабочего?.. Ящеры?.. Да ты кто сам-то? – И вдруг Липатыч, схватив Юрку за плечи своими могучими руками, затряс его, как медведь молодую осину. – Ты кто, молошная твоя губа? – спрашивал Липатыч, сверкая глазами и подставляя свой толстый с синеватым налетом нос к самому лицу Юрки. Юрка не ожидал такого наступления: он смутился и медленно отступал, когда, не торопясь, по обыкновению, подошел к Липатычу Дема и ласково и тихо положил ему на плечо руку.
– Вавил Липатыч, нельзя так, – проговорил он, – несправедливо… У всякого своя есть правда… и всякий волен свою правду говорить… Надо быть справедливым…
– Ежели правда – всегда скажу! – заговорил ободренный защитой и Юрка. – Почему правду нельзя говорить?
– Убью!.. Молчи!.. Слышишь, убью за свово брата! – кричал Липатыч на Юрку, не обращая внимания на Дему. – Все поносят, все… и ты еще… Дуби-ина-а эдакая!..– выразительно закончил Липатыч и оттолкнул, хотя и осторожно, могучими руками слабого и худенького Юрку к стене. Затем он сурово окинул взглядом Дему и, ничего не сказав, отвернулся от него в сторону. В это время Юрка, чтобы оправиться и несколько поддержать в себе упавший дух, стал крутить дрожащими руками сигаретку, опасливо посматривая исподлобья на Липатыча, который продолжал стоять посередине комнаты, обводя возбужденным взглядом все еще смотревшую на него толпу трактирных гостей. Это временное затишье, по-видимому, опять придало храбрости неугомонному Юрке.
– Правду, брат, не скроешь, – снова осмелился он заметить, хотя и значительно тише. – Видали мы народец и из наших русачков… Видали, брат… Плодится он теперь не меньше немца… Не к чему и за границу посылать!.. Тоже немецкий вкус понимаем! – уже довольно свободно закончил Юрка, попадая в прежний тон снова, когда раздался поощрительный хохот.
– Отстанешь ты? А? Ты меня, окаянный, до какой степени довести хочешь? – уже не сказал, а как-то зашипел на Юрку Липатыч, высвобождая из карманов руки. Заметив жест Липатыча, Юрка не решился продолжать. Но зато вдруг возмутился смиренный Дема; с ним произошло что-то странное; он весь покраснел, пот выступил у него на лбу, прежде чем он собрался говорить.
– Не хорошо… так… Нет, не хорошо, – сказал он, не глядя на Липатыча, и на лице его уже не было обычной грустной улыбки; оно было сердито, и напружившиеся на лбу жилы побагровели от непривычного волнения и напряжения. – Что ж, коли правда?.. Правду должен говорить всякий… Надо быть справедливым… Особливо старому человеку… Это – первое дело!..
Липатыч подозрительно и удивленно взглянул на Дему.
– Правда, по-твоему? Правда, говорите?.. А? – Так на что же тогда надеяться-то, надеяться на что, окаянные вы люди? – крикнул Липатыч, но вдруг в самом конце его голос неожиданно надтреснул, задрожал, он почувствовал, как что-то поднялось у него к горлу и слезы подступили к глазам.
Липатыч смутился, быстро отвернулся, отошел в свободный угол и затем, подойдя к стойке, сердито сказал буфетчику: «Налей!..» Он выпил стакан водки и, не закусывая, ни на кого не смотря, не оборачиваясь, сердито вышел в другую, заднюю дверь.
Дема все время исподлобья следил за ним – и опять грустная, задумчивая улыбка чуть заметно появилась на его губах.
– Липатыч-то наш… загрустил, братцы, – уже совсем развязно сказал окончательно оправившийся Юрка, подсаживаясь к товарищам.
– Загрустишь, брат, – заметил глухо кто-то из дальнего угла. – Еще то ли заговоришь, как во тьме-то кромешной тридцать лет просидишь!
Дема при этом вдруг о чем-то вспомнил, может быть о своем собственном «мечтании», и глубоко вздохнул. Он было поднялся, чтобы выйти из трактира, как тихо и медленно ступая, словно в туфлях, подошла к нему и к Юрке какая-то странная фигура, в длинном, потасканном и засаленном пальмерстоне, в резиновых калошах вместо сапог, в старом цилиндре, с большими очками на толстом носу и с бритым подбородком. Странная фигура сняла цилиндр, оголив совсем гладкий череп, обрамленный жидкими рыжеватыми, с проседью, волосами, и стала низко раскланиваться, улыбаясь и причмокивая ввалившимися губами.
Юрка вопросительно и несколько даже нахально вскинул на нее глаза.
– Извините… Позвольте пожать ваша честная рука, – сказала фигура, протягивая сначала Деме, потом Юрке свою пухлую, красную, с рыжими веснушками руку. – Вы добра душа… Да… Мы тоже бывайт много несчастлив… О, да, да!.. Много труда и много несчастлив… Надо быть справедливый!.. Бог один…
И фигура, жалостно улыбаясь, робко раскланялась и снова отошла, надев цилиндр.
– Пфр! – фыркнул Юрка и вслед ей сделал самую школьническую гримасу; сидевшие с ним рабочие фыркнули, в свою очередь, и громко засмеялись.
Жалкая фигура медленно повернулась и в недоумении посмотрела на них.
Николай Николаевич Златовратский
«Когда кто-нибудь спрашивал Липатыча или Дему, всякий тотчас же, с особой готовностью, показывал в угол длинной и высокой мастерской с огромными закопченными и пыльными окнами, где они оба работали бок о бок: «Вон, вон они, Липатыч и Дема, у нас как же!…»
Николай Николаевич Златовратский
Мечтатели[1 - Впервые – в журнале «Русское богатство». 1893. No 4.Неоднократно выходил отдельной книгой, в сборниках рассказов Н. Н. Златовратского. Включен в собрания сочинений Н. Н. Златовратского 1897 г. и 1912—1913 гг.Текст печатается по изданию: Златовратский Н. Н. Собрание сочинений. Спб., 1912. т. 7.]
Рассказ
I
Когда кто-нибудь спрашивал Липатыча или Дему, всякий тотчас же, с особой готовностью, показывал в угол длинной и высокой мастерской с огромными закопченными и пыльными окнами, где они оба работали бок о бок: «Вон, вон они, Липатыч и Дема, у нас как же!» И при этом все почему-то улыбались непременно, но улыбались добродушно, ласково, любовно, как будто одно напоминание о них уже вызывало особое настроение в душе заводского человека.
Липатыч и Дема – оба были простыми рабочими в механической мастерской и закадычные приятели.
Липатыч был старый служака, выслуживший уже все сроки на пенсию, если бы только последняя для него существовала; Дема был почти вдвое его моложе. Липатыч был давно одинок и давно уже семьей была для него только та постоянно менявшаяся артель, в которой он работал; Дема же был женат и имел двоих детишек. У Липатыча поэтому не было своего хозяйства, и он нанимал «угол» в каморке Демы, а ребятишки Демы звали его «дедушкой».
И Липатыч и Дема были крестьяне, но Липатыч так давно уже был увезен из деревни в «учебу», что совсем забыл о своем деревенском происхождении: ему казалось, что не только он сам никогда не выходил за пределы «заводской округи», но что и родился он чуть ли не в самой мастерской. Это был истинно рабочий человек, – та, всем знакомая городская «мастеровщина», у которой, как известно, есть свой «нрав».
Дема – совсем наоборот. Несмотря на то что он уже лет десять работает рядом с Липатычем, несмотря на то что уже давно и семью к себе выписал он из деревни, – он весь жил в деревне; он за все эти десять лет как будто не видал хорошенько своей мастерской; она с утра до вечера только неясно, в каком-то тумане мелькала пред ним. И завод, и самый город – это было для него что-то временное, переходящее, как сонное видение, как станция, на которой останавливаются на несколько минут, чтобы проглотить кусок. Перед ним, в туманной дали, как желанная пристань, постоянно носилась деревня; вместо закопченных и сырых стен мастерской, среди грохота и шума машин и инструментов, он слышал трели жаворонка, скрип возов с сеном и снопами, говор сельской улицы; он видел свою избу, свою корову, лошадь, широкие поля, чистое бирюзовое небо, зеленый лес и… и простор, простор необозримый. «Вот уж скоро, – думал он постоянно и упорно каждый вечер, кончая работу в мастерской, – вот еще разве годок только, а там с ребятами переберемся к себе в деревню… И жена вздохнет… Все же оно там привольней, а то здесь, в прачках, уморилась… Теснота, сырь, болезни… Только бы вот на хозяйство скопить, а там и шабаш!..» Но проходил год, другой, а Дема все стоял у станка с утра до ночи, а другой раз и с ночи до утра, и пред ним по-прежнему, вместо грязного, темного и вонючего заводского двора, расстилался чистый, благоуханный простор деревенского поля… Дема, одним словом, был ненадежный человек среди коренного заводского населения; он принадлежал к той особой, впрочем, у нас еще довольно значительной группе рабочих, которая известна на заводах под кличкой «деревни».
Таковы были наши два приятеля. Дема уважал и по-своему даже любил Липатыча; Липатыч был привязан к Деме, но, как городской человек и притом пожилой, несколько ему как будто покровительствовал. Вообще они жили мирно и дружно, за исключением тех случаев, когда на Липатыча «находило» или «накатывало», как сам он говорил, и когда Дема за него «опасался». Особенно часто стало «находить» на Липатыча в последнее время, – оттого ли, что он чаще стал прихварывать или по другим причинам. Прихворнув, теперь обыкновенно Липатыч сердито говорил: «Ну, пора, пора тебе, служака, в яму лезть! Чего еще ждать?.. Сваливай колоду – отслужила!.. Кому нужда в гнилой колоде!.. На гнилую колоду неоткуда и слезе капнуть!..» Дема обыкновенно обижался на эти речи Липатыча, но в душе тем не менее хорошо понимал и чувствовал, как холод одиночества снедал Липатыча, и старался его утешить. Однако Липатыч этого не любил. «Ну, деревня, распустила нюни!.. А ты гляди прямо, в самую точку… Нечего глаза-то в сторону сворачивать!..» – ворчал он. И действительно, чуть только болезнь «отпускала» Липатыча, – он снова бодро нес свою рабочую службу, и только теперь чаще, чем прежде, разнообразя ее взрывами того особого «озорства», которое знало за Липатычем все население завода.
– Эй, деревня! Али помирать здесь задумал? – говорил одним воскресеньем Липатыч, входя в мастерскую, где уже все не только кончили «казенные уроки», но и то, что успели урвать из «казенного времени» на свой собственный барыш, а Дема, ничего не замечая и не слыша, продолжал неистово визжать громадным рашпилем по куску стали, воображая, может быть, что жаворонок напевает ему свои трели. – Ты чего же, деревня, забыл, что ли, что ноне праздник?.. Чего жадничаешь? Вас бы, жадных, давно следовало по шеям с завода… Баловство вот эдакое заведете да потом по деревням и разбежитесь… Брось, говорю, эту ахинею – все об одном думать… Я, брат, думал тоже. Не хватись вовремя, смотрел бы давно вперед затылком… На гвоздь уж веревку прилаживал… Бог спас!.. Я вот и один, да от такой подлости отбился, а у тебя семья… Брось, говорю…
– Ты, Липатыч, другой человек, – тихо и как-то мечтательно заметил Дема.
– Какой такой другой человек? Почему так? – обиделся Липатыч, грозно сверкая темными глазами из-под седых бровей. – Это еще надо доказать… Да… И ты человека старше себя обижать не имеешь права.
Липатыч был вообще очень чуткий человек ко всякой обиде; теперь же он окончательно был рассержен и хотел уйти, не дождавшись приятеля.
Тогда Дема, взглянув мельком на Липатыча, грустно почему-то покачал головой и сказал:
– Я вас, Вавил Липатыч, обижать не намерен… Я только к тому, что у меня – одно мечтание, а у вас – другое. Я вот к чему.
– Ты так и говори… А то – другой человек!.. Мы, брат, все одни, человеки-то!.. Пойдем чай пить.
Оба приятеля выбрались из мастерской и пошли по направлению к трактиру, и трудно было определить, кто из них был старше, так как Липатыч всегда шел впереди, гоголем, гордо и вызывающе подняв, как петух, голову, покрытую копной седых волос, на которой сбоку, блином, лежал замасленный картуз, а обе руки были засунуты в штаны под блузу; Дема же, напротив, шел тихо, медленно двигая длинными ногами, сутуловато согнув широкую спину и опустив вниз изъеденное оспой широкое добродушное лицо, с мясистым носом и крупными губами, как будто его неустанно пригнетала его неотвязная дума.
В ближайших к заводу трактирах и портерных[2 - Портерная – торговое заведение, где продают и пьют портер, английское темное пиво.] стоял дым коромыслом; все столы были заняты. Двери уже не визжали, а как-то жалобно стонали, устало и изнеможенно. Липатыч и Дема сели рядом с одной кучкой рабочих. Липатыч заказал чаю и мрачно молчал. Дема уже не раз внимательно и опасливо взглядывал на него и чувствовал, что нынче Липатычу не по себе и что, того гляди, он окажет свое «озорство».
Рядом сидевшие рабочие о чем-то громко беседовали, когда Липатыч совершенно неожиданно прервал их, не обращаясь в частности ни к кому.
– Я говорю, что всему причина дух этот самый… немецкий, – твердо и уверенно выговорил Липатыч на всю комнату несколько осипшим басом, подняв вызывающе, как и всегда, свою седую львиную голову и сверкая из-под седых бровей темными глазами. – Да, и от этого к нам всякая пакость идет…
– Ну-у! – проворчал Дема и сокрушенно покачал головой. Он уже знал, что такой приступ ни к чему хорошему не приведет, если Липатыч попал на эту «линию».
– Не смей! Молчи! – замахал Липатыч грозно своей, принявшей уже совсем стальной цвет рукой, предупреждая возражение. – Я знаю, что говорю… Сорок пять лет он у меня вот где сидит… И как его только к нам через границу пропущают – диво!.. Деньги, главная вещь, – не иначе… Потому, нет чтобы перенять что ни то хорошее от него, а все норовят пакость самую… Вот от этого и нет ни свету, ни воздуху для рабочего человека… Это просто одна подлость али измена!.. Да, ума нет – вся причина: дурачье! Больно уж смирен да богобоязлив русский человек, страх божий у него есть, – вот его всякий и лупит и в хвост, и в гриву…
– Ну, брат, тоже… – возразил вдруг один молодой, худенький и низенький рабочий, в новой синей блузе, с темным маленьким лицом, длинным сухим носом и быстрыми бегающими глазками, которого все звали Юркой. – Другой русский тоже, брат… есть тоже такие… хахали!.. О, о! Еще почище немца… Еще они самим-то немцем вроде как колбасой закусят да жидом поперчат!..
Громкий хохот десятка голосов раскатился по трактиру.
– Что-о? – сурово спросил Липатыч.
– А вот и то! – говорил поощренный Юрка, входя в азарт. – Брешешь ты – вот что! Немецкий дух!.. Своего весьма достаточно… Зачем, вишь, за границу пущают, измена! А ты вот поди попробуй – устрой шламбаум?
– Ты со мной не смей так говорить… Слушай ухом, а не брюхом об чем говорят, – степенно-сурово сказал Липатыч. – Молодо-зелено так-то разговаривать… Послужи с мое… Сорок пять лет…
– Что – сорок пять лет! Заладил одно!.. Тут, брат, наука-то нехитра… Мы тоже побывали в разных хороших местах, насмотрелись прелестей… Немцы! И немцы есть хорошие люди… Тут не в немце дело, а в положении лица… в жизни… в самой то есть жизни… Понял? Вот я тебе и говорю – своих подлецов весьма достаточно… Русачок-то, он, брат, тоже скользкий, мылом смазан… хоть бы наш Псой Псоич!.. Да чего далеко ходить: середь нас самих такие есть братцы-русачки – их голой-то рукой не трожь… Ящеры! Ха-ха! – засмеялся Юрка своей собственной остроте, и хохот гостей снова потряс жидкие трактирные перегородки, а на лампах задребезжали стеклянные подвески.
– Молчи! – крикнул Липатыч, грозно поднимаясь из-за стола. – Как ты смеешь такие слова говорить про своего брата? про рабочего?.. Ящеры?.. Да ты кто сам-то? – И вдруг Липатыч, схватив Юрку за плечи своими могучими руками, затряс его, как медведь молодую осину. – Ты кто, молошная твоя губа? – спрашивал Липатыч, сверкая глазами и подставляя свой толстый с синеватым налетом нос к самому лицу Юрки. Юрка не ожидал такого наступления: он смутился и медленно отступал, когда, не торопясь, по обыкновению, подошел к Липатычу Дема и ласково и тихо положил ему на плечо руку.
– Вавил Липатыч, нельзя так, – проговорил он, – несправедливо… У всякого своя есть правда… и всякий волен свою правду говорить… Надо быть справедливым…
– Ежели правда – всегда скажу! – заговорил ободренный защитой и Юрка. – Почему правду нельзя говорить?
– Убью!.. Молчи!.. Слышишь, убью за свово брата! – кричал Липатыч на Юрку, не обращая внимания на Дему. – Все поносят, все… и ты еще… Дуби-ина-а эдакая!..– выразительно закончил Липатыч и оттолкнул, хотя и осторожно, могучими руками слабого и худенького Юрку к стене. Затем он сурово окинул взглядом Дему и, ничего не сказав, отвернулся от него в сторону. В это время Юрка, чтобы оправиться и несколько поддержать в себе упавший дух, стал крутить дрожащими руками сигаретку, опасливо посматривая исподлобья на Липатыча, который продолжал стоять посередине комнаты, обводя возбужденным взглядом все еще смотревшую на него толпу трактирных гостей. Это временное затишье, по-видимому, опять придало храбрости неугомонному Юрке.
– Правду, брат, не скроешь, – снова осмелился он заметить, хотя и значительно тише. – Видали мы народец и из наших русачков… Видали, брат… Плодится он теперь не меньше немца… Не к чему и за границу посылать!.. Тоже немецкий вкус понимаем! – уже довольно свободно закончил Юрка, попадая в прежний тон снова, когда раздался поощрительный хохот.
– Отстанешь ты? А? Ты меня, окаянный, до какой степени довести хочешь? – уже не сказал, а как-то зашипел на Юрку Липатыч, высвобождая из карманов руки. Заметив жест Липатыча, Юрка не решился продолжать. Но зато вдруг возмутился смиренный Дема; с ним произошло что-то странное; он весь покраснел, пот выступил у него на лбу, прежде чем он собрался говорить.
– Не хорошо… так… Нет, не хорошо, – сказал он, не глядя на Липатыча, и на лице его уже не было обычной грустной улыбки; оно было сердито, и напружившиеся на лбу жилы побагровели от непривычного волнения и напряжения. – Что ж, коли правда?.. Правду должен говорить всякий… Надо быть справедливым… Особливо старому человеку… Это – первое дело!..
Липатыч подозрительно и удивленно взглянул на Дему.
– Правда, по-твоему? Правда, говорите?.. А? – Так на что же тогда надеяться-то, надеяться на что, окаянные вы люди? – крикнул Липатыч, но вдруг в самом конце его голос неожиданно надтреснул, задрожал, он почувствовал, как что-то поднялось у него к горлу и слезы подступили к глазам.
Липатыч смутился, быстро отвернулся, отошел в свободный угол и затем, подойдя к стойке, сердито сказал буфетчику: «Налей!..» Он выпил стакан водки и, не закусывая, ни на кого не смотря, не оборачиваясь, сердито вышел в другую, заднюю дверь.
Дема все время исподлобья следил за ним – и опять грустная, задумчивая улыбка чуть заметно появилась на его губах.
– Липатыч-то наш… загрустил, братцы, – уже совсем развязно сказал окончательно оправившийся Юрка, подсаживаясь к товарищам.
– Загрустишь, брат, – заметил глухо кто-то из дальнего угла. – Еще то ли заговоришь, как во тьме-то кромешной тридцать лет просидишь!
Дема при этом вдруг о чем-то вспомнил, может быть о своем собственном «мечтании», и глубоко вздохнул. Он было поднялся, чтобы выйти из трактира, как тихо и медленно ступая, словно в туфлях, подошла к нему и к Юрке какая-то странная фигура, в длинном, потасканном и засаленном пальмерстоне, в резиновых калошах вместо сапог, в старом цилиндре, с большими очками на толстом носу и с бритым подбородком. Странная фигура сняла цилиндр, оголив совсем гладкий череп, обрамленный жидкими рыжеватыми, с проседью, волосами, и стала низко раскланиваться, улыбаясь и причмокивая ввалившимися губами.
Юрка вопросительно и несколько даже нахально вскинул на нее глаза.
– Извините… Позвольте пожать ваша честная рука, – сказала фигура, протягивая сначала Деме, потом Юрке свою пухлую, красную, с рыжими веснушками руку. – Вы добра душа… Да… Мы тоже бывайт много несчастлив… О, да, да!.. Много труда и много несчастлив… Надо быть справедливый!.. Бог один…
И фигура, жалостно улыбаясь, робко раскланялась и снова отошла, надев цилиндр.
– Пфр! – фыркнул Юрка и вслед ей сделал самую школьническую гримасу; сидевшие с ним рабочие фыркнули, в свою очередь, и громко засмеялись.
Жалкая фигура медленно повернулась и в недоумении посмотрела на них.