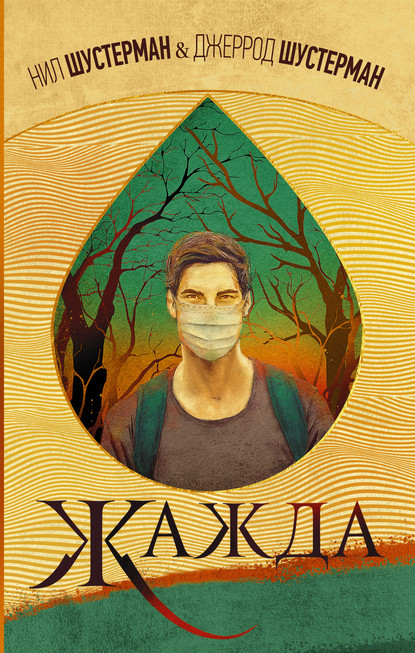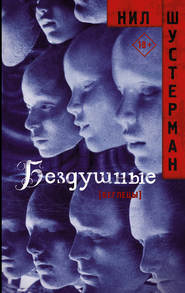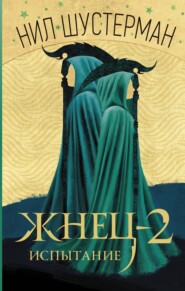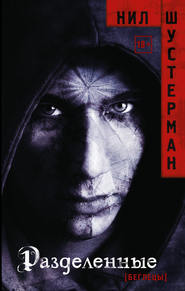По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Жажда
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– София в доме, – говорит ее отец, не прерывая своей работы.
Вхожу в дом через двери гаража. Внутри вроде все, как обычно. Коридоры. Пастельного тона голубые стены. Диван, чья обивка напоминает цветущий луг. И, тем не менее, все кажется не таким, как раньше; словно это совсем не тот дом, где я играла ребенком. И тогда я понимаю почему. Нет на обычном месте телевизора, а в воздухе отсутствуют ароматы восхитительной готовки, которой так славится миссис Родригес. Со стен сняты фотографии семьи, а на их местах остались темные прямоугольники, на фоне выцветших стенных панелей кажущиеся тенями воспоминаний. Словно с дома содрали все то, что обычную каменную коробку делает настоящим домом.
А потом я начинаю думать о своем доме. О глупых фотографиях, которые мы держим на стенах в комнатах первого этажа, где их может увидеть любой пришедший к нам в гости. И, хотя я обычно лютой ненавистью ненавижу либо свою прическу, либо одежду, в которой красуюсь на фото, я и представить не могу, чтобы эти фотографии могли исчезнуть со стен нашего дома.
Из своей спальни выходит София. Она видит меня и обнимает, удерживая чуть дольше, чем обычно. Потом отстраняется и со слабой улыбкой говорит:
– Я собиралась по пути остановиться возле твоего дома…
– Куда вы? – спрашиваю я.
– На юг, – отвечает София.
Этот короткий ответ поражает меня своей странностью. Когда бы мы ни виделись с Софией, она трещала без умолку. Я вспоминаю, что у нее есть бабушка и дедушка где-то на Байя, западном полуострове Мексики, и ее отъезд начинает казаться мне имеющим смысл, хотя я и не думаю, что Мексика сейчас чем-то лучше Южной Калифорнии. Там, как и у нас, в основном, пустыня.
– Смотрела новости? – спрашивает София. – Там говорят, что высох даже акведук в Лос-Анджелесе. Высох уже давно, хотя все это держалось в тайне. Чиновники уходят в отставку, увольнение следует за увольнением. Комиссара по водоснабжению Лос-Анджелеса могут привлечь к суду.
– А не лучше ли что-нибудь предпринять, чем вот так набрасываться на людей?
– Откуда мне знать? В любом случае мой отец считает, что все будет только хуже.
София нервно усмехается:
– Конечно, он, как всегда, перестраховывается. Ты же его знаешь.
Я смеюсь, правда, не вполне искренне. Сейчас мне не до смеха.
В комнату входит миссис Родригес. На одной руке у нее виснет пятилетний сын, в другой руке – несколько небольших картин, когда-то написанных Софией.
– Что из этого ты хочешь взять? – обращается к дочери мать, протягивая картины.
– Все, – отвечает София, ни минуты не колеблясь. Мать кладет принесенные картины поверх стопки других, уже лежащих на обеденном столе.
– Выбери три самых любимых, – говорит она.
Она целует дочь в темя и тепло улыбается нам обеим. Мать Софии очень красива и так молодо выглядит, что их с Софией часто принимают за сестер. Она молода не только внешне, но и душой, что особенно мне в ней нравится. Но сегодня она выглядит усталой.
София перебирает принесенные картины.
– Это твоя, – говорит она мне. – Ты написала ее в седьмом классе, на уроке живописи. Помнишь?
– Помню, – отзываюсь я. – Это был подарок на день рождения.
– Я хочу, чтобы ты ее сохранила, – говорит София.
– Ну что ж, будем считать, что ты мне ее одолжила. На время. На недельку-другую.
– Идет!
София радостно улыбается, хотя глаза ее говорят совсем о другом. Полупустой стакан она всегда считала наполовину полным, но теперь, похоже, оптимизма в ней осталось ровно столько, сколько воды в их бассейне.
* * *
Мой отец из тех, кто любой ценой старается увильнуть от визита к врачу. Не то чтобы он никогда не болел или испытывал смертельный ужас при виде шприца. Нет. Скорее всего, в глубине души он полагает: если привлечь внимание к недомоганию, оно точно разовьется в настоящую хворь. Нечто воображаемое вдруг может стать реальным. А так как большинство болезней так или иначе проходят без чьего-либо вмешательства, то он только укрепляется в своем отношении к медицине. Точно так же отец подходит ко всем прочим проблемам – в отношениях и с матерью, и с налоговыми агентами. Поэтому сегодня он объявляет Большой Семейный Обед, что есть его любимое лекарство от всевозможных домашних неурядиц. Конечно, не все беды залечишь лазаньей, но я твердо уверена: когда мать и отец сходятся на кухне и принимаются вместе готовить, мир становится совершенно другим.
Поэтому я решаю ровно в семь тридцать вернуться домой.
Как только я прихожу, мать, как я и ожидала, сразу же дает мне поручение. Она протягивает пустой кувшин.
– Набери-ка воды.
Казалось бы, сущая ерунда, но я чувствую себя так, словно мне доверили совершить религиозный обряд.
– Сейчас, – говорю я и иду в подвал, к ванне с водой.
Опускаю кувшин в воду. Несмотря на то, что прошел целый день, там еще полно льда. Вернувшись, я разливаю воду в стаканы.
– Нам не нужно слишком много, – говорит отец. – Я думаю, мы будем пить по шесть чашек в день. Я подсчитал, что этой воды нам должно хватить на неделю.
– Мне казалось, человек должен выпивать в день восемь чашек, – вставляет свое слово Гарретт.
– Считай, что твои две чашки – это долгосрочные инвестиции, – говорит отец. Гарретт, который подобных сентенций выслушал от отца немало, только на таких вялых аналогиях может уже запросто выстроить самостоятельный бизнес.
– Про Кингстона не забыли? – напоминает мать. – Ему тоже нужна пара чашек в день.
Мне стыдно – собака начисто вылетела у меня из головы. Как я могла – он же такой беззащитный! Я бросаю виноватый взгляд на его водяную миску и, пока никто не смотрит, немного наливаю туда из кувшина.
Дядя Базилик появляется за столом последним и с ходу опрокидывает в себя свой стакан. Наверняка ледяной водой заморозил себе мозги.
– А хорошо ли это, Герберт? – говорит мать таким тоном, словно дядя – малый ребенок. – Ведь это тебе вода на весь вечер.
– Для здоровья гораздо полезнее выпить всю жидкость за десять минут до еды, – объясняет дядя. – Тогда желудок не будет отвлекаться и более эффективно поглотит питательные вещества.
Так это или нет, но я решаю не очень-то верить в слова дяди – наверняка этой науки он набрался в пабе от приятелей. В школе, правда, по биологии у него было «отлично».
Несмотря на то, что сказал дядя, все за столом пьют свою воду медленно. Кому понравится зрелище стоящего на столе пустого стакана? И не только сейчас, когда воды не хватает, но и вообще?
Лазанья сегодня жестковата, потому что мать, экономя воду, сварила ее в красном соусе. Прежде чем попробовать самому, отец смотрит на нашу реакцию.
– Мне нравится! – говорит Гарретт. – Вкусно и хрустит.
Ничего удивительного, что Гарретту нравится. По какой-то причине в еде он сохранил младенческие привычки. Иногда тайком ест вишневую помаду для губ и сырые макароны. Причем необязательно в такой последовательности.
– Очень вкусно, – произношу и я. К сожалению, отец всегда понимает, когда я говорю неправду, но на этот раз, надеюсь, он оценит мою ложь…
Похрустев пару минут, дядя Базилик нарушает молчание.
– По крайней мере, вода холодная, – говорит он, и все смеются. Это неконтролируемый смех, подобный икоте, но я начинаю чувствовать себя гораздо лучше. Если раньше я просто делала вид, что мне нравится приготовленная родителями лазанья, то теперь она мне вполне по душе.
Вхожу в дом через двери гаража. Внутри вроде все, как обычно. Коридоры. Пастельного тона голубые стены. Диван, чья обивка напоминает цветущий луг. И, тем не менее, все кажется не таким, как раньше; словно это совсем не тот дом, где я играла ребенком. И тогда я понимаю почему. Нет на обычном месте телевизора, а в воздухе отсутствуют ароматы восхитительной готовки, которой так славится миссис Родригес. Со стен сняты фотографии семьи, а на их местах остались темные прямоугольники, на фоне выцветших стенных панелей кажущиеся тенями воспоминаний. Словно с дома содрали все то, что обычную каменную коробку делает настоящим домом.
А потом я начинаю думать о своем доме. О глупых фотографиях, которые мы держим на стенах в комнатах первого этажа, где их может увидеть любой пришедший к нам в гости. И, хотя я обычно лютой ненавистью ненавижу либо свою прическу, либо одежду, в которой красуюсь на фото, я и представить не могу, чтобы эти фотографии могли исчезнуть со стен нашего дома.
Из своей спальни выходит София. Она видит меня и обнимает, удерживая чуть дольше, чем обычно. Потом отстраняется и со слабой улыбкой говорит:
– Я собиралась по пути остановиться возле твоего дома…
– Куда вы? – спрашиваю я.
– На юг, – отвечает София.
Этот короткий ответ поражает меня своей странностью. Когда бы мы ни виделись с Софией, она трещала без умолку. Я вспоминаю, что у нее есть бабушка и дедушка где-то на Байя, западном полуострове Мексики, и ее отъезд начинает казаться мне имеющим смысл, хотя я и не думаю, что Мексика сейчас чем-то лучше Южной Калифорнии. Там, как и у нас, в основном, пустыня.
– Смотрела новости? – спрашивает София. – Там говорят, что высох даже акведук в Лос-Анджелесе. Высох уже давно, хотя все это держалось в тайне. Чиновники уходят в отставку, увольнение следует за увольнением. Комиссара по водоснабжению Лос-Анджелеса могут привлечь к суду.
– А не лучше ли что-нибудь предпринять, чем вот так набрасываться на людей?
– Откуда мне знать? В любом случае мой отец считает, что все будет только хуже.
София нервно усмехается:
– Конечно, он, как всегда, перестраховывается. Ты же его знаешь.
Я смеюсь, правда, не вполне искренне. Сейчас мне не до смеха.
В комнату входит миссис Родригес. На одной руке у нее виснет пятилетний сын, в другой руке – несколько небольших картин, когда-то написанных Софией.
– Что из этого ты хочешь взять? – обращается к дочери мать, протягивая картины.
– Все, – отвечает София, ни минуты не колеблясь. Мать кладет принесенные картины поверх стопки других, уже лежащих на обеденном столе.
– Выбери три самых любимых, – говорит она.
Она целует дочь в темя и тепло улыбается нам обеим. Мать Софии очень красива и так молодо выглядит, что их с Софией часто принимают за сестер. Она молода не только внешне, но и душой, что особенно мне в ней нравится. Но сегодня она выглядит усталой.
София перебирает принесенные картины.
– Это твоя, – говорит она мне. – Ты написала ее в седьмом классе, на уроке живописи. Помнишь?
– Помню, – отзываюсь я. – Это был подарок на день рождения.
– Я хочу, чтобы ты ее сохранила, – говорит София.
– Ну что ж, будем считать, что ты мне ее одолжила. На время. На недельку-другую.
– Идет!
София радостно улыбается, хотя глаза ее говорят совсем о другом. Полупустой стакан она всегда считала наполовину полным, но теперь, похоже, оптимизма в ней осталось ровно столько, сколько воды в их бассейне.
* * *
Мой отец из тех, кто любой ценой старается увильнуть от визита к врачу. Не то чтобы он никогда не болел или испытывал смертельный ужас при виде шприца. Нет. Скорее всего, в глубине души он полагает: если привлечь внимание к недомоганию, оно точно разовьется в настоящую хворь. Нечто воображаемое вдруг может стать реальным. А так как большинство болезней так или иначе проходят без чьего-либо вмешательства, то он только укрепляется в своем отношении к медицине. Точно так же отец подходит ко всем прочим проблемам – в отношениях и с матерью, и с налоговыми агентами. Поэтому сегодня он объявляет Большой Семейный Обед, что есть его любимое лекарство от всевозможных домашних неурядиц. Конечно, не все беды залечишь лазаньей, но я твердо уверена: когда мать и отец сходятся на кухне и принимаются вместе готовить, мир становится совершенно другим.
Поэтому я решаю ровно в семь тридцать вернуться домой.
Как только я прихожу, мать, как я и ожидала, сразу же дает мне поручение. Она протягивает пустой кувшин.
– Набери-ка воды.
Казалось бы, сущая ерунда, но я чувствую себя так, словно мне доверили совершить религиозный обряд.
– Сейчас, – говорю я и иду в подвал, к ванне с водой.
Опускаю кувшин в воду. Несмотря на то, что прошел целый день, там еще полно льда. Вернувшись, я разливаю воду в стаканы.
– Нам не нужно слишком много, – говорит отец. – Я думаю, мы будем пить по шесть чашек в день. Я подсчитал, что этой воды нам должно хватить на неделю.
– Мне казалось, человек должен выпивать в день восемь чашек, – вставляет свое слово Гарретт.
– Считай, что твои две чашки – это долгосрочные инвестиции, – говорит отец. Гарретт, который подобных сентенций выслушал от отца немало, только на таких вялых аналогиях может уже запросто выстроить самостоятельный бизнес.
– Про Кингстона не забыли? – напоминает мать. – Ему тоже нужна пара чашек в день.
Мне стыдно – собака начисто вылетела у меня из головы. Как я могла – он же такой беззащитный! Я бросаю виноватый взгляд на его водяную миску и, пока никто не смотрит, немного наливаю туда из кувшина.
Дядя Базилик появляется за столом последним и с ходу опрокидывает в себя свой стакан. Наверняка ледяной водой заморозил себе мозги.
– А хорошо ли это, Герберт? – говорит мать таким тоном, словно дядя – малый ребенок. – Ведь это тебе вода на весь вечер.
– Для здоровья гораздо полезнее выпить всю жидкость за десять минут до еды, – объясняет дядя. – Тогда желудок не будет отвлекаться и более эффективно поглотит питательные вещества.
Так это или нет, но я решаю не очень-то верить в слова дяди – наверняка этой науки он набрался в пабе от приятелей. В школе, правда, по биологии у него было «отлично».
Несмотря на то, что сказал дядя, все за столом пьют свою воду медленно. Кому понравится зрелище стоящего на столе пустого стакана? И не только сейчас, когда воды не хватает, но и вообще?
Лазанья сегодня жестковата, потому что мать, экономя воду, сварила ее в красном соусе. Прежде чем попробовать самому, отец смотрит на нашу реакцию.
– Мне нравится! – говорит Гарретт. – Вкусно и хрустит.
Ничего удивительного, что Гарретту нравится. По какой-то причине в еде он сохранил младенческие привычки. Иногда тайком ест вишневую помаду для губ и сырые макароны. Причем необязательно в такой последовательности.
– Очень вкусно, – произношу и я. К сожалению, отец всегда понимает, когда я говорю неправду, но на этот раз, надеюсь, он оценит мою ложь…
Похрустев пару минут, дядя Базилик нарушает молчание.
– По крайней мере, вода холодная, – говорит он, и все смеются. Это неконтролируемый смех, подобный икоте, но я начинаю чувствовать себя гораздо лучше. Если раньше я просто делала вид, что мне нравится приготовленная родителями лазанья, то теперь она мне вполне по душе.