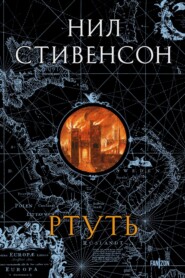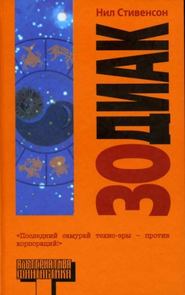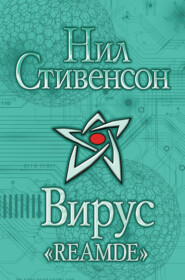По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Анафем
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Я осёкся, потому что до меня (с большим опозданием) дошло, что это подразумевает. Я всего лишь пересказывал услышанное от Арсибальта, но Трестана наверняка восприняла мои слова как насмешку.
– Возможно, ты считаешь, что нынешние иерархи концента светителя Эдхара плохо исполняют свои обязанности, – с ледяным спокойствием произнесла она. – Может быть, Делрахонеса, или Стато, или меня следует заменить?
– У меня и в мыслях такого не было! – крикнул я и прикусил язык, чтобы не добавить: «до последней минуты».
– Тогда зачем все эти тайные сношения с инквизиторами? Ты единственный из не-иерархов, кто вообще с ними говорил, и теперь уже дважды – оба раза в исключительно приватной обстановке.
– Это бред, – сказал я. – Это бред.
– Решаются куда более серьёзные вещи, чем можно понять в твоём возрасте. Твоя наивность – вкупе с нежеланием её признать – ставит под удар нас всех. Я сажаю тебя за Книгу.
– Что?!
Я не верил своим ушам.
– Главы с первой по… э… пятую.
– Вы шутите.
– Думаю, ты знаешь, что делать. – Она посмотрела на собор.
– Отлично. Отлично. Главы с первой по пятую. – Я повернулся к навесу.
– Стой, – сказала Трестана.
Я замер.
– Собор там, – произнесла она с ноткой иронии. – Ты идёшь не в ту сторону.
– Моя сестра и двоюродный брат за столом. Я должен сказать им, что ухожу.
– Собор, – напомнила она, – в той стороне.
– Я не выучу до рассвета пять глав. Когда я выйду из кельи, ворота уже закроются. Я должен попрощаться с родными.
– Должен? Странный выбор слов. Позволь немного рассказать тебе о семантике, раз уж вы, почитатели Гилеи, так внимательны к подобным вещам. Ты должен идти в собор. Ты хочешь попрощаться с родными. Инаками для того и становятся, чтобы обрести свободу от хотений. Ради твоего же блага я требую сделать выбор прямо сейчас. Если ты так сильно хочешь попрощаться с родными, иди к ним и не останавливайся, пока не окажешься за воротами. Навсегда. А если ты намерен остаться, ты должен идти к собору без промедления.
Я глянул на Лио, думая попросить, чтобы он передал несколько слов Дату и Корд, но Лио стоял чуть поодаль – рассказывал Делрахонесу про драку. Кроме того, я чувствовал, что Трестана этого тоже не позволит, и не хотел доставлять ей ещё и такое удовольствие.
Я повернулся спиной к моему немногочисленному семейству и зашагал в направлении собора.
Часть 3
Элигер
«Скука – маска, в которую рядится бессилие». Где лучше всего чувствуешь правдивость этого высказывания Ороло, если не в штрафной келье инспектората? Какой-то ловкач-архитектор выстроил своего рода увеличительное стекло, только не для света, а для бессилия. В моей келье не было двери. От свободы меня отделяла лишь стрельчатая древнематическая арка, на которой многие поколения узников оставили свои изречения и рисунки. Она открывалась в переход, идущий по внутреннему периметру инспектората. С утра до вечера по нему сновали низшие иерархи. За переходом я видел кусок алтарного свода на высоте двухсот футов от пола, но парапет мешал мне заглянуть вниз, туда, где отмечали провенер. Я слышал пение. Видел, как ползёт цепь, когда моя команда заводит часы, как дёргаются верёвки, когда команда Тулии звонит в колокола. Но я не мог видеть людей.
Из матического окна в противоположной стене открывался великолепный вид на луг. Это, разумеется, был ещё один способ увеличить чувство бессилия и, следовательно, скуку. При желании я мог хоть весь день смотреть, как мои братья свободно гуляют по конценту, беседуя (как мне думалось) об интересных вещах или хотя бы рассказывая друг другу забавные истории. Нависающий карниз дефендората закрывал почти всё небо, но градусов двадцать над горизонтом оставались в моём поле зрения. Окно смотрело на вековые ворота; прижавшись лицом к стеклу, я мог разглядеть справа десятилетние. Когда наутро после Десятой ночи взошло солнце, я услышал закрытие аперта и, глядя в арку, увидел, как движется цепь, открывая водяные заслонки. Я перешёл к окну: серебристая струйка воды добежала по акведуку до ворот, и они затворились. Со стороны экстрамуроса собрались лишь несколько посетителей. Какое-то время я мучился, что Корд там, одиноко дожидается, чтобы я выбежал и обнял её на прощание. Однако с закрытием ворот испарилась и эта фантазия. Я посмотрел, как инаки убирают навес и складывают столы, потом съел хлеб и выпил молоко, оставленные у входа кем-то из подчинённых инспектрисы.
Затем я взялся за Книгу.
Поскольку единственное её назначение – мучить читателей, чем меньше я о ней расскажу, тем лучше. Изучать, переписывать и зубрить Книгу было худшей формой епитимьи.
В конценте, как любом человеческом общежитии, хватало скучных и неприятных обязанностей: полоть сорняки, поддерживать в порядке канализацию, чистить картошку и забивать скот. В идеальном обществе мы бы делали это по очереди. Однако, поскольку существовали правила поведения и они время от времени нарушались, инспектора следили, чтобы самую неприятную работу выполняли провинившиеся. Система была не так уж плоха. Прочищать засорившуюся уборную из-за того, что вчера слишком много выпил в трапезной, занятие не из приятных, но ты хотя бы знаешь, что уборные нужны, они иногда засоряются, и кому-то из инаков так и так пришлось бы это делать, поскольку не всегда можно вызвать сантехника-мирянина. Утешало уже то, что в работе есть смысл.
В Книге смысла не было, что превращало её в самую ненавистную из епитимий. Она содержала двенадцать глав. Как в шкале землетрясений, их убойная сила росла экспоненциально, то есть шестая глава была в десять раз хуже пятой, и так далее. Первая глава была так, ознакомлением, для проштрафившихся детишек. С нею обычно справлялись за час. Вторая, как правило, означала по меньшей мере одну ночёвку в штрафной келье, хотя любой уважающий себя правонарушитель мог осилить её за день. На пятую уходило несколько недель. Приговор к шестой главе можно было обжаловать примасу и далее в инквизицию. Двенадцатая глава равнялась пожизненному осуждению на каторжные работы в одиночном заключении: за три тысячи шестьсот девяносто лет её превозмогли только трое инаков, и все они были не в себе.
Примерно за шестой главой епитимья растягивалась на годы. Многие предпочитали уйти из концента. Те, кто оставался, выходили изменившимися: присмиревшими и как будто пониже ростом. Это может показаться странным, поскольку требовалось вроде бы всего ничего: переписать указанные главы, выучить и ответить на вопросы по ним комиссии иерархов. Однако содержание Книги на протяжении столетий оттачивалось до полного, идиотического, вынимающего душу безумия: вопиюще очевидного в начале, затем, с каждой главой, всё более тонкого. Это был лабиринт без выхода, уравнение, которое после недель труда сводилось к 2 = 3. Первая глава состояла из страницы бессмысленных детских стишков с нарочито неточными рифмами. Четвёртая представляла собой несколько страниц знаков числа пи. Дальше, впрочем, в кодексе не было ничего случайного, поскольку чисто рандомные вещи запомнить не так сложно: достаточно освоить несколько приёмов, а все, одолевшие четвёртую главу, эти приёмы знали. Куда труднее зубрить и отвечать материал почти, но не совсем осмысленный; материал, в котором есть внутренняя логика, но только до некоего предела. Такие вещи время от времени возникают в матическом мире естественным путём: в конце концов, не каждому дано стать светителем. После того как авторов унизили и отбросили, их сочинения передавали инквизиции; если она находила текст достаточно чудовищным, то его, дополнительно ухудшив, включали в следующие, ещё более гадостные издания кодекса. Чтобы выйти на свободу, надо было освоить материал так, как, скажем, теорию групп для изучения квантовой механики. Ужас заключался в сознании, что ты прикладываешь столько усилий, чтобы отравить свой мозг интеллектуальным ядом. Вы и представить себе не можете, насколько это унизительно. Промучившись над пятой главой недели две, я вполне понимал, почему осилившие, например, девятую, остаются искалеченными на всю жизнь.
Довольно о Книге. Куда более интересный вопрос: почему я здесь оказался? По всему выходило, что суура Трестана хотела устранить меня на весь срок пребывания инквизиторов. С третьей главой я бы справился чересчур быстро. Четвёртой могло бы хватить, но она добавила пятую на случай, если я легко запоминаю числа.
Каждое утро меня будил рассветный актал, на который собирались лишь самые страстные любители церемоний. Я сдёргивал стлу с деревянной лежанки – единственного предмета мебели в штрафной келье, заворачивался, мочился в дыру в полу, споласкивал лицо холодной водой из каменной чаши, съедал хлеб, выпивал молоко, ставил пустую посуду у выхода и садился на пол перед лежанкой, предварительно разместив на ней Книгу, перо, чернильницу и несколько листьев. Сфера служила упором для локтя. Я работал три часа, потом, до провенера, занимался чем-нибудь ещё, чтобы проветрить голову. Всё то время, что Лио, Джезри и Арсибальт заводили часы, я отжимался, приседал и делал выпады. Из-за моего отсутствия ребята напрягались больше и становились сильнее, и я не хотел выйти на свободу ослабевшим.
Товарищи как-то выяснили, в какой келье я нахожусь, и после провенера завтракали на лугу прямо под моим окном. Они не поднимали глаза и не махали мне – суура Трестана наверняка смотрела на них сверху, дожидаясь чего-нибудь в таком роде, – но каждый раз для начала поднимали кружки с пивом, как будто за чьё-то здоровье, и отпивали по большому глотку. Я понимал, что они мысленно со мной.
Чернил и листьев было много, и я начал писать отчёт, который вы сейчас читаете. По ходу у меня возникло странное ощущение, что в событиях последних недель имелась некая закономерность, которую я упустил. Я списал его на изменённое состояние ума, в которое впадает узник, оставшись наедине с Книгой.
Как-то на второй неделе епитимьи мои утренние занятия прервал незнакомый колокольный звон. Через арку мне были видны верёвки, идущие от балкончика звонщиц к колоколам. Я перебрался на другую сторону лежанки, спиной к окну, чтобы удобнее было за ними наблюдать. По идее, все инаки должны разбирать звоны. Я так толком этому и не научился: ноты смешивались у меня в голове, и я не мог вычленить мелодический рисунок. Выяснилось, что, глядя на верёвки, я делаю это куда легче: моё зрение было лучше приспособлено для такой работы, чем слух. Я понимал, как движение конкретной верёвки обусловлено движением соседних на прошлых тактах, и через минуту-две без посторонней помощи разобрался, что звонят к элигеру. Кто-то из моего подроста должен был вступить в орден.
От окончания колокольного звона до начала актала прошло полчаса, затем ещё полчаса все пели. Наконец, Стато назвал имя Джезри, и грянул кондак инбраса. Пели с воодушевлением, но не очень искусно, из чего я заключил, что Джезри приветствуют в своих рядах эдхарианцы. Всё это время мне было трудно сосредоточиться на Книге, и потом тоже: по-настоящему я заставил себя заниматься только после провенера.
На следующий день звон повторился. Ещё двое вступили в эдхарианский орден и одна – Ала – в Новый круг. Я ничуть не удивился. Мы все считали, что ей прямая дорога в иерархи. Тем не менее почему-то событие потрясло меня так, что я полночи не мог уснуть. Как будто Ала перенеслась в какой-то другой концент, где я никогда её больше не увижу, не смогу с нею спорить или состязаться, кто быстрее решит теорическую задачку. Глупость несусветная: Ала оставалась в Эдхаре, и нам предстояло каждый день вместе обедать в трапезной. Однако какая-то часть мозга упорно считала решение Алы моей личной потерей и, словно в отместку, не давала мне уснуть.
В том, как я узнал звон элигера по движению верёвок, заключался небольшой урок. Я по-прежнему записывал события прошедших недель, и грызущее чувство, будто я что-то прохлопал, не отпускало. Наконец я дошёл до разговора с фраа Ороло на звёздокруге и их с Трестаной тихому спору чуть позже. Излагая эти события на листе, я взглянул в окно туда, где они происходили, и увидел, что решётка, несмотря на дневное время, по-прежнему опущена. Мне была видна и решётка центенарского матика – тоже закрытая. Обе они ни разу не открывались за то время, что я здесь. С каждым днём я всё больше укреплялся в мысли, что звёздокруг заперт с тех самых пор, как на восьмой день аперта ключник опустил решётку за мною и Ороло. Закрытие звёздокруга – почти наверняка первое и единственное за всю историю концента светителя Эдхара, – вероятно, и стало причиной жаркого спора между Ороло и Трестаной.
Большая ли натяжка предположить, что приезд инквизиторов двумя днями позже – не случайность? Наш звёздокруг смотрит на то же небо, что и все остальные в мире. Если закрыли наш – если нам чего-то не положено видеть, – значит, закрыли и другие. Скорее всего приказ пришёл по авосети на восьмой день аперта, и тогда же ита передали его сууре Трестане; тогда же, надо думать, Варакс и Онали тронулись в нашу «затерянную обитель».
Всё складывалось в более или менее правдоподобную картину, но не отвечало на главный вопрос: чего ради закрывать звёздокруг? Вроде бы уж он-то должен занимать иерархов меньше всего. Их дело – следить за соблюдением канона, не допуская мирскую информацию в мозги инаков. Информация, поступающая со звёздокруга, по своей природе вне времени. Большей её части – миллиарды лет. Текущие события – пыльная буря на каменистой планете или вихревая флуктуация на газовом гиганте. Что из увиденного со звёздокруга попадает в разряд мирского?
Как фраа, который проснулся задолго до рассвета от запаха дыма и понимает, что огонь тлел и разгорался много часов, пока он дрых, ни о чём не ведая, так и я не только испугался, но и досадовал на свою тупость.
Моему душевному равновесию не способствовало и то, что элигер теперь справляли почти каждый день. За последний год я заметно отстал от других в теорике и космографии и уже почти смирился с тем, что вступлю в неэдхарианский орден и стану иерархом. Потом, ровно перед тем, как Трестана посадила меня за Книгу, я решил-таки попроситься к эдхарианцам и посвятить жизнь изучению Гилеиного теорического мира. А теперь я сидел в этой каморке и читал белиберду, пока заполняются места в эдхарианском капитуле. Формально не было никаких ограничений, никакой квоты, но если бы эдхарианцы получили больше десяти – двенадцати новых инаков за счёт других орденов, грянул бы скандал. Тридцать лет назад, когда Ороло пришёл в концент, они набрали четырнадцать человек, и разговоры об этом не утихли до сих пор.
Как-то днём, сразу после провенера, опять зазвонили колокола. Сперва я подумал, что вновь отмечают элигер. К тому времени пятеро присоединились к эдхарианцам, трое – к Новому кругу и один – к реформированным старофаанитам. Однако где-то в глубине сознания скреблось чувство, что такой звон я слышу впервые в жизни.
Я в очередной раз отложил перо, злясь, что моя епитимья пришлась на такое интересное время, и сел так, чтобы лучше видеть верёвки. Через несколько минут я точно знал, что это не элигер. На миг у меня перехватило дыхание – я подумал, что звонят к анафему. Впрочем, звон умолк раньше, чем я сумел его определить. Полчаса я сидел без движения, слушая, как заполняются нефы. Толпа собиралась огромная – все инаки из всех матиков бросили свои дела и пришли на актал. Они оживлённо переговаривались. Я не разбирал слов, но по тону чувствовал, что предстоит нечто очень значительное. Несмотря на страхи, мне удалось убедить себя, что это не анафем. Люди бы столько не разговаривали, если бы шли смотреть, как отбросят их брата или сестру.
Началась служба. Пения не было. Я слышал, как примас произносит знакомые фразы на древнеортском: формальный призыв к сбору всего концента. Затем он перешёл на новоортский и зачитал некий текст, написанный, судя по стилю, примерно в период Реконструкции. В самом конце Стато возгласил отчётливо:
– Воко фраа Пафлагон из центенарского капитула ордена светителя Эдхара!
Итак, это был актал воко. Всего лишь третий на моей памяти. Первые два произошли, когда мне было лет десять.
Покуда я переваривал услышанное, снизу донёсся общий вздох и глухой стон: выдохнули, надо полагать, почти все инаки, стенали центенарии, теряющие брата навсегда.
И тут я совершил нечто ужасное, но я знал, что мне это сойдёт с рук: вышел из кельи. Я пересёк коридор и заглянул через парапет.
В алтаре находились всего трое: Стато в своём пурпурном одеянии и Онали с Вараксом, узнаваемые по инквизиторским шапкам. Инаки за экранами шумели так, что актал временно приостановился.
– Возможно, ты считаешь, что нынешние иерархи концента светителя Эдхара плохо исполняют свои обязанности, – с ледяным спокойствием произнесла она. – Может быть, Делрахонеса, или Стато, или меня следует заменить?
– У меня и в мыслях такого не было! – крикнул я и прикусил язык, чтобы не добавить: «до последней минуты».
– Тогда зачем все эти тайные сношения с инквизиторами? Ты единственный из не-иерархов, кто вообще с ними говорил, и теперь уже дважды – оба раза в исключительно приватной обстановке.
– Это бред, – сказал я. – Это бред.
– Решаются куда более серьёзные вещи, чем можно понять в твоём возрасте. Твоя наивность – вкупе с нежеланием её признать – ставит под удар нас всех. Я сажаю тебя за Книгу.
– Что?!
Я не верил своим ушам.
– Главы с первой по… э… пятую.
– Вы шутите.
– Думаю, ты знаешь, что делать. – Она посмотрела на собор.
– Отлично. Отлично. Главы с первой по пятую. – Я повернулся к навесу.
– Стой, – сказала Трестана.
Я замер.
– Собор там, – произнесла она с ноткой иронии. – Ты идёшь не в ту сторону.
– Моя сестра и двоюродный брат за столом. Я должен сказать им, что ухожу.
– Собор, – напомнила она, – в той стороне.
– Я не выучу до рассвета пять глав. Когда я выйду из кельи, ворота уже закроются. Я должен попрощаться с родными.
– Должен? Странный выбор слов. Позволь немного рассказать тебе о семантике, раз уж вы, почитатели Гилеи, так внимательны к подобным вещам. Ты должен идти в собор. Ты хочешь попрощаться с родными. Инаками для того и становятся, чтобы обрести свободу от хотений. Ради твоего же блага я требую сделать выбор прямо сейчас. Если ты так сильно хочешь попрощаться с родными, иди к ним и не останавливайся, пока не окажешься за воротами. Навсегда. А если ты намерен остаться, ты должен идти к собору без промедления.
Я глянул на Лио, думая попросить, чтобы он передал несколько слов Дату и Корд, но Лио стоял чуть поодаль – рассказывал Делрахонесу про драку. Кроме того, я чувствовал, что Трестана этого тоже не позволит, и не хотел доставлять ей ещё и такое удовольствие.
Я повернулся спиной к моему немногочисленному семейству и зашагал в направлении собора.
Часть 3
Элигер
«Скука – маска, в которую рядится бессилие». Где лучше всего чувствуешь правдивость этого высказывания Ороло, если не в штрафной келье инспектората? Какой-то ловкач-архитектор выстроил своего рода увеличительное стекло, только не для света, а для бессилия. В моей келье не было двери. От свободы меня отделяла лишь стрельчатая древнематическая арка, на которой многие поколения узников оставили свои изречения и рисунки. Она открывалась в переход, идущий по внутреннему периметру инспектората. С утра до вечера по нему сновали низшие иерархи. За переходом я видел кусок алтарного свода на высоте двухсот футов от пола, но парапет мешал мне заглянуть вниз, туда, где отмечали провенер. Я слышал пение. Видел, как ползёт цепь, когда моя команда заводит часы, как дёргаются верёвки, когда команда Тулии звонит в колокола. Но я не мог видеть людей.
Из матического окна в противоположной стене открывался великолепный вид на луг. Это, разумеется, был ещё один способ увеличить чувство бессилия и, следовательно, скуку. При желании я мог хоть весь день смотреть, как мои братья свободно гуляют по конценту, беседуя (как мне думалось) об интересных вещах или хотя бы рассказывая друг другу забавные истории. Нависающий карниз дефендората закрывал почти всё небо, но градусов двадцать над горизонтом оставались в моём поле зрения. Окно смотрело на вековые ворота; прижавшись лицом к стеклу, я мог разглядеть справа десятилетние. Когда наутро после Десятой ночи взошло солнце, я услышал закрытие аперта и, глядя в арку, увидел, как движется цепь, открывая водяные заслонки. Я перешёл к окну: серебристая струйка воды добежала по акведуку до ворот, и они затворились. Со стороны экстрамуроса собрались лишь несколько посетителей. Какое-то время я мучился, что Корд там, одиноко дожидается, чтобы я выбежал и обнял её на прощание. Однако с закрытием ворот испарилась и эта фантазия. Я посмотрел, как инаки убирают навес и складывают столы, потом съел хлеб и выпил молоко, оставленные у входа кем-то из подчинённых инспектрисы.
Затем я взялся за Книгу.
Поскольку единственное её назначение – мучить читателей, чем меньше я о ней расскажу, тем лучше. Изучать, переписывать и зубрить Книгу было худшей формой епитимьи.
В конценте, как любом человеческом общежитии, хватало скучных и неприятных обязанностей: полоть сорняки, поддерживать в порядке канализацию, чистить картошку и забивать скот. В идеальном обществе мы бы делали это по очереди. Однако, поскольку существовали правила поведения и они время от времени нарушались, инспектора следили, чтобы самую неприятную работу выполняли провинившиеся. Система была не так уж плоха. Прочищать засорившуюся уборную из-за того, что вчера слишком много выпил в трапезной, занятие не из приятных, но ты хотя бы знаешь, что уборные нужны, они иногда засоряются, и кому-то из инаков так и так пришлось бы это делать, поскольку не всегда можно вызвать сантехника-мирянина. Утешало уже то, что в работе есть смысл.
В Книге смысла не было, что превращало её в самую ненавистную из епитимий. Она содержала двенадцать глав. Как в шкале землетрясений, их убойная сила росла экспоненциально, то есть шестая глава была в десять раз хуже пятой, и так далее. Первая глава была так, ознакомлением, для проштрафившихся детишек. С нею обычно справлялись за час. Вторая, как правило, означала по меньшей мере одну ночёвку в штрафной келье, хотя любой уважающий себя правонарушитель мог осилить её за день. На пятую уходило несколько недель. Приговор к шестой главе можно было обжаловать примасу и далее в инквизицию. Двенадцатая глава равнялась пожизненному осуждению на каторжные работы в одиночном заключении: за три тысячи шестьсот девяносто лет её превозмогли только трое инаков, и все они были не в себе.
Примерно за шестой главой епитимья растягивалась на годы. Многие предпочитали уйти из концента. Те, кто оставался, выходили изменившимися: присмиревшими и как будто пониже ростом. Это может показаться странным, поскольку требовалось вроде бы всего ничего: переписать указанные главы, выучить и ответить на вопросы по ним комиссии иерархов. Однако содержание Книги на протяжении столетий оттачивалось до полного, идиотического, вынимающего душу безумия: вопиюще очевидного в начале, затем, с каждой главой, всё более тонкого. Это был лабиринт без выхода, уравнение, которое после недель труда сводилось к 2 = 3. Первая глава состояла из страницы бессмысленных детских стишков с нарочито неточными рифмами. Четвёртая представляла собой несколько страниц знаков числа пи. Дальше, впрочем, в кодексе не было ничего случайного, поскольку чисто рандомные вещи запомнить не так сложно: достаточно освоить несколько приёмов, а все, одолевшие четвёртую главу, эти приёмы знали. Куда труднее зубрить и отвечать материал почти, но не совсем осмысленный; материал, в котором есть внутренняя логика, но только до некоего предела. Такие вещи время от времени возникают в матическом мире естественным путём: в конце концов, не каждому дано стать светителем. После того как авторов унизили и отбросили, их сочинения передавали инквизиции; если она находила текст достаточно чудовищным, то его, дополнительно ухудшив, включали в следующие, ещё более гадостные издания кодекса. Чтобы выйти на свободу, надо было освоить материал так, как, скажем, теорию групп для изучения квантовой механики. Ужас заключался в сознании, что ты прикладываешь столько усилий, чтобы отравить свой мозг интеллектуальным ядом. Вы и представить себе не можете, насколько это унизительно. Промучившись над пятой главой недели две, я вполне понимал, почему осилившие, например, девятую, остаются искалеченными на всю жизнь.
Довольно о Книге. Куда более интересный вопрос: почему я здесь оказался? По всему выходило, что суура Трестана хотела устранить меня на весь срок пребывания инквизиторов. С третьей главой я бы справился чересчур быстро. Четвёртой могло бы хватить, но она добавила пятую на случай, если я легко запоминаю числа.
Каждое утро меня будил рассветный актал, на который собирались лишь самые страстные любители церемоний. Я сдёргивал стлу с деревянной лежанки – единственного предмета мебели в штрафной келье, заворачивался, мочился в дыру в полу, споласкивал лицо холодной водой из каменной чаши, съедал хлеб, выпивал молоко, ставил пустую посуду у выхода и садился на пол перед лежанкой, предварительно разместив на ней Книгу, перо, чернильницу и несколько листьев. Сфера служила упором для локтя. Я работал три часа, потом, до провенера, занимался чем-нибудь ещё, чтобы проветрить голову. Всё то время, что Лио, Джезри и Арсибальт заводили часы, я отжимался, приседал и делал выпады. Из-за моего отсутствия ребята напрягались больше и становились сильнее, и я не хотел выйти на свободу ослабевшим.
Товарищи как-то выяснили, в какой келье я нахожусь, и после провенера завтракали на лугу прямо под моим окном. Они не поднимали глаза и не махали мне – суура Трестана наверняка смотрела на них сверху, дожидаясь чего-нибудь в таком роде, – но каждый раз для начала поднимали кружки с пивом, как будто за чьё-то здоровье, и отпивали по большому глотку. Я понимал, что они мысленно со мной.
Чернил и листьев было много, и я начал писать отчёт, который вы сейчас читаете. По ходу у меня возникло странное ощущение, что в событиях последних недель имелась некая закономерность, которую я упустил. Я списал его на изменённое состояние ума, в которое впадает узник, оставшись наедине с Книгой.
Как-то на второй неделе епитимьи мои утренние занятия прервал незнакомый колокольный звон. Через арку мне были видны верёвки, идущие от балкончика звонщиц к колоколам. Я перебрался на другую сторону лежанки, спиной к окну, чтобы удобнее было за ними наблюдать. По идее, все инаки должны разбирать звоны. Я так толком этому и не научился: ноты смешивались у меня в голове, и я не мог вычленить мелодический рисунок. Выяснилось, что, глядя на верёвки, я делаю это куда легче: моё зрение было лучше приспособлено для такой работы, чем слух. Я понимал, как движение конкретной верёвки обусловлено движением соседних на прошлых тактах, и через минуту-две без посторонней помощи разобрался, что звонят к элигеру. Кто-то из моего подроста должен был вступить в орден.
От окончания колокольного звона до начала актала прошло полчаса, затем ещё полчаса все пели. Наконец, Стато назвал имя Джезри, и грянул кондак инбраса. Пели с воодушевлением, но не очень искусно, из чего я заключил, что Джезри приветствуют в своих рядах эдхарианцы. Всё это время мне было трудно сосредоточиться на Книге, и потом тоже: по-настоящему я заставил себя заниматься только после провенера.
На следующий день звон повторился. Ещё двое вступили в эдхарианский орден и одна – Ала – в Новый круг. Я ничуть не удивился. Мы все считали, что ей прямая дорога в иерархи. Тем не менее почему-то событие потрясло меня так, что я полночи не мог уснуть. Как будто Ала перенеслась в какой-то другой концент, где я никогда её больше не увижу, не смогу с нею спорить или состязаться, кто быстрее решит теорическую задачку. Глупость несусветная: Ала оставалась в Эдхаре, и нам предстояло каждый день вместе обедать в трапезной. Однако какая-то часть мозга упорно считала решение Алы моей личной потерей и, словно в отместку, не давала мне уснуть.
В том, как я узнал звон элигера по движению верёвок, заключался небольшой урок. Я по-прежнему записывал события прошедших недель, и грызущее чувство, будто я что-то прохлопал, не отпускало. Наконец я дошёл до разговора с фраа Ороло на звёздокруге и их с Трестаной тихому спору чуть позже. Излагая эти события на листе, я взглянул в окно туда, где они происходили, и увидел, что решётка, несмотря на дневное время, по-прежнему опущена. Мне была видна и решётка центенарского матика – тоже закрытая. Обе они ни разу не открывались за то время, что я здесь. С каждым днём я всё больше укреплялся в мысли, что звёздокруг заперт с тех самых пор, как на восьмой день аперта ключник опустил решётку за мною и Ороло. Закрытие звёздокруга – почти наверняка первое и единственное за всю историю концента светителя Эдхара, – вероятно, и стало причиной жаркого спора между Ороло и Трестаной.
Большая ли натяжка предположить, что приезд инквизиторов двумя днями позже – не случайность? Наш звёздокруг смотрит на то же небо, что и все остальные в мире. Если закрыли наш – если нам чего-то не положено видеть, – значит, закрыли и другие. Скорее всего приказ пришёл по авосети на восьмой день аперта, и тогда же ита передали его сууре Трестане; тогда же, надо думать, Варакс и Онали тронулись в нашу «затерянную обитель».
Всё складывалось в более или менее правдоподобную картину, но не отвечало на главный вопрос: чего ради закрывать звёздокруг? Вроде бы уж он-то должен занимать иерархов меньше всего. Их дело – следить за соблюдением канона, не допуская мирскую информацию в мозги инаков. Информация, поступающая со звёздокруга, по своей природе вне времени. Большей её части – миллиарды лет. Текущие события – пыльная буря на каменистой планете или вихревая флуктуация на газовом гиганте. Что из увиденного со звёздокруга попадает в разряд мирского?
Как фраа, который проснулся задолго до рассвета от запаха дыма и понимает, что огонь тлел и разгорался много часов, пока он дрых, ни о чём не ведая, так и я не только испугался, но и досадовал на свою тупость.
Моему душевному равновесию не способствовало и то, что элигер теперь справляли почти каждый день. За последний год я заметно отстал от других в теорике и космографии и уже почти смирился с тем, что вступлю в неэдхарианский орден и стану иерархом. Потом, ровно перед тем, как Трестана посадила меня за Книгу, я решил-таки попроситься к эдхарианцам и посвятить жизнь изучению Гилеиного теорического мира. А теперь я сидел в этой каморке и читал белиберду, пока заполняются места в эдхарианском капитуле. Формально не было никаких ограничений, никакой квоты, но если бы эдхарианцы получили больше десяти – двенадцати новых инаков за счёт других орденов, грянул бы скандал. Тридцать лет назад, когда Ороло пришёл в концент, они набрали четырнадцать человек, и разговоры об этом не утихли до сих пор.
Как-то днём, сразу после провенера, опять зазвонили колокола. Сперва я подумал, что вновь отмечают элигер. К тому времени пятеро присоединились к эдхарианцам, трое – к Новому кругу и один – к реформированным старофаанитам. Однако где-то в глубине сознания скреблось чувство, что такой звон я слышу впервые в жизни.
Я в очередной раз отложил перо, злясь, что моя епитимья пришлась на такое интересное время, и сел так, чтобы лучше видеть верёвки. Через несколько минут я точно знал, что это не элигер. На миг у меня перехватило дыхание – я подумал, что звонят к анафему. Впрочем, звон умолк раньше, чем я сумел его определить. Полчаса я сидел без движения, слушая, как заполняются нефы. Толпа собиралась огромная – все инаки из всех матиков бросили свои дела и пришли на актал. Они оживлённо переговаривались. Я не разбирал слов, но по тону чувствовал, что предстоит нечто очень значительное. Несмотря на страхи, мне удалось убедить себя, что это не анафем. Люди бы столько не разговаривали, если бы шли смотреть, как отбросят их брата или сестру.
Началась служба. Пения не было. Я слышал, как примас произносит знакомые фразы на древнеортском: формальный призыв к сбору всего концента. Затем он перешёл на новоортский и зачитал некий текст, написанный, судя по стилю, примерно в период Реконструкции. В самом конце Стато возгласил отчётливо:
– Воко фраа Пафлагон из центенарского капитула ордена светителя Эдхара!
Итак, это был актал воко. Всего лишь третий на моей памяти. Первые два произошли, когда мне было лет десять.
Покуда я переваривал услышанное, снизу донёсся общий вздох и глухой стон: выдохнули, надо полагать, почти все инаки, стенали центенарии, теряющие брата навсегда.
И тут я совершил нечто ужасное, но я знал, что мне это сойдёт с рук: вышел из кельи. Я пересёк коридор и заглянул через парапет.
В алтаре находились всего трое: Стато в своём пурпурном одеянии и Онали с Вараксом, узнаваемые по инквизиторским шапкам. Инаки за экранами шумели так, что актал временно приостановился.