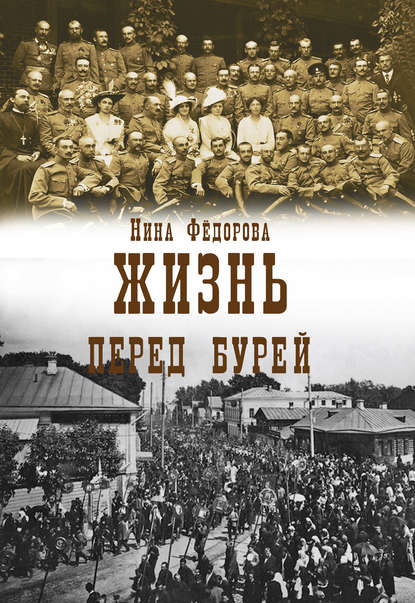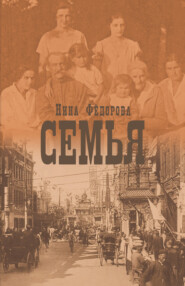По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Жизнь. Книга 2. Перед бурей
Автор
Год написания книги
2019
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Нет, Тимофей зашатался. Решается, думает, моя судьба. Кто-то будет у нас «её благородие»? Вот барин Мальцев пошёл, а Тимофей за ним, крадучись… И болит у него сердце…
– Сердце болит? У кого?
– У Тимофея. Так и идут они: барин Мальцев впереди, а Тимофей за ним… за ним… Подходят к дому капитана Пяткевича. Закачался, зашатался Тимофей. Господи, Боже ж мой, – думает, – неужели ж жёлтая лицом гордячка Казимира будет нашим «её благородием»? Ну, барин Мальцев шагает мимо. Да вдруг словно замешкался у крыльца полковника Мельникова. Тут Тимофей чуть в обморок не упал. Да знает ли его благородие, что у Мельниковой Киры-барышни половина зубов вставленных и на ночь она их в блюдечко выкладывает, рыбий жир она пьёт бутылками – и весь дом у них так рыбой пахнет, как наша слободка у Керчи. Да хоть и зовут её Кирой, настоящее имя – Калерия, как болезнь! Нет, нет, – решил Тимофей, – лучше руки на себя наложить, чем видеть барина так поженившись. Опомнился Тимофей – и видит: барин Мальцев идут да идут вперёд. Дальше – горе! Зотовская квартира, барышень там шестеро, только и толку, что Тамара танцует хорошо, ну, Тимофею не танцевать же с ней, да и стыд – беднота там такая! На обед суп с мясом, и без ужина. Если ужинать, говорят, кошмары барышень ночью душат! Дальше идёт барин Мальцев, мимо зотовских барышень. А там – пронеси, Господи! – генерала Кострова помещение, а у их Марионилы левый бок кривой, глаза косят, и они заикаются. Семья, правда, богатейшая, только скупые очень. И все ссорятся, а барышня, рассердившись, на собственную маменьку ножкою топает. Но мимо идёт барин Мальцев. На квартиру Ситницких даже и Тимофей не опасается: младшей дочке – тринадцать лет, а все четыре обморокам подвержены: так и падают, так и падают. А тут кончилась Батальонная улица, и страх напал на Тимофея: неужто городская будет невеста? Городских барышень Тимофей мало знает, не интересовался. Но вот поворачивает их благородие, прибавляет он шагу – а тут только и есть, что наша «Услада». Возрадовался душой Тимофей и возблагодарил Господа Бога. А как барин Мальцев пошёл к парадному крыльцу, Тимофей – за угол, в боковую калитку. Я же ему и на пороге встретилась. Он мне говорит: с поздравлением, Глаша! Женимся на вашей барышне! И мы, – говорит, – с вами, Глаша, вроде теперь как бы родственники. Ну, я с ним всегда держу себя гордо – и говорю: бессовестный вы человек, Тимофей Кузьмич! вам бы всё насмешки! А сама бегу, звонок слышу. И как увидела я их благородие… в форме парадной, взгляд суровый, – прослезилась я от чувств, от всей этой картины. До смерти не забуду сладкой минуты!
Увлечённая рассказом, Мила позабыла об условностях и традициях дома: хотя отношение к прислуге в «Усладе» было прекрасное, подобные откровенные разговоры не были приняты, а Мила выслушала от горничной критику своих подруг, барышень её общества. Но центром её внимания был только Георгий Александрович, и от рассказа она не могла оторваться. А Глаша пела:
– И опять же, как уходили барин Мальцев, я за ним закрыла двери, наперегонки с Семёном бежала. Не швейцар я и не лакей, но тут не утерпела. Папаша ваш даже покосился на меня, что это я у парадной двери… И уж так видно было, что любят они вас!
– Кто? Папа?
– Нет, барин Мальцев. И вот уж любят так любят: душою!
– Но как т ы это можешь знать?
– Да ведь они дали мне на чай три рубля. Истинный Бог! Вот, смотрите сами, барышня!
Вынув из кармана, Глаша разгладила рукою и подала трёхрублёвый кредитный билет. Они обе смотрели на него некоторое время благоговейно, словно это было редкое сокровище.
– Взяла я этот билет, – промолвила Птша, – и говорю барину Мальцеву: «Благодарствуйте!» – а сама вот так и качаюсь, так и качаюсь на ногах, потому что в сердце моём к ним чувство.
– К деньгам?
– Нет, к их благородию! Ну, и к деньгам опять же. А они и не поглядели даже. А лицом – бледные такие… вижу, страдают очень…
– Страдает? – испуганно воскликнула Мила. – Но почему?
– А как же! Любовь! Мы, девушки, от любви румянцем вспыхнем, а молодой человек от любви бледнеет.
– Да? Но почему?
– А кто ж знает. Богом так устроено.
Но вдруг Миле стало тоскливо, неприятно. Она подумала, что совсем не нужно было ей говорить о любви. От слов что-то потускнело в картине её счастья. Она сидела молча, полузакрыв глаза. Её распущенные волосы почти касались пола. Поняв её нежелание продолжать разговор, Глаша, глубоко вздыхая, занялась причёской.
Тонкий звук, не то шелест, не то шорох, прошёл по комнате: на пороге возникла портниха Полина Смирнова.
– С праздником, Людмила Петровна! Вот модные журналы!
– А, здравствуйте, Полина! – обернулась к ней Мила. – Хорошо, что вы пришли. Вы мне очень нужны. Садитесь, пожалуйста. Как только закончу с причёской, я буду с вами.
– Могу я спросить, для какого же случая желаете вы иметь это платье? – заговорила тихо Полина, предварительно пробормотав несколько слов, выражавших её удивление перед замечательным вкусом заказчицы: лесть была неотъемлемой частью её разговора с дамами. – Это платье – вечернее…
– О, для замечательно-торжественного случая! – воскликнула Мила.
– Я могла бы предложить изменить немного отделку, но не осмеливаюсь: куда же мне! Природа наделила вас, Людмила Петровна, богатым вкусом. Что касается элегантности, мой глаз не стоит вашего. Но вот эти три промежуточные складочки… к месту ли они? Знай я точно, для какой именно цели это платье…
– Так я скажу вам! – воскликнула Мила, снова в восторге при мысли о своём счастье. – Скажу, но обещайте мне, Полина, на некоторое время держать в секрете, всего на несколько дней!
– Верьте мне, – отвечала портниха смиренно и, вместе с тем, с глубоким достоинством. – Хотя я и всего-то-навсего рабочая женщина и уже давно не осмеливаюсь себя сравнивать с кем-либо в чём-либо, секреты хранить я умею!
– Так слушайте! – И Мила всплеснула руками: – Я – невеста! Мне нужно платье для вечера, когда о помолвке будет объявлено.
Портниха сделала быстрое движение назад, словно кто ударил её в грудь кинжалом. На миг в комнате воцарилась странная и немного чем-то даже страшная тишина. Затем Полина заговорила – и её голос звучал так, словно что-то стало комком поперёк её горла. В преувеличенно льстивых выражениях она восхищалась счастливым известием и поздравляла Милу. И чем больше она восхищалась, тем сильнее падало возбуждение Милы, и она снова пожалела, как и в разговоре с Глашей, что поделилась новостью. Наконец, навосторгавшись, Полина сделала паузу и, отдохнувши, спросила:
– Могу ли узнать, кто же счастливый избранник?
– Поручик Георгий Александрович Мальцев!
Полина снова отпрянула к спинке стула, будто её ещё раз ударили кинжалом в грудь наотмашь. Она даже на миг закрыла глаза, но тут же заговорила:
– Понимаю… Что ж, лучшей на свете нет пары… Предмет зависти всех неженатых и не вышедших ещё замуж. Не зная лично поручика Мальцева – куда ж мне! – я не раз любовалась им издали и смело вам, Людмила Петровна, повторяю: лучшего в мире нет жениха. Обещаю, наше платье к обручению будет высоким предметом искусства, вышедшим из рук глубоко вам преданной женщины. А складочки эти мы уберём!
Она развернула выкройку.
– Начнём немедленно. Схожу только в швейную комнату за ножницами и бумагой. Модель из бумаги будет готова к вечеру. И ваша мамаша, возвращаясь, поможет нам обсудить вопрос с материалом.
И она ушла, бормоча:
– Ну и любопытно же всё на свете… Как, однако же, всё любопытно.
Очевидно, у парадного входа был звонок, так как и наверху было слышно, как вихрем, с восклицаниями, промчалась Глаша. Смелая в отсутствие господ, она, не сдерживая голоса, кричала:
– Я отворю!
Через минуту, красная, задыхаясь, она появилась в комнате Милы с букетом в руках.
– Прислано от их благородия!.. От них! – И, взвизгнув восторженно, подала букет Миле. – Господи благослови! Уже начинают посылать подарки! Ну прямо ангельского чина человек!
Мила взяла букет, не слыша слов Глаши. Цветы! Ландыши! Именно ландыши она любила. Но как он мог знать? Она всё всматривалась и всматривалась в них, прижимая букет к груди. А они, под её взглядом, казалось, меняли свой образ. Увы! это были не те ландыши, что она так любила, не те, что вольно, радостно расцветали в свой день у лесов на полянах. Это были искусственно выгнанные из почвы цветы оранжереи. И в них была своя, но иная уже прелесть: не белые, скорее зеленоватые, они походили не на живой цветок, из первых детей весны, они напоминали собою тонко выполненную копию их.
Букет был заключён в круг зелёных листьев, но они ничего не знали о солнце и были так же безжизненно хрупки.
«Он не любит меня! – вдруг подумала Мила. – Что-то в этих цветах мне говорит: он не любит меня».
– Позвольте и мне – хотя издали – полюбоваться букетом, – зашелестел шёпот, и, обернувшись, Мила увидела Полину с большими ножницами в руках. Она держала их высоко в руке, как знамя.
Мила протянула ей букет.
– О, я не прикоснусь… не смею… я издали, куда ж мне! – Но её взгляд быстрой ящерицей скользнул по букету и по лицу Милы.
– Самый к о р р е к т н ы й букет! – произнесла она отчётливо и громко. – Ф о р м а л ь н о рекомендуется на многие случаи в жизни людей высшего общества. И не только для обручений, – уже зашептала она, – но и для именин молодых девушек, для выздоравливающих, при окончании института, для первого бала, серебряной свадьбы… для похорон…
«Для похорон» – сказала она это, или это только послышалось Миле? Мила отпрянула с букетом, а Полина – громче, как ни в чём не бывало – продолжала:
– Всё равно что и незабудки, тоже совершенно бесстрастные, чистые, я бы сказала, возвышенные, бестелесные цветы, как и маргаритки, тоже детский цветочек!
«Детский цветочек! – Сердце Милы сжалось от боли. – Он не любит меня! – подумала она снова. – И это видно даже посторонним – по его букету! – И гнев охватил её сердце. Казалось, её беспредметное беспокойство, её смутная тревога нашли наконец своё основание и форму. – Но тогда – как объяснить его предложение? Чего он ищет во мне? Что он думает найти?»