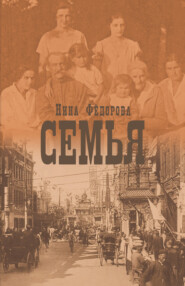По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Жизнь. Книга 3. А земля пребывает вовеки
Автор
Год написания книги
2019
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Кресло затрещало под Поповым: ишь, чёрт, узко! – и он развязно начал излагать «приказ комитета освобождения»: головинской барышне «явка с букетом» на праздник, чтоб поднести ему лично, как главному лицу в процессии освобождённых.
Слова его, наружность, манеры не оставляли сомнения: это был решительный человек.
С Димитрием, скрывающимся наверху, с пониманием, что значит его участие в создании контрреволюции, главной заботой Головиных стало не привлекать враждебного внимания новой власти к «Усладе». Тёте Анне Валериановне предстояло мирно разрешить вопрос об участии Милы в празднестве тюрьмы.
Попов между тем добавил и личную просьбу: он желал, чтобы Мила произнесла «слово», обращённое к нему самому – главе уголовных и их представителю и председателю.
Анна Валериановна позвонила и просила Глашу прислать в гостиную Милу. Попов приосанился и подкрутил усы. Тётя просила его повторить просьбу Миле. Развалясь, сколько мог, в кресле и почесав голую грудь под рубахой, Попов изложил своё «государственное дело». Мила и тётя обменялись взглядом.
– Хорошо, – сказала Анна Валериановна, – Людмила Петровна может пойти и поднести букет, но совершенно невозможно, чтобы она произносила «слово»: она не привыкла выступать публично.
– Хе-хе! – сказал Попов. – Большое дело! Я вот тоже не умел, да наловчился. Подучить можем барышню! – И он «лихо» взглянул на Милу.
Обе женщины побледнели.
– Я прошу вас сделать нам эту уступку, – сказала Анна Валериановна. – Видите, на первую часть вашей просьбы мы согласились. Этого вполне достаточно, не правда ли? Она явится с букетом и поднесёт, кому будет указано.
– Нам букетец, нам самолично. – И Попов хлопнул себя ладонями по коленям. – Будь по-вашему, освобождаем барышню от «слова».
Видя, с каким удовольствием он принял согласие, с какой зловещей тюремной любезностью он благодарил их, слыша «словечки», никогда не произносившиеся ещё в «Усладе», обе женщины холодели от страха.
Попов объявил, что сам в день торжества приедет за Милой в автомобиле, и не в том тюремном, с решётками, а в открытом, который прежде полагался его благородию, бывшему начальнику тюрьмы.
– И не беспокойтесь, поедем парочкой. С девочкой ничего не случится. Беру на себя охрану. Будьте покойны: имя Клима Попова среди уголовников значит немало. И букет на мой счёт: прикажу собрать герани в чьём-нибудь огороде.
Обе женщины молчали.
Попов продолжал «программу». Привезя Милу, он поставит её на платформу (он называл Анну Валериановну барыней, а Милу – Людмилой, хотя ему и сказано было, что она – Людмила Петровна), сам же должен будет отлучиться, чтоб, сняв штатскую одежду, переодеться в арестантскую, и затем выйти из тюрьмы, возглавляя шествие. «Там дальше речь произнесу для народа, чтоб понимали!» – но будьте покойны: Людмилу он доставит домой опять же самолично и на автомобиле. Желая нравиться, он говорил в том тоне, что почитал барским: с папиросой, висящей из угла рта, прищурив глаза и раскачивая ногу в грязном, когда-то жёлтом полуботинке.
Тётя Анна Валериановна слегка наклонила голову в знак того, что аудиенция кончена, но Попов не понимал, он не думал уходить. Он словно врос в кресло.
– Нравится мне тут у вас! Вроде как чисто всё и благородно. И разговор ваш вежтивый, куда ж и сравнить с тюрьмой! Грязь у нас конечно, да и вши. От блохи тоже покоя нету. Ну, днём развлекаемся тоже, больше, конечно, в карты. Вот есть у нас мастера! – И, обратясь к Миле, он спросил, играет ли она в железку.
Мила нашла силы отрицательно кивнуть головой.
Попов не уходил. «Услада» очаровала его. Он заговорил о себе, о том, что судьба его переменилась – спасибо революции! – и ожидается светлое будущее. Обещана ему важная должность. Он говорил о будущем словами и готовыми фразами тюремных ораторов. Он говорил о всеобщем равенстве. Взять его и хоть бы эту барышню вашу, Людмилу, – оба плоды старого режима, теперь же уравнены, и нет никакой разницы, почему бы и не жить в дружбе, в любви и в согласии.
Произнося речь, он вспотел от усилий, заключив:
– Заглядывать буду к вам! Нравится тут мне очень!
Бледная поднялась Анна Валериановна с кресел и, сказав «до свидания!», позвонила Глаше, чтоб проводить гостя.
– Приятно познакомиться, – прощался Попов и ещё раз бросил взгляд на Милу, тяжёлый взгляд, от головы до ног, и затем улыбнулся довольной улыбкой.
Чтобы не показать своих истинных чувств и своего страха, и она улыбнулась в ответ испуганной улыбкой. Попов остался доволен: он предпочитал скромность и наивность в женщине. Он подбоченился.
– Да вы не бойтесь, барышня! Мы умеем обращаться с дамочками! Опытные!
Наконец он ушёл.
Он оставил «Усладу» в состоянии почти экстаза. «Вот местечко, чёрт возьми!» – и он сплюнул на мраморные ступени. Вынув из кармана брюк клетчатую кепку, он лихо набросил её на голову, козырьком назад. Он чувствовал себя молодым и полным энергии. Перейдя дорогу, остановился, созерцая фасад «Услады» и стараясь угадать, за которым же окном спит «голубка». Затем он пошёл в город, но иной походкой, с раскачкой. Идея Оливко о барышне с букетом, вначале показавшаяся ему глупой, теперь восхищала его. Оливко этот не совсем дурак.
Мысли его были приятны: девочка, отказавшая парикмахеру (Попов считал, что парикмахер – господин), согласилась – и без возражений – на ту же просьбу, когда попросил он. Это уже кое-что да значило, приосанивался Попов. Он не был неопытным юнцом: девочка не говорила с ним сама, за неё говорила тётка. Эта ведьма понимает дело. Парикмахер – что? – хоть и господин, а при нынешней жизни – день, и нет его. А за Поповым – товарищи. Попробуй тронь! Это вот тётка смекнула. И как они слушали, когда он говорил о будущем! И она! Она! Девочка. Голубка. Людмила.
Попов был влюблён.
То, что очаровало его в Миле, была не её красота: эта красота (щупленькая!) не была в его вкусе. Его пленила её покорность, её испуг, её грусть, её скромность, рвущая сердце улыбка. Охотник с ружьём и испуганная им, бегущая от него лань.
Однако он не мыслил ей зла. Другое: он хотел бы на ней жениться. В ней он угадывал женскую верность, женскую преданность. Разбойнику нужна именно преданная жена, до могилы верная подруга. Легкомыслие, ветреность разбойник вообще презирает.
Мысли Попова зашли так далеко – до женитьбы. Человек на всех путях жизни нуждается в преданной супруге, особенно тот человек, что занят опасным делом. Он, Попов, горестно наблюдал падение нравов современной ему женщины. Жениться парню не на ком, честное слово! И вот Мила, наконец, показалась ему подходящей.
Желая думать о Миле, говорить о ней, он направился к Оливко. Там он обрушился на изумлённого парикмахера, упрекая его в недостатке вежливости к женскому полу. Говорил назидательно:
– Ты там был, нагрубил, видно, как последний мужик деревенский. Напугал девочку. Людмила девочка нежная, как ей с тобой на люди показаться? С ней говорить надо вроде как бы вежливо. Умеючи надо… И слов тех, что мы – мужчины – между собою заворачиваем, с ней никак нельзя. Ты не умеешь – не суйся. А я вот умею: согласна Людмила, будет с букетом на празднике. Слыхал? И вперёд на дамское или другое какое деликатное дело меня посылай, сам не рыпайся. Напортишь только, дурья твоя голова.
Попов стал серьёзно подумывать о женитьбе: «Годы же мои вполне подходящие: чуть за сорок, в полном соку. И судьба моя вон как переменилась! Пора, пора жениться. Самое, так сказать, время. И девочка-то какая! Мировая девочка! Нежная. Людмила! Голубка!»
Впервые тихие мысли о семейном уюте взманили его (сказывался возраст!). Но главное – до женитьбы поскорей обеспечиться. Чтоб уж потом и не покидать голубку: время-то ныне какое! Смута, какой на земле не было. Хитрый мужик, он понимал революцию лучше многих историков её и теоретиков. Равенство? братство? – рассказывай кому другому! Он видел её как катастрофическую перемену, как разруху и – разбойный по духу – приглядывался, где и как удобнее пограбить, пока возможно. «Мировой пожар раздуем!» Дуйте, ребята, раздувайте! Он же, Попов, и поведёт себя как на пожаре: в первые же минуты, в самом начале – красть, а дальше – «мирный я житель, хата с краю, и не видел ничего, и не знаю». С капиталом же при чём тут режим, тот ли, другой ли. При ловкости нашей – устроимся. Его ум работал, и маленькие глазки хитро поблёскивали.
«День освобождения» и для него принимал всё большую важность: он будет как бы представлен народу, и заметьте, головинская дочка подносит букет. Он как бы вступал этим в лучшее общество города: узнают, если где встретят. Кстати, соперников он не боялся: знал способы «успокоить», а то и совсем «удалить» мешающего ему досадного человека.
Накануне торжества он объявил Оливко, что завтра утречком пожалует к тому на квартиру, то есть в парикмахерскую, и хоть сам Оливко теперь не работал, Попов требовал его личных услуг: «Сам меня и пострижёшь, по-товарищески».
Пока Оливко работал над его головой, надо сказать, без всякого энтузиазма, Попов сидел, зажмуря глаза, сладко мечтая о Миле и о женитьбе. По окончании сеанса, увидев в руках парикмахера бутылку с дешёвым одеколоном, Попов распорядился:
– Ты, брат, не поливай меня отечественною мутью, подай сюда французские духи!
В «Усладе» между тем волновались.
Анна Валериановна велела Миле держать в секрете и посещение Попова, и будущую поездку на торжество.
– Ты знаешь Димитрия. Если он только увидит Попова и узнает, зачем и куда ты едешь, он забудет всякую осторожность и тут же в доме у нас застрелит этого каторжника. Тем более не говори и маме. Я поеду с тобою и не отойду от тебя ни на минуту. Не бойся ничего.
Букет красной герани казался настолько нелепым, что решили заменить его розами.
– Я буду смотреть на розы и о них думать, – сказала Мила, – и ничего, время пройдёт.
Она мужественно прошла через все унижения этого дня: с букетом стояла часы на платформе, рядом с фыркающим в её сторону парикмахером Оливко. Он «принципиально» не поздоровался с Головиными. Тётя Анна Валериановна, в чёрной кружевной косынке, изваянием стояла позади Милы. Полина Смирнова показывала на них пальцем и смеялась громко. Попов, выйдя из тюрьмы, не спускал глаз с Милы. С улыбкой она подала ему букет. И, наконец, втроём они возвращались в «Усладу» в чёрном автомобиле с ещё не стёртой надписью: «городская полиция».
С каким ужасом поняли Мила и тётя, что Попов был г л а в н ы м преступником уголовной тюрьмы. Тётя не выдала себя ничем, но подмечала всё. Попов, видавший виды и себе на уме, понимал основной смысл её молчания. «Ишь, ведьма! В рот воды набрала!» С другой стороны, ему нравилось: остерегает Людмилу. От эдакой тётки не убежишь в подворотню на фарт, побалагурить с прохожим парнем. Не такое, значит, семейство.
Сам он был счастлив и болтлив. Весь потный, он оттягивал от тела то рубашку, то жилет, поясняя: для воздуха.
– Слыхала? – обратился он к Анне Валериановне. – Ну, какую же речь я сказал! Печатное дело! Понравилось небось? – подмигнул он Миле.
– Вы хорошо сказали, – ответила она.
Слова его, наружность, манеры не оставляли сомнения: это был решительный человек.
С Димитрием, скрывающимся наверху, с пониманием, что значит его участие в создании контрреволюции, главной заботой Головиных стало не привлекать враждебного внимания новой власти к «Усладе». Тёте Анне Валериановне предстояло мирно разрешить вопрос об участии Милы в празднестве тюрьмы.
Попов между тем добавил и личную просьбу: он желал, чтобы Мила произнесла «слово», обращённое к нему самому – главе уголовных и их представителю и председателю.
Анна Валериановна позвонила и просила Глашу прислать в гостиную Милу. Попов приосанился и подкрутил усы. Тётя просила его повторить просьбу Миле. Развалясь, сколько мог, в кресле и почесав голую грудь под рубахой, Попов изложил своё «государственное дело». Мила и тётя обменялись взглядом.
– Хорошо, – сказала Анна Валериановна, – Людмила Петровна может пойти и поднести букет, но совершенно невозможно, чтобы она произносила «слово»: она не привыкла выступать публично.
– Хе-хе! – сказал Попов. – Большое дело! Я вот тоже не умел, да наловчился. Подучить можем барышню! – И он «лихо» взглянул на Милу.
Обе женщины побледнели.
– Я прошу вас сделать нам эту уступку, – сказала Анна Валериановна. – Видите, на первую часть вашей просьбы мы согласились. Этого вполне достаточно, не правда ли? Она явится с букетом и поднесёт, кому будет указано.
– Нам букетец, нам самолично. – И Попов хлопнул себя ладонями по коленям. – Будь по-вашему, освобождаем барышню от «слова».
Видя, с каким удовольствием он принял согласие, с какой зловещей тюремной любезностью он благодарил их, слыша «словечки», никогда не произносившиеся ещё в «Усладе», обе женщины холодели от страха.
Попов объявил, что сам в день торжества приедет за Милой в автомобиле, и не в том тюремном, с решётками, а в открытом, который прежде полагался его благородию, бывшему начальнику тюрьмы.
– И не беспокойтесь, поедем парочкой. С девочкой ничего не случится. Беру на себя охрану. Будьте покойны: имя Клима Попова среди уголовников значит немало. И букет на мой счёт: прикажу собрать герани в чьём-нибудь огороде.
Обе женщины молчали.
Попов продолжал «программу». Привезя Милу, он поставит её на платформу (он называл Анну Валериановну барыней, а Милу – Людмилой, хотя ему и сказано было, что она – Людмила Петровна), сам же должен будет отлучиться, чтоб, сняв штатскую одежду, переодеться в арестантскую, и затем выйти из тюрьмы, возглавляя шествие. «Там дальше речь произнесу для народа, чтоб понимали!» – но будьте покойны: Людмилу он доставит домой опять же самолично и на автомобиле. Желая нравиться, он говорил в том тоне, что почитал барским: с папиросой, висящей из угла рта, прищурив глаза и раскачивая ногу в грязном, когда-то жёлтом полуботинке.
Тётя Анна Валериановна слегка наклонила голову в знак того, что аудиенция кончена, но Попов не понимал, он не думал уходить. Он словно врос в кресло.
– Нравится мне тут у вас! Вроде как чисто всё и благородно. И разговор ваш вежтивый, куда ж и сравнить с тюрьмой! Грязь у нас конечно, да и вши. От блохи тоже покоя нету. Ну, днём развлекаемся тоже, больше, конечно, в карты. Вот есть у нас мастера! – И, обратясь к Миле, он спросил, играет ли она в железку.
Мила нашла силы отрицательно кивнуть головой.
Попов не уходил. «Услада» очаровала его. Он заговорил о себе, о том, что судьба его переменилась – спасибо революции! – и ожидается светлое будущее. Обещана ему важная должность. Он говорил о будущем словами и готовыми фразами тюремных ораторов. Он говорил о всеобщем равенстве. Взять его и хоть бы эту барышню вашу, Людмилу, – оба плоды старого режима, теперь же уравнены, и нет никакой разницы, почему бы и не жить в дружбе, в любви и в согласии.
Произнося речь, он вспотел от усилий, заключив:
– Заглядывать буду к вам! Нравится тут мне очень!
Бледная поднялась Анна Валериановна с кресел и, сказав «до свидания!», позвонила Глаше, чтоб проводить гостя.
– Приятно познакомиться, – прощался Попов и ещё раз бросил взгляд на Милу, тяжёлый взгляд, от головы до ног, и затем улыбнулся довольной улыбкой.
Чтобы не показать своих истинных чувств и своего страха, и она улыбнулась в ответ испуганной улыбкой. Попов остался доволен: он предпочитал скромность и наивность в женщине. Он подбоченился.
– Да вы не бойтесь, барышня! Мы умеем обращаться с дамочками! Опытные!
Наконец он ушёл.
Он оставил «Усладу» в состоянии почти экстаза. «Вот местечко, чёрт возьми!» – и он сплюнул на мраморные ступени. Вынув из кармана брюк клетчатую кепку, он лихо набросил её на голову, козырьком назад. Он чувствовал себя молодым и полным энергии. Перейдя дорогу, остановился, созерцая фасад «Услады» и стараясь угадать, за которым же окном спит «голубка». Затем он пошёл в город, но иной походкой, с раскачкой. Идея Оливко о барышне с букетом, вначале показавшаяся ему глупой, теперь восхищала его. Оливко этот не совсем дурак.
Мысли его были приятны: девочка, отказавшая парикмахеру (Попов считал, что парикмахер – господин), согласилась – и без возражений – на ту же просьбу, когда попросил он. Это уже кое-что да значило, приосанивался Попов. Он не был неопытным юнцом: девочка не говорила с ним сама, за неё говорила тётка. Эта ведьма понимает дело. Парикмахер – что? – хоть и господин, а при нынешней жизни – день, и нет его. А за Поповым – товарищи. Попробуй тронь! Это вот тётка смекнула. И как они слушали, когда он говорил о будущем! И она! Она! Девочка. Голубка. Людмила.
Попов был влюблён.
То, что очаровало его в Миле, была не её красота: эта красота (щупленькая!) не была в его вкусе. Его пленила её покорность, её испуг, её грусть, её скромность, рвущая сердце улыбка. Охотник с ружьём и испуганная им, бегущая от него лань.
Однако он не мыслил ей зла. Другое: он хотел бы на ней жениться. В ней он угадывал женскую верность, женскую преданность. Разбойнику нужна именно преданная жена, до могилы верная подруга. Легкомыслие, ветреность разбойник вообще презирает.
Мысли Попова зашли так далеко – до женитьбы. Человек на всех путях жизни нуждается в преданной супруге, особенно тот человек, что занят опасным делом. Он, Попов, горестно наблюдал падение нравов современной ему женщины. Жениться парню не на ком, честное слово! И вот Мила, наконец, показалась ему подходящей.
Желая думать о Миле, говорить о ней, он направился к Оливко. Там он обрушился на изумлённого парикмахера, упрекая его в недостатке вежливости к женскому полу. Говорил назидательно:
– Ты там был, нагрубил, видно, как последний мужик деревенский. Напугал девочку. Людмила девочка нежная, как ей с тобой на люди показаться? С ней говорить надо вроде как бы вежливо. Умеючи надо… И слов тех, что мы – мужчины – между собою заворачиваем, с ней никак нельзя. Ты не умеешь – не суйся. А я вот умею: согласна Людмила, будет с букетом на празднике. Слыхал? И вперёд на дамское или другое какое деликатное дело меня посылай, сам не рыпайся. Напортишь только, дурья твоя голова.
Попов стал серьёзно подумывать о женитьбе: «Годы же мои вполне подходящие: чуть за сорок, в полном соку. И судьба моя вон как переменилась! Пора, пора жениться. Самое, так сказать, время. И девочка-то какая! Мировая девочка! Нежная. Людмила! Голубка!»
Впервые тихие мысли о семейном уюте взманили его (сказывался возраст!). Но главное – до женитьбы поскорей обеспечиться. Чтоб уж потом и не покидать голубку: время-то ныне какое! Смута, какой на земле не было. Хитрый мужик, он понимал революцию лучше многих историков её и теоретиков. Равенство? братство? – рассказывай кому другому! Он видел её как катастрофическую перемену, как разруху и – разбойный по духу – приглядывался, где и как удобнее пограбить, пока возможно. «Мировой пожар раздуем!» Дуйте, ребята, раздувайте! Он же, Попов, и поведёт себя как на пожаре: в первые же минуты, в самом начале – красть, а дальше – «мирный я житель, хата с краю, и не видел ничего, и не знаю». С капиталом же при чём тут режим, тот ли, другой ли. При ловкости нашей – устроимся. Его ум работал, и маленькие глазки хитро поблёскивали.
«День освобождения» и для него принимал всё большую важность: он будет как бы представлен народу, и заметьте, головинская дочка подносит букет. Он как бы вступал этим в лучшее общество города: узнают, если где встретят. Кстати, соперников он не боялся: знал способы «успокоить», а то и совсем «удалить» мешающего ему досадного человека.
Накануне торжества он объявил Оливко, что завтра утречком пожалует к тому на квартиру, то есть в парикмахерскую, и хоть сам Оливко теперь не работал, Попов требовал его личных услуг: «Сам меня и пострижёшь, по-товарищески».
Пока Оливко работал над его головой, надо сказать, без всякого энтузиазма, Попов сидел, зажмуря глаза, сладко мечтая о Миле и о женитьбе. По окончании сеанса, увидев в руках парикмахера бутылку с дешёвым одеколоном, Попов распорядился:
– Ты, брат, не поливай меня отечественною мутью, подай сюда французские духи!
В «Усладе» между тем волновались.
Анна Валериановна велела Миле держать в секрете и посещение Попова, и будущую поездку на торжество.
– Ты знаешь Димитрия. Если он только увидит Попова и узнает, зачем и куда ты едешь, он забудет всякую осторожность и тут же в доме у нас застрелит этого каторжника. Тем более не говори и маме. Я поеду с тобою и не отойду от тебя ни на минуту. Не бойся ничего.
Букет красной герани казался настолько нелепым, что решили заменить его розами.
– Я буду смотреть на розы и о них думать, – сказала Мила, – и ничего, время пройдёт.
Она мужественно прошла через все унижения этого дня: с букетом стояла часы на платформе, рядом с фыркающим в её сторону парикмахером Оливко. Он «принципиально» не поздоровался с Головиными. Тётя Анна Валериановна, в чёрной кружевной косынке, изваянием стояла позади Милы. Полина Смирнова показывала на них пальцем и смеялась громко. Попов, выйдя из тюрьмы, не спускал глаз с Милы. С улыбкой она подала ему букет. И, наконец, втроём они возвращались в «Усладу» в чёрном автомобиле с ещё не стёртой надписью: «городская полиция».
С каким ужасом поняли Мила и тётя, что Попов был г л а в н ы м преступником уголовной тюрьмы. Тётя не выдала себя ничем, но подмечала всё. Попов, видавший виды и себе на уме, понимал основной смысл её молчания. «Ишь, ведьма! В рот воды набрала!» С другой стороны, ему нравилось: остерегает Людмилу. От эдакой тётки не убежишь в подворотню на фарт, побалагурить с прохожим парнем. Не такое, значит, семейство.
Сам он был счастлив и болтлив. Весь потный, он оттягивал от тела то рубашку, то жилет, поясняя: для воздуха.
– Слыхала? – обратился он к Анне Валериановне. – Ну, какую же речь я сказал! Печатное дело! Понравилось небось? – подмигнул он Миле.
– Вы хорошо сказали, – ответила она.