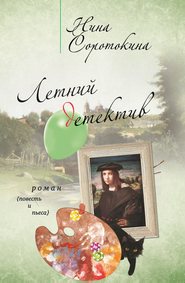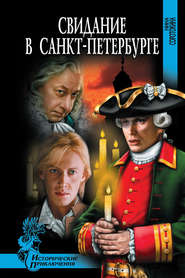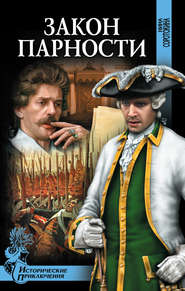По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Гардемарины, вперед!
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Никита, неси сюда эти чертовы «письма-бумаги», – воскликнул Алексей с сияющими глазами. – Анне Гавриловне они уже не помогут. Саш, да не смотри на меня как на помешанного. Вот они! Отдай их Лестоку, пусть подавится. Эти бумаги мне передала сама Анастасия Ягужинская. – И он рассказал о встрече в особняке на болотах.
Сказать, что Белов был озадачен, изумлен, восхищен, будет мало. Он закрыл лицо руками и начал раскачиваться на стуле, издавая при этом звуки, одинаково похожие на рыдания и гомерический смех. Наконец возможность излагать членораздельно свои мысли вернулась к нему:
– Я скудоумная скотина! Я безмозглый осел! Черт меня подери совсем! Я же боялся говорить об этом с вами. Этот город убил во мне человека. Меня здесь запугали… Негодяи!
– Что будем делать, гардемарины? – деловито осведомился Никита. – Впрочем, я сам знаю. Гаври-и-ла, ви-ина! – закричал он громовым голосом. – У нас задачка сошлась с ответом!
8
Чтобы правильно изложить дальнейшие события, необходимо сказать несколько слов о других героях нашей правдивой повести, людей, может, и второстепенных по малости своей, но не второстепенных по той роли, которую они сыграли в этих событиях.
Отношения дворецкого Луки и барского камердинера Гаврилы не сложились, более того, они приняли даже враждебный характер.
Еще при разгрузке прибывшей из Москвы кареты Луку поразило обилие багажа, принадлежащего лично камердинеру. Он тут же попытался образумить Гаврилу, внушая ему, что собственного у него ничего быть не может, разве что душа, и то это вопрос спорный, понеже душа принадлежит Богу, а все остальное – барское, не твое, но камердинер речам этим не внял, продолжая ретиво командовать разгрузкой ящиков, чемоданов и сундуков.
И уж совсем ранила сердце Луки покладистость барина, и даже, страшно сказать, некая его зависимость от камердинера.
Гаврила по приезде осмотрел дом и прокричал загадочные слова: «Где ж мне работать-то? Дом весь захламлен. Мне бы пару горниц, а лучше три. Или терцум нон датур?[25 - Третьего не дано (лат.).] А, Никита Григорьевич?» На что тот рассмеялся и ответил загадочно: «Будет тебе „терцум“», – и выделил для Гаврилы три просторные горницы в правом крыле дома, переселив обретающуюся там дворню во флигель.
В освобожденном помещении разместили столы, поставцы, стеклянную, медную, порцелиновую, чудных фасонов посуду, а в самой большой горнице каменщики за три дня сложили невиданных размеров печь, совершенно изуродовав потолок устройством огромной, на голландский манер вытяжки.
От своих непосредственных обязанностей, как то: умыть, одеть и причесать барина – Гаврила явно отлынивал, а Никита Григорьевич, ему потворствуя, ухаживал за собой собственноручно.
Лука послал было к барину, чтоб обихаживал его, высоченного, представительного, правда умом тугого, лакея Степана, но Никита Григорьевич Степана прогнал, а дворецкого отечески потрепал по плечу и сказал со смехом: «Я с Гаврилой-то с трудом справляюсь, а ты мне еще Степана шлешь на мою голову».
Гаврила меж тем совсем распоясался. Запалил в этакую жару новую печь, навонял мерзко на весь дом да еще стал без всякой видной нужды приставать к барину с вопросами, тыча черным, словно пороховым, пальцем в книгу. Никита Григорьевич, хоть и раскричится без удержу, но все камердинеру растолкует, а то и заглянет зачем-то в «Гавриловы апартаменты», как стала называть этот приют чернокнижья дворня.
Старый дворецкий решил костьми лечь, но привести окаянного бездельника в божеский вид. Уж если он с самим барином вольничает, то о прочих и говорить нечего. Никакого почтения к возрасту, к положению, встретит дворецкого в коридоре, кхекнет высокомерно: «Ну и порядки у вас, Лука Аверьянович!»
Лука держал себя степенно, в грубые пререкания с Гаврилой не вступал, но однажды не выдержал: «Ах ты, петух нещипаный! Как это ты со мной разговариваешь? И какие такие порядки тебе, порченому камердинеру, могут у нас не нравиться?»
Так начался этот разговор, который смело можно назвать открытым объявлением войны. Гаврила приосанился и, явно чувствуя себя выше низкорослого Луки не только в прямом, но и в переносном смысле слова, назидательно произнес:
– Рукоприкладствуете вы, Лука Аверьянович, без меры. Скажите на милость, за что третьего дня кучера Евстрата секли? Уж какую такую провинность он совершил, что ему надо было всю задницу розгами исчертить? Я на эту задницу флакон бальзамного масла извел. А платить кто будет? Никита Григорьевич? Масло-то денег стоит.
Лука посмотрел на Гаврилу как на совершенно помешанного человека, хотел ответить, но слов не нашел.
– Я на вашу дворню, Лука Аверьянович, половину компонентов истратил! – продолжал Гаврила, словно не замечая негодования дворецкого. – У Феньки синяк под глазом – примочки делай! Глафира себе на кухне бараньим супом ноги обварила. Хорошо на ней две холщовые юбки были надеты, а то бы до костей мясо спалила. И я знаю, почему она сожглась. Потому что вы в той поре на кухне глотку рвали, а Глафира боится вас, как сатану.
– Гаврила, – выговорил наконец смятенный Лука, – да что ты такое говоришь? Где твой стыд? Да если бы мать твоя, покойница, или отец твой, царство ему небесное, услыхали твои гнусности, то из гроба бы встали, не посмотрели, что тебе, индюку глупому, четвертый десяток, а схватили бы за вихры…
Но Гаврила не дал дорисовать страшную картину расправы пробудившихся от вечного сна родителей над своим чадом.
– Полно языком-то молоть! Я так понимаю – за компоненты, траченные мной на битую дворню, вам и платить, Лука Аверьянович, потому что вами «ману проприа»[26 - Собственноручно (лат.).]. А не будете платить – пожалуюсь Никите Григорьевичу. Он с вас за каждый синяк и за каждую поротую задницу подороже возьмет, так и знайте!
Разум Луки помутился от гнева, но не настолько, чтобы он решил раскошелиться, а только пламень разгорелся в душе: «Сокрушу негодника! В порошок сотру!»
А Гаврила, наивный человек, даже не понял, что ему была объявлена открытая война, не до того ему было. Он жил как в угаре. Натренированным чутьем опытного предпринимателя он сразу уловил в Петербурге дух наживы. Дух этот словно витал в воздухе.
В Москве, патриархальной, сонной, ленивой, большой спрос был на ладан. И хотя приготовление ладана было делом доходным – на Боге человек не экономит, – Гаврила чувствовал себя профессионально уязвленным – компоненты не те… подделка. Дерево босвеллия, из чьей коры добывают ароматную смолу, не растет в подмосковных садах. Ладан приходилось из таких компонентов стряпать, что вслух не скажешь.
А город Святого Петра – чистый Вавилон! Тут пудру для париков можно не по щепотке продавать, а пудами, в мешки грузить. Румяны расходятся с такой быстротой, словно не ланиты ими раскрашивать, а церковные купола. Только работай! А рук не хватает. Все один, все сам. А спать когда?
Дураку ясно, что необходим помощник, и изворотливые мозги Гаврилы измыслили смелый план. Как только ягодицы кучера Евстрата стали пригодными для сидения на них и обладатель оных перестал поминутно охать, Гаврила заманил его к себе в горницу.
– Платить тебе за бальзамное масло нечем. Так? А платить должно.
– Как же, а? Как же? – заныл Евстрат, кланяясь камердинеру в пояс, словно барину.
Гаврила деловито защелкал на счетах и через минуту сказал, что «подвел черту» и теперь Евстрат в погашение долга будет помогать ему, Гавриле, в составлении лекарств и всего прочего, в чем нужда будет.
– Сударь, кто ж мне позволит? Меня Лука Аверьянович не отпустит! Я совсем другое должен делать!
В продолжение всего монолога, выдержанного на одной истошной, плаксивой ноте, Евстрат выразительно держал себя за место, подверженное недавней экзекуции. Гаврила с трудом оторвал от этого места правую руку Евстрата, дабы скрепить договор рукопожатием, и сказал сурово:
– Работать будем тайно. По ночам. Сегодня и приходи. Или плати.
Евстрат перепугался до смерти. «Это как же – тайно? – думал он, творя в душе молитву. – Будь что будет, а ночью на твой шабаш я не пойду». И не пошел.
Это была та самая ночь, когда встретились наконец трое наших друзей. Когда громоподобный крик: «Вина!» – потряс дом, Гаврила в полном одиночестве, проклиная человеческую леность и глупость, толок серу. Еще старый князь приучил Гаврилу моментально и беспрекословно подчиняться подобным приказам, и хотя камердинер был великим трезвенником и весьма скорбел о склонности молодого барина к горячительным напиткам, он сразу оставил ступку и бегом направился в подвал. Укладывая в корзину пузатые бутылки, он услышал под лестницей мерзкий храп кучера Евстрата.
– Живо наверх! – скомандовал Гаврила, растолкав несчастного кучера. – Затопи печь да колбы вымой!
– Тайно не пойду! – взвыл Евстрат. На лице его был написан такой ужас, словно он во сне видел кошмары, и Гаврила воплощал самый ужасный из них.
– Ну погоди, бездельник! Ужо с Никитой Григорьевичем сейчас потолкую. Ты у меня будешь работать!
Трое друзей встретили камердинера с восторгом.
– Гаврила, выпей с нами! За удачу, гардемарины!
Гаврила горестно вздохнул и пригубил вино.
– Здесь такое дело… Евстрат, парнишка молодой, помощник кучера… изъявляет пристрастие…
– О, Гаврила, только не сейчас, – взмолился Никита.
Камердинер прошел в свои апартаменты, растопил печь, перемыл посуду и опять принялся толочь серу, но образ безмятежно дрыхнувшего кучера стоял перед глазами как жестокая насмешка, как напоминание о зря упущенных деньгах, и Гаврила опять пошел в столовую комнату.
Там было шумно. Он приоткрыл дверь, прислушался.
– Для меня ясно одно, – услышал он голос Белова. – Лестоку эти бумаги отдавать нельзя. Если бы я мог спросить совета Анастасии, она бы сказала – сожги, порви, утопи в реке, только не отдавай их Лестоку.
– Да я про Лестока сказал только в том смысле, чтоб он от тебя отвязался, – попробовал оправдаться Алеша. – А бумаги теперь… так, пыль. Анне Гавриловне они уже не помогут. Понимаешь?
– Он все отлично понимает, – вставил Никита, – я хочу добавить… Жители древних Афин говорили…
– К черту Афины!
Сказать, что Белов был озадачен, изумлен, восхищен, будет мало. Он закрыл лицо руками и начал раскачиваться на стуле, издавая при этом звуки, одинаково похожие на рыдания и гомерический смех. Наконец возможность излагать членораздельно свои мысли вернулась к нему:
– Я скудоумная скотина! Я безмозглый осел! Черт меня подери совсем! Я же боялся говорить об этом с вами. Этот город убил во мне человека. Меня здесь запугали… Негодяи!
– Что будем делать, гардемарины? – деловито осведомился Никита. – Впрочем, я сам знаю. Гаври-и-ла, ви-ина! – закричал он громовым голосом. – У нас задачка сошлась с ответом!
8
Чтобы правильно изложить дальнейшие события, необходимо сказать несколько слов о других героях нашей правдивой повести, людей, может, и второстепенных по малости своей, но не второстепенных по той роли, которую они сыграли в этих событиях.
Отношения дворецкого Луки и барского камердинера Гаврилы не сложились, более того, они приняли даже враждебный характер.
Еще при разгрузке прибывшей из Москвы кареты Луку поразило обилие багажа, принадлежащего лично камердинеру. Он тут же попытался образумить Гаврилу, внушая ему, что собственного у него ничего быть не может, разве что душа, и то это вопрос спорный, понеже душа принадлежит Богу, а все остальное – барское, не твое, но камердинер речам этим не внял, продолжая ретиво командовать разгрузкой ящиков, чемоданов и сундуков.
И уж совсем ранила сердце Луки покладистость барина, и даже, страшно сказать, некая его зависимость от камердинера.
Гаврила по приезде осмотрел дом и прокричал загадочные слова: «Где ж мне работать-то? Дом весь захламлен. Мне бы пару горниц, а лучше три. Или терцум нон датур?[25 - Третьего не дано (лат.).] А, Никита Григорьевич?» На что тот рассмеялся и ответил загадочно: «Будет тебе „терцум“», – и выделил для Гаврилы три просторные горницы в правом крыле дома, переселив обретающуюся там дворню во флигель.
В освобожденном помещении разместили столы, поставцы, стеклянную, медную, порцелиновую, чудных фасонов посуду, а в самой большой горнице каменщики за три дня сложили невиданных размеров печь, совершенно изуродовав потолок устройством огромной, на голландский манер вытяжки.
От своих непосредственных обязанностей, как то: умыть, одеть и причесать барина – Гаврила явно отлынивал, а Никита Григорьевич, ему потворствуя, ухаживал за собой собственноручно.
Лука послал было к барину, чтоб обихаживал его, высоченного, представительного, правда умом тугого, лакея Степана, но Никита Григорьевич Степана прогнал, а дворецкого отечески потрепал по плечу и сказал со смехом: «Я с Гаврилой-то с трудом справляюсь, а ты мне еще Степана шлешь на мою голову».
Гаврила меж тем совсем распоясался. Запалил в этакую жару новую печь, навонял мерзко на весь дом да еще стал без всякой видной нужды приставать к барину с вопросами, тыча черным, словно пороховым, пальцем в книгу. Никита Григорьевич, хоть и раскричится без удержу, но все камердинеру растолкует, а то и заглянет зачем-то в «Гавриловы апартаменты», как стала называть этот приют чернокнижья дворня.
Старый дворецкий решил костьми лечь, но привести окаянного бездельника в божеский вид. Уж если он с самим барином вольничает, то о прочих и говорить нечего. Никакого почтения к возрасту, к положению, встретит дворецкого в коридоре, кхекнет высокомерно: «Ну и порядки у вас, Лука Аверьянович!»
Лука держал себя степенно, в грубые пререкания с Гаврилой не вступал, но однажды не выдержал: «Ах ты, петух нещипаный! Как это ты со мной разговариваешь? И какие такие порядки тебе, порченому камердинеру, могут у нас не нравиться?»
Так начался этот разговор, который смело можно назвать открытым объявлением войны. Гаврила приосанился и, явно чувствуя себя выше низкорослого Луки не только в прямом, но и в переносном смысле слова, назидательно произнес:
– Рукоприкладствуете вы, Лука Аверьянович, без меры. Скажите на милость, за что третьего дня кучера Евстрата секли? Уж какую такую провинность он совершил, что ему надо было всю задницу розгами исчертить? Я на эту задницу флакон бальзамного масла извел. А платить кто будет? Никита Григорьевич? Масло-то денег стоит.
Лука посмотрел на Гаврилу как на совершенно помешанного человека, хотел ответить, но слов не нашел.
– Я на вашу дворню, Лука Аверьянович, половину компонентов истратил! – продолжал Гаврила, словно не замечая негодования дворецкого. – У Феньки синяк под глазом – примочки делай! Глафира себе на кухне бараньим супом ноги обварила. Хорошо на ней две холщовые юбки были надеты, а то бы до костей мясо спалила. И я знаю, почему она сожглась. Потому что вы в той поре на кухне глотку рвали, а Глафира боится вас, как сатану.
– Гаврила, – выговорил наконец смятенный Лука, – да что ты такое говоришь? Где твой стыд? Да если бы мать твоя, покойница, или отец твой, царство ему небесное, услыхали твои гнусности, то из гроба бы встали, не посмотрели, что тебе, индюку глупому, четвертый десяток, а схватили бы за вихры…
Но Гаврила не дал дорисовать страшную картину расправы пробудившихся от вечного сна родителей над своим чадом.
– Полно языком-то молоть! Я так понимаю – за компоненты, траченные мной на битую дворню, вам и платить, Лука Аверьянович, потому что вами «ману проприа»[26 - Собственноручно (лат.).]. А не будете платить – пожалуюсь Никите Григорьевичу. Он с вас за каждый синяк и за каждую поротую задницу подороже возьмет, так и знайте!
Разум Луки помутился от гнева, но не настолько, чтобы он решил раскошелиться, а только пламень разгорелся в душе: «Сокрушу негодника! В порошок сотру!»
А Гаврила, наивный человек, даже не понял, что ему была объявлена открытая война, не до того ему было. Он жил как в угаре. Натренированным чутьем опытного предпринимателя он сразу уловил в Петербурге дух наживы. Дух этот словно витал в воздухе.
В Москве, патриархальной, сонной, ленивой, большой спрос был на ладан. И хотя приготовление ладана было делом доходным – на Боге человек не экономит, – Гаврила чувствовал себя профессионально уязвленным – компоненты не те… подделка. Дерево босвеллия, из чьей коры добывают ароматную смолу, не растет в подмосковных садах. Ладан приходилось из таких компонентов стряпать, что вслух не скажешь.
А город Святого Петра – чистый Вавилон! Тут пудру для париков можно не по щепотке продавать, а пудами, в мешки грузить. Румяны расходятся с такой быстротой, словно не ланиты ими раскрашивать, а церковные купола. Только работай! А рук не хватает. Все один, все сам. А спать когда?
Дураку ясно, что необходим помощник, и изворотливые мозги Гаврилы измыслили смелый план. Как только ягодицы кучера Евстрата стали пригодными для сидения на них и обладатель оных перестал поминутно охать, Гаврила заманил его к себе в горницу.
– Платить тебе за бальзамное масло нечем. Так? А платить должно.
– Как же, а? Как же? – заныл Евстрат, кланяясь камердинеру в пояс, словно барину.
Гаврила деловито защелкал на счетах и через минуту сказал, что «подвел черту» и теперь Евстрат в погашение долга будет помогать ему, Гавриле, в составлении лекарств и всего прочего, в чем нужда будет.
– Сударь, кто ж мне позволит? Меня Лука Аверьянович не отпустит! Я совсем другое должен делать!
В продолжение всего монолога, выдержанного на одной истошной, плаксивой ноте, Евстрат выразительно держал себя за место, подверженное недавней экзекуции. Гаврила с трудом оторвал от этого места правую руку Евстрата, дабы скрепить договор рукопожатием, и сказал сурово:
– Работать будем тайно. По ночам. Сегодня и приходи. Или плати.
Евстрат перепугался до смерти. «Это как же – тайно? – думал он, творя в душе молитву. – Будь что будет, а ночью на твой шабаш я не пойду». И не пошел.
Это была та самая ночь, когда встретились наконец трое наших друзей. Когда громоподобный крик: «Вина!» – потряс дом, Гаврила в полном одиночестве, проклиная человеческую леность и глупость, толок серу. Еще старый князь приучил Гаврилу моментально и беспрекословно подчиняться подобным приказам, и хотя камердинер был великим трезвенником и весьма скорбел о склонности молодого барина к горячительным напиткам, он сразу оставил ступку и бегом направился в подвал. Укладывая в корзину пузатые бутылки, он услышал под лестницей мерзкий храп кучера Евстрата.
– Живо наверх! – скомандовал Гаврила, растолкав несчастного кучера. – Затопи печь да колбы вымой!
– Тайно не пойду! – взвыл Евстрат. На лице его был написан такой ужас, словно он во сне видел кошмары, и Гаврила воплощал самый ужасный из них.
– Ну погоди, бездельник! Ужо с Никитой Григорьевичем сейчас потолкую. Ты у меня будешь работать!
Трое друзей встретили камердинера с восторгом.
– Гаврила, выпей с нами! За удачу, гардемарины!
Гаврила горестно вздохнул и пригубил вино.
– Здесь такое дело… Евстрат, парнишка молодой, помощник кучера… изъявляет пристрастие…
– О, Гаврила, только не сейчас, – взмолился Никита.
Камердинер прошел в свои апартаменты, растопил печь, перемыл посуду и опять принялся толочь серу, но образ безмятежно дрыхнувшего кучера стоял перед глазами как жестокая насмешка, как напоминание о зря упущенных деньгах, и Гаврила опять пошел в столовую комнату.
Там было шумно. Он приоткрыл дверь, прислушался.
– Для меня ясно одно, – услышал он голос Белова. – Лестоку эти бумаги отдавать нельзя. Если бы я мог спросить совета Анастасии, она бы сказала – сожги, порви, утопи в реке, только не отдавай их Лестоку.
– Да я про Лестока сказал только в том смысле, чтоб он от тебя отвязался, – попробовал оправдаться Алеша. – А бумаги теперь… так, пыль. Анне Гавриловне они уже не помогут. Понимаешь?
– Он все отлично понимает, – вставил Никита, – я хочу добавить… Жители древних Афин говорили…
– К черту Афины!