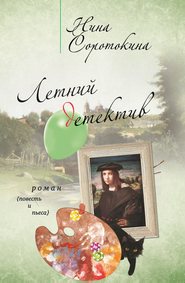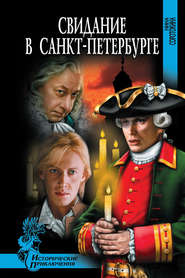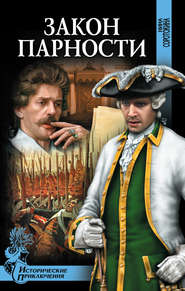По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Гардемарины, вперед!
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Неделя пролетела, как миг. Мать сама напомнила Алеше о необходимом отъезде в навигацкую школу. «Алеша, а я? Как же мне жить без тебя?» – спросила Софья мертвым голосом. «Ждать», – только и нашел он, что ответить. «Ты поосторожнее там в Петербурге, – шепнула Софья на прощанье, – поосторожнее, милый…»
Никита внимательно и грустно смотрел на Алешу.
– По уставу я могу жениться только через четыре года, – сказал тот тихо.
– Ну, последнее время ты только и делаешь, что нарушаешь устав!
– Гаврила, кофей в библиотеку! – раздался за дверью строгий голос Луки.
Гаврила в белоснежном парике, малиновых бархатных панталонах и кармазиновом, в нескольких местах прожженном камзоле вошел в комнату, неся на подносе изящные, как цветки, чашки. При виде Алексея он улыбнулся и степенно сказал:
– С приездом, Алексей Иванович.
– Экий ты важный стал, Гаврила. И какой красавец! – не удержался от восклицания Алексей, на что камердинер насупился и закричал с неожиданной горячностью:
– На что мне эта красота? Я проклятый парик устал снимать-надевать. Руки у меня, сами знаете, не всегда обретаются в безусловной чистоте… соприкасаюсь с различными компонентами! У некоторых бездельников здесь всегда чистые руки! Лука орет: «К барину без парика входить все одно что голому!» – и ругается непотребно. Лука этот… – Он задохнулся от невозможности подыскать нужное слово. – Как в Москве жили, а? Сами себе хозяева…
– Побойся Бога, Гаврила, – укоризненно сказал Никита. – Ты ли не живешь здесь как хочешь?
Гаврила только рукой махнул и пошел прочь. В этот момент дверь отворилась, и в комнату ворвался Александр. Алеша вскочил со стула. Друзья обнялись.
– Сашка, как я рад тебя видеть! И какой ты стал франт! Не отстаешь от Гаврилы.
– При чем здесь Гаврила? – обиделся Белов, но видно было, что ему приятно восхищение Алексея. Он сел на краешек стула, непринужденно отставив ногу в модном, с узорной пряжкой башмаке. – Кончились, бродяга, твои скитания? Никита рассказал мне о твоих приключениях.
– Не обо всех, – быстро уточнил Никита.
– Это я понял.
– Сэры! Неужели опять вместе? – Возглас Никиты прозвучал как боевой клич, как призыв к подвигам, и Саша испытал величайшее облегчение оттого, что Алешка наконец приехал.
Уже три дня прошло, как встретились они с Никитой у здания Двенадцати коллегий, а так толком и не поговорили. Беседы их были рваными, полными каких-то недомолвок, словно играли в детскую игру, «холодно» – говори о чем хочешь, вспоминай, рассказывай, и вдруг «горячо, совсем горячо» – и оба словно понимают, что об этом пока не надо, нельзя и начинают говорить о другом. С появлением Алексея игра в «холодно – горячо» потеряла смысл. Александр вдруг понял, что присутствие молчаливого, в чем-то наивного и очень терпимого в своей доброте Алеши требовало обязательной искренности, понял, что только в его присутствии они могли с Никитой спорить, острить и откровенничать.
– Знаешь, Сашка, я такой дурак! Как я этого Котова боялся, стыдно вспомнить. – Алеша за ужином перепил вина, и теперь щеки его пылали, он на все радостно и беззаботно смеялся.
– Правильно делал, что боялся, – нахмурился Саша.
– Но теперь-то все позади. Котов сгинул. Никита сказал, что он в отставку подал.
– Так-то оно так… – начал Саша и осекся, решив до времени не говорить друзьям про странный интерес Лядащева к берейторскому обучению лошадей. «Что Алешку зря пугать? – подумал он. – Вначале сам все разузнаю».
– Я вчера письмо из Москвы получил, – сказал Никита. – Фома Лукич пишет, что занятия в навигацкой школе раньше сентября не начнут. Пират в отставку подал. Ищут нового преподавателя. До нас там и дела никому нет.
– Эта российская беспорядочность… – проворчал Саша. – За побег по закону нас должны смертию казнить, за опоздание – определить в каторжные работы. А про нас просто забыли.
– Простим это России, – усмехнулся Никита. – Пусть это будет самым большим ее недостатком!
Алеша восторженно захохотал:
– У меня теперь усы растут. И никто не сможет заставить меня играть в театре!
– Некому заставлять-то, – глухо сказал Саша, и сразу стало тихо…
Никита нахмурился, отошел к окну. Улыбка сползла с лица Алексея, он замер с полуоткрытым ртом: «Ну… говорите же!»
Из собора Успенья Богоматери донесся стройный хор, шла вечерняя служба. Одинокое, заштрихованное решеткой окно теплилось неярким розовым светом, и казалось, что решетка слабо колеблется, вибрирует, как натянутые струны. Вслушиваясь в далекие голоса, Никита рассказал про казнь осужденных.
– Господи! Что ж так свирепо! – Алеша с трудом дослушал рассказ до конца. – Что они такое сделали? Не помог я Анне Гавриловне…
– Не кори себя, Алешка. Даже если б мы успели передать бумаги по назначению, это вряд ли что-нибудь изменило бы.
«Бумаги? Они-то про какие бумаги толкуют? Весь мир помешался на самых разнообразных бумагах!» Эта чужая тайна, в которую Никита сознательно или по забывчивости не посвятил его, больно задела Сашу, и неожиданно для себя, копируя интонации Лядащева, он назидательно произнес:
– Они враги государства. Может, на жизнь государыни они и не покушались, да болтали лишнее.
– А хоть бы и покушались! – запальчиво откликнулся Никита. – Знаешь, что такое остракизм? Не кажется ли тебе разумным заменить кнут глиняным черепком? Государство от этого только выиграет.
– Я понимаю, Саш, что они заговорщики, – покладисто сказал Алеша. – Елизавета – дочь великого Петра… Но страшно, когда кнутом бьют, и особенно женщин. Ведь повернись судьба, и тот, кого сегодня бьют, завтра сможет наказать палача. А женщины совсем беспомощны. Я казнь никогда не смотрел и смотреть не пойду.
Саша разозлился: «Рассуждают, как дети. А пора бы повзрослеть! Этому очень способствуют беседы с Лестоком в ночное время. С ним хорошо говорить про глиняные черепки. Он поймет…» И, уже не пытаясь скрыть раздражение и обиду, он процедил сквозь зубы:
– Не пойдешь, значит, на казнь? А тебе ее и так покажут. Забыл, что Шорохов рассказывал? Протащат матроса под килем да бросят у мачты – подыхай! А он, сердечный, лежит и ждет, когда же судьба повернется, чтобы он мог наказать «обидчика»!
– А ты злой стал, Белов, – нахмурился Никита.
– А я никогда и не был добрым.
– Моих матросов никогда не будут килевать, – страстно сказал Алеша. – Смотри и ты, чтобы гвардейцы берегли душу и тело людей.
– Пропади она пропадом, эта гвардия!
– Вот как! Ты уже не хочешь в гвардию? – Никита изобразил на своем лице величайшее изумление. – Как же так? Гвардия – вершина твоих мечтаний. «Garde» – древнее скандинавское слово, сиречь «стеречь». Еще в древних Афинах существовало такое понятие, как «гвардия». Правда, тогда гвардейцы назывались скромнее – «телохранители». Полководец Ификрат набирал их из пельтастов-наемников. Маленький щит, кольчуга на груди и уменье вести бой в рукопашных схватках…
– Прекрати! Ты злой стал, Оленев! – Саша понимал, что разговор пошел совсем «не туда», но уже не мог остановиться. – Что ты паясничаешь? Милость государыни Бестужевой жизнь спасла. Три года назад ее лишили бы не только языка, но и головы. Это надо помнить и не говорить ничего лишнего!
– Уж не обидно ли тебе, что Бестужеву били вполсилы? Надо было ей, изменнице, хребет переломать! – крикнул Никита.
– Почему вполсилы? – Алексей схватил Никиту за руку, пытаясь привлечь к себе внимание и предотвратить неминуемую ссору.
– Да крест Анна Гавриловна палачу дала, – вспомнив подробности казни, Никита сразу остыл. – Крест весь в алмазах. Считай, Бестужева палачу целое состояние подарила.
– Откуда у нее в крепости крест оказался? Неужели не отняли?
– Это я ей крест передал, – сказал вдруг Саша. Он понимал, что вслед за этими словами должен будет рассказать друзьям обо всех событиях последних недель. Какой-то убогий, плаксивый голосишко внутри него тянул предостерегающе: «Молчи, опасно, ты подписку давал…», ему вторил другой, менее противный, но фальшивый: «Зачем им твои неприятности? У них своих хватает!» Но Саша прикрикнул на эти глупые, суетливые голоса: «Заткнитесь!»
Друзья слушали его не перебивая, только когда он стал рассказывать про встречу с Анастасией, Алеша заерзал на стуле: «Быть не может…» – и замахал руками: «Дальше, дальше… я тебе потом такое расскажу!»
– Лестоку нужны какие-то бумаги… или письма. Они с Бергером их по-разному называют. Лесток меня за горло держит… – кончил Саша свой рассказ и замолк, ссутулившись, исповедь совсем его измотала.
Никита внимательно и грустно смотрел на Алешу.
– По уставу я могу жениться только через четыре года, – сказал тот тихо.
– Ну, последнее время ты только и делаешь, что нарушаешь устав!
– Гаврила, кофей в библиотеку! – раздался за дверью строгий голос Луки.
Гаврила в белоснежном парике, малиновых бархатных панталонах и кармазиновом, в нескольких местах прожженном камзоле вошел в комнату, неся на подносе изящные, как цветки, чашки. При виде Алексея он улыбнулся и степенно сказал:
– С приездом, Алексей Иванович.
– Экий ты важный стал, Гаврила. И какой красавец! – не удержался от восклицания Алексей, на что камердинер насупился и закричал с неожиданной горячностью:
– На что мне эта красота? Я проклятый парик устал снимать-надевать. Руки у меня, сами знаете, не всегда обретаются в безусловной чистоте… соприкасаюсь с различными компонентами! У некоторых бездельников здесь всегда чистые руки! Лука орет: «К барину без парика входить все одно что голому!» – и ругается непотребно. Лука этот… – Он задохнулся от невозможности подыскать нужное слово. – Как в Москве жили, а? Сами себе хозяева…
– Побойся Бога, Гаврила, – укоризненно сказал Никита. – Ты ли не живешь здесь как хочешь?
Гаврила только рукой махнул и пошел прочь. В этот момент дверь отворилась, и в комнату ворвался Александр. Алеша вскочил со стула. Друзья обнялись.
– Сашка, как я рад тебя видеть! И какой ты стал франт! Не отстаешь от Гаврилы.
– При чем здесь Гаврила? – обиделся Белов, но видно было, что ему приятно восхищение Алексея. Он сел на краешек стула, непринужденно отставив ногу в модном, с узорной пряжкой башмаке. – Кончились, бродяга, твои скитания? Никита рассказал мне о твоих приключениях.
– Не обо всех, – быстро уточнил Никита.
– Это я понял.
– Сэры! Неужели опять вместе? – Возглас Никиты прозвучал как боевой клич, как призыв к подвигам, и Саша испытал величайшее облегчение оттого, что Алешка наконец приехал.
Уже три дня прошло, как встретились они с Никитой у здания Двенадцати коллегий, а так толком и не поговорили. Беседы их были рваными, полными каких-то недомолвок, словно играли в детскую игру, «холодно» – говори о чем хочешь, вспоминай, рассказывай, и вдруг «горячо, совсем горячо» – и оба словно понимают, что об этом пока не надо, нельзя и начинают говорить о другом. С появлением Алексея игра в «холодно – горячо» потеряла смысл. Александр вдруг понял, что присутствие молчаливого, в чем-то наивного и очень терпимого в своей доброте Алеши требовало обязательной искренности, понял, что только в его присутствии они могли с Никитой спорить, острить и откровенничать.
– Знаешь, Сашка, я такой дурак! Как я этого Котова боялся, стыдно вспомнить. – Алеша за ужином перепил вина, и теперь щеки его пылали, он на все радостно и беззаботно смеялся.
– Правильно делал, что боялся, – нахмурился Саша.
– Но теперь-то все позади. Котов сгинул. Никита сказал, что он в отставку подал.
– Так-то оно так… – начал Саша и осекся, решив до времени не говорить друзьям про странный интерес Лядащева к берейторскому обучению лошадей. «Что Алешку зря пугать? – подумал он. – Вначале сам все разузнаю».
– Я вчера письмо из Москвы получил, – сказал Никита. – Фома Лукич пишет, что занятия в навигацкой школе раньше сентября не начнут. Пират в отставку подал. Ищут нового преподавателя. До нас там и дела никому нет.
– Эта российская беспорядочность… – проворчал Саша. – За побег по закону нас должны смертию казнить, за опоздание – определить в каторжные работы. А про нас просто забыли.
– Простим это России, – усмехнулся Никита. – Пусть это будет самым большим ее недостатком!
Алеша восторженно захохотал:
– У меня теперь усы растут. И никто не сможет заставить меня играть в театре!
– Некому заставлять-то, – глухо сказал Саша, и сразу стало тихо…
Никита нахмурился, отошел к окну. Улыбка сползла с лица Алексея, он замер с полуоткрытым ртом: «Ну… говорите же!»
Из собора Успенья Богоматери донесся стройный хор, шла вечерняя служба. Одинокое, заштрихованное решеткой окно теплилось неярким розовым светом, и казалось, что решетка слабо колеблется, вибрирует, как натянутые струны. Вслушиваясь в далекие голоса, Никита рассказал про казнь осужденных.
– Господи! Что ж так свирепо! – Алеша с трудом дослушал рассказ до конца. – Что они такое сделали? Не помог я Анне Гавриловне…
– Не кори себя, Алешка. Даже если б мы успели передать бумаги по назначению, это вряд ли что-нибудь изменило бы.
«Бумаги? Они-то про какие бумаги толкуют? Весь мир помешался на самых разнообразных бумагах!» Эта чужая тайна, в которую Никита сознательно или по забывчивости не посвятил его, больно задела Сашу, и неожиданно для себя, копируя интонации Лядащева, он назидательно произнес:
– Они враги государства. Может, на жизнь государыни они и не покушались, да болтали лишнее.
– А хоть бы и покушались! – запальчиво откликнулся Никита. – Знаешь, что такое остракизм? Не кажется ли тебе разумным заменить кнут глиняным черепком? Государство от этого только выиграет.
– Я понимаю, Саш, что они заговорщики, – покладисто сказал Алеша. – Елизавета – дочь великого Петра… Но страшно, когда кнутом бьют, и особенно женщин. Ведь повернись судьба, и тот, кого сегодня бьют, завтра сможет наказать палача. А женщины совсем беспомощны. Я казнь никогда не смотрел и смотреть не пойду.
Саша разозлился: «Рассуждают, как дети. А пора бы повзрослеть! Этому очень способствуют беседы с Лестоком в ночное время. С ним хорошо говорить про глиняные черепки. Он поймет…» И, уже не пытаясь скрыть раздражение и обиду, он процедил сквозь зубы:
– Не пойдешь, значит, на казнь? А тебе ее и так покажут. Забыл, что Шорохов рассказывал? Протащат матроса под килем да бросят у мачты – подыхай! А он, сердечный, лежит и ждет, когда же судьба повернется, чтобы он мог наказать «обидчика»!
– А ты злой стал, Белов, – нахмурился Никита.
– А я никогда и не был добрым.
– Моих матросов никогда не будут килевать, – страстно сказал Алеша. – Смотри и ты, чтобы гвардейцы берегли душу и тело людей.
– Пропади она пропадом, эта гвардия!
– Вот как! Ты уже не хочешь в гвардию? – Никита изобразил на своем лице величайшее изумление. – Как же так? Гвардия – вершина твоих мечтаний. «Garde» – древнее скандинавское слово, сиречь «стеречь». Еще в древних Афинах существовало такое понятие, как «гвардия». Правда, тогда гвардейцы назывались скромнее – «телохранители». Полководец Ификрат набирал их из пельтастов-наемников. Маленький щит, кольчуга на груди и уменье вести бой в рукопашных схватках…
– Прекрати! Ты злой стал, Оленев! – Саша понимал, что разговор пошел совсем «не туда», но уже не мог остановиться. – Что ты паясничаешь? Милость государыни Бестужевой жизнь спасла. Три года назад ее лишили бы не только языка, но и головы. Это надо помнить и не говорить ничего лишнего!
– Уж не обидно ли тебе, что Бестужеву били вполсилы? Надо было ей, изменнице, хребет переломать! – крикнул Никита.
– Почему вполсилы? – Алексей схватил Никиту за руку, пытаясь привлечь к себе внимание и предотвратить неминуемую ссору.
– Да крест Анна Гавриловна палачу дала, – вспомнив подробности казни, Никита сразу остыл. – Крест весь в алмазах. Считай, Бестужева палачу целое состояние подарила.
– Откуда у нее в крепости крест оказался? Неужели не отняли?
– Это я ей крест передал, – сказал вдруг Саша. Он понимал, что вслед за этими словами должен будет рассказать друзьям обо всех событиях последних недель. Какой-то убогий, плаксивый голосишко внутри него тянул предостерегающе: «Молчи, опасно, ты подписку давал…», ему вторил другой, менее противный, но фальшивый: «Зачем им твои неприятности? У них своих хватает!» Но Саша прикрикнул на эти глупые, суетливые голоса: «Заткнитесь!»
Друзья слушали его не перебивая, только когда он стал рассказывать про встречу с Анастасией, Алеша заерзал на стуле: «Быть не может…» – и замахал руками: «Дальше, дальше… я тебе потом такое расскажу!»
– Лестоку нужны какие-то бумаги… или письма. Они с Бергером их по-разному называют. Лесток меня за горло держит… – кончил Саша свой рассказ и замолк, ссутулившись, исповедь совсем его измотала.