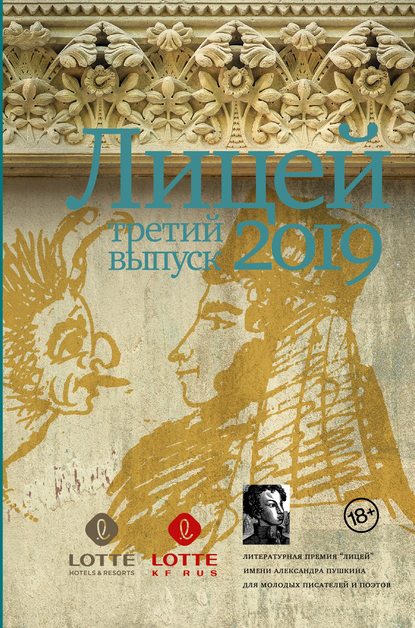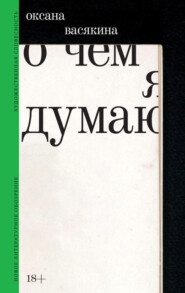По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Лицей 2019. Третий выпуск
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Как это “не хочу”, – неодобрительно заметил Серёга, призывая в свидетели сильно выпивших мужиков. – Либо ты, мля, с нами. Либо ты мудак.
– Сам ты мудак, – печально ответил Саша, получив от слесаря Серёги неожиданный удар в печень.
С тех пор Саша перестал быть шофёром и стал постижёром. Он прошёл платные курсы на парикмахера и теперь клеил бороды артистам местного драмтеатра. После спектакля артисты, как и слесаря, накачивали себя водкой. Но сценарий богемного “праздника” был значительно сложнее, если не сказать изощрённее. Сначала артисты много шутили, курили, делали друг другу комплименты. Затем рыхлые актрисы с повадками уличных женщин поставленными голосами издавали истошные вопли, указывая тем самым на кульминацию, и начинали раздеваться… Становилось темно от табачного дыма и разврата. А после, когда дым рассеивался, артисты плакали, обнимали друг друга и вспоминали то далёкое время, где всё ещё было возможно – и Гамлет, и князь Мышкин, и Нина Заречная…
– Александр, знаете, у вас такое загадочное лицо… вам нужно играть, – мурлыкал бархатным баритоном пожилой артист, дотрагиваясь до Сашиного колена.
– Мне грустно, – сказал Саша.
– Вы ещё так молоды. Отчего же вам грустно? – сентиментально произнёс артист, подняв брови домиком.
– Я слишком много думаю.
– О чём же вы думаете, мой мальчик?
– Вы правда хотите знать?
– Да, конечно.
– О том, как жалок и одинок престарелый пидор в провинции. Мне бесконечно грустно…
Саша оставил работу постижёра, затворился в комнате и кропотливо работал над автопортретом. На его квадратной голове серебрились взъерошенные волосы, путалась рыжая борода. Испорченной пластинкой за окном шипел дождь. Зеркало тускло отражало осенние сумерки, забредшие в комнату, и лицо пожилого мальчика со случайными мазками краски на щеке. Мальчик стыдливо глядел на себя в зеркало, как на чужого, и водил кистью по холсту. Робко постучав в дверь, в комнату вошла мама и сказала:
– Саша, у тебя слабые нервы и безотчётная тревога с самого детства. Ты никогда не верил в Деда Мороза. Ты не любил картинки художника Билибина в старой книжке со сказками, помнишь? А ещё боялся смотреть ночью в окно… Твой папа умер.
– Мама, от чего он умер? – спросил Саша, осторожно проводя красную линию.
– Папа умер от тоски, сынок.
– А как же его куры? – говорил мальчик, не отрываясь от холста.
– А куры походили-походили, поклевали-поклевали и тоже сдохли, сынок.
– Мама, мне очень грустно. Я где-то читал, что Бог умер. Жизнь несправедлива, мама…
Как-то раз Саша привёл в дом женщину. Он познакомился с ней на улице, когда пил пиво на лавочке. Она попросила купить ей пива, потому что хотела пить, и ещё тонких ароматических сигарет. Саша сказал ей: “Ты пьёшь пиво и не можешь насытиться, а я знаю, где находятся источники воды живой”. И повёл её показывать свои картины.
– Узнаёшь меня? – спросил Саша у женщины.
– По-моему, ты спятил, – ответила женщина, всматриваясь в тёмное пятно с красной линией посередине. – Давай лучше пить пиво.
– Нет, женщина, ты не права, – возразил Саша. – Тут весь я. А эта красная линия – мой папа. Хочешь, я и тебя нарисую?
Это был единственный случай, когда Саша мог стать мужчиной. Но не стал. Ему это было неинтересно. Саша быстро старел. Он постарел так, что уже не мог передвигаться без костыля в свои двадцать с небольшим лет. Старики на лавочке у подъезда принимали Сашу за своего и спрашивали, получил ли он пенсию. Рисовать Саша бросил, зрение упало. А то главное, что хотел изобразить, алело тревожной линией на его автопортрете. Всё остальное он и так прекрасно понимал, без живописи. Он знал, что скоро умрёт.
Однажды Саша увидел по телевизору передачу, где говорилось, что некоторые животные уходят умирать на пустыри, в глухие чащи, подальше от людей. Он подумал: “Чем же я хуже собаки? Поеду умирать в отцову деревню”.
И поехал. И умер.
Сарабанда
В этом районе нужно было не ходить, а петлять, как петляют лисы, унося свою шкуру от охотников, путая следы. Район был окраиной города и назывался Шлакоблочный. В серых двухэтажных домах, сделанных из заводского шлака, жили простые русские люди: бывшие зэки, гении и рабочие мёртвого завода, ставшего когда-то первопричиной всей здешней жизни. Завод умер, но люди остались жить. Самой судьбой им было предначертано – рождаться в шлаке, жить в нём, засыпать им дырявые улицы, хранить его под сердцем и выплёскивать в самые непредсказуемые минуты на тех, кто способен на улыбку. Мы с моим приятелем по прозвищу Лав знали об этом не понаслышке, по-звериному огибая охотничьи ловушки, приманки в виде кажущихся безлюдными тёмных переулков. Острым чутьём не раз битых неформалов мы выбирали безопасные тропы.
Мы подвергали себя опасности не просто так. Мы шли, чтобы родить новые звуки, чтобы на пустырях с горами шлака проросла музыка жизни и люди бы радостно улыбнулись, обнажив остатки чёрных зубов. Ведь мы были музыкантами. А может, и просто шли к будущему инженеру, а тогда философствующему панку Зобу – от нечего делать пиная кедами осенние листья… Уж и не помню.
До двери философа мы добрались живыми, но дома его не оказалось. В упор на нас смотрел мутный глазок, ехидно подмигивая, словно бы давая понять, что хозяин может находиться где угодно – отбиваться в подворотне от гопников, лежать на территории детского сада в луже собственной блевотины, штудировать Ницше на пустыре – только не дома.
– Чё делать будем? – спросил длинноволосый Лав, похожий на тощего индейца, сутулясь от тяжести висевшего за его спиной баяна.
Инструмент был казённый, училищный. Он был необходим для создания народного колорита в нашей музыке, а точнее – в “гонах”. Гон – это особый музыкальный жанр, возникший вследствие реакции юной крови (с примесью палёного спирта) на голую реальность.
– Не знаю, – хмуро ответил я, доставая помятую пачку “Примы”.
Мы спустились на лестничную площадку у окна и закурили. В окошке виднелись покорёженные песочницы-мухоморы, в которых вместо песка лежал шлак, но играющих детей я там никогда не видел. Дети в этом районе как-то сразу мутировали в малолетних преступников и, сидя на корточках в широких кепках-хулиганках, чем-то напоминали грибную поляну.
Зоб хоть и называл себя панком, обладал исключительным эстетическим вкусом и гостеприимством. Посещение его однокомнатной квартиры было для меня всегда событием. Зоб приучил меня к хорошему крепкому чаю, который следовало пить без сахара, не спеша, из белых чайных чашек, в процессе сократического диалога. При этом питался он обычно серой лапшой (хранившейся в капроновом мешке в углу кухни), обжаренной с луком в большой закопчённой сковороде. От него же я однажды унёс увесистый том “Братьев Карамазовых” Достоевского и кассету с “Русским альбомом” раннего Гребенщикова.
– Зоб, где тебя носит?.. – задался я риторическим вопросом, пуская дым в стену.
– Тады обратно пошли, – спокойно сказал индеец.
Баян в твёрдом чехле стоял тут же, на бетоне, и молчал. Я позвенел оставшейся мелочью в кармане и отозвался:
– Нет, так просто мы не уйдём. Предлагаю купить портвейна. Тут хватит.
Я выгреб мелочь. Лав хитро посмотрел на неё опытным индейским глазом, и на лице его засветилась детская улыбка. Он водрузил баян на хрупкие плечи, и мы отправились в магазин.
Чутьё нас не подвело. Мы обогнули детский сад, прокрались по заросшему коноплёй переулку, вышли на проезжую улицу (благоразумно спрятав волосы под рубахи) и, прикинувшись местными, развязно вошли в магазин. Прикинуться местными было непросто: на нас косились не только недавно отбывшие наказание граждане, но и густо накрашенные продавщицы – жёны или сёстры этих самых неулыбчивых граждан. Нас выдавало всё (чего мы за собой не могли заметить): раскованная походка, глаза (читавшие Чехова и Мандельштама), плавные движения рук (привыкших к гитарным грифам), увесистый баян за плечами Лава… “Человеческое, слишком человеческое!” – словно бы говорили нам исподлобья любопытствующие взгляды. Они были по-своему правы. Это их территория жизни, и поэтому нефиг тут ходить с баянами и чеховскими глазами.
– Батон хлеба и бутылку портвейна, пожалуйста.
Запрос был не понят. Толстая продавщица в грязном переднике смотрела на меня с явным недоверием. Я решил опустить слово “пожалуйста” и повторил просьбу:
– Мне хлеба и портвейна за шисят рублей.
– А ты мальчик или девочка? – с нездоровым любопытством спросила женщина, глядя мне прямо в глаза.
Пёструю феньку, вплетённую в волосы, так просто не спрячешь.
– Андрогин, – не выдержал я.
– Это имя, чё ли, такое?
– Фамилия.
– А-а, – протянула женщина без тени улыбки.
Взяв хлеб под мышку, я попросил Лава спрятать от греха бутылку портвейна в чехол. И теми же лисьими тропами мы благополучно вернулись в подъезд.