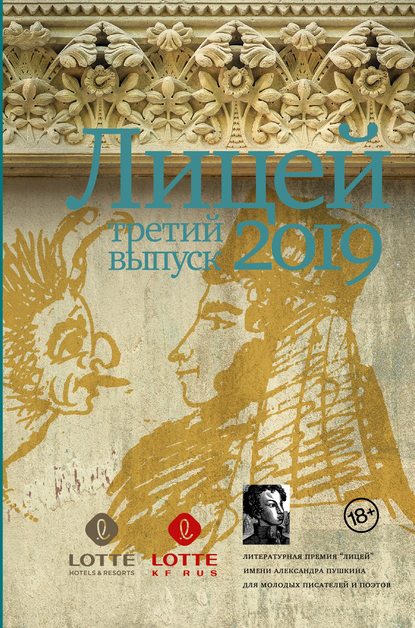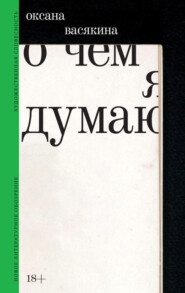По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Лицей 2019. Третий выпуск
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Это, это! – грубо засмеялась Любка. – Не дай замёрзнуть человеку, будь другом.
Я достал “гревшийся” в рюкзаке четок и протянул Любке.
– Ты чего, ёптить? – усмехнулась неопределённого возраста женщина. – Ты за кого меня принимаешь! Сначала сам накати. Погоди, я тебе конфетку дам на закусь.
Я выпил из горлышка едкой теплоты и закусил памятной ещё с детства “Ласточкой”. Любка тоже выпила и осипшим от водки голосом спросила, кивая на мой прилавок:
– Чё, не берут?
– Так, мало…
– А ты забей, тогда и брать начнут. Пробовала – помогает.
– Да мне и так всё равно, – искренне ответил я.
Потом Любка от нечего делать стала рассказывать, что живёт одна с маленьким сыном, что муж её был да сплыл и уехал куда-то на Север за счастьем. Что подруга заняла в прошлом месяце пятихатку и не отдаёт, что поскорей бы уже наступила весна и растаял постылый снег. Что не хватает денег на компьютер для сына, и поэтому она стоит здесь как чучело, украдкой ест конфеты, толстеет и ждёт вечера, чтобы “свернуться”, купить бутылку пива и уставшей, разбитой, одинокой пойти к бабке за сыном. Что если не пить на такой работе, то можно умереть раньше, чем от водки, и что она рассчитывает дотянуть до пятидесяти, чтобы дождаться внуков. Что в юности у неё был нормальный парень, а не как эти все, что она любила его, и они смотрели с крыши на звёзды, а потом его забрали в армию и убили на войне…
Любка рассказывала свою историю на одной ноте, не останавливаясь, не смущаясь, с интонацией застарелого упрёка. В том, что она была несчастна, виновато было всё, что двигалось или лежало, присыпанное снегом: сам не таявший снег, рваные деньги, сунутые покупателями, неверная подруга, серое, дымившее к вечеру село, где она когда-то родилась и, вероятно, умрёт здесь же, под бабкиным ковром, а не на побережье Красного моря.
Когда мы свернулись, Любка предложила пойти к ней, чтобы выпить чаю и в тепле дождаться Степана. Но я отказался, побоявшись чем-либо огорчить своего “начальника” в первый же день работы. Подъехав на ворчливом грузовике к назначенному месту, Степан с усмешкой принял от меня скудную прибыль и рассеянно, как сумасшедший осеннюю листву, сунул себе в карман.
12
Наконец произошло то, чего я внутренне побаивался и чего ждал, чтобы совершить окончательный эксперимент над собой. Я остался один в деревне.
Фёдор уехал в город мириться с женой и баловать по-детски говорливого сына, которого любил больше жизни. Сын, в отличие от родителей, был здоров. Он мог слышать многоголосую симфонию жизни, звучащую в его чутком сознании – майским дождём за окном, шелестом листьев, волшебными колокольчиками над кроваткой; мог беззаботно картавить этой музыке в такт, разбрасывать вещи и не думать о необходимости порядка, слабо мерцавшего в строгом и недобром “нельзя”.
Одному в избе было жутковато, подбиралась тоска, и я отправился в хижину Фёдора. Хотелось увидеть, почувствовать его жилище изнутри, догадаться по оставленным вещам, чем жил этот человек, о чём думал.
Дверь в избу Фёдора была не заперта, замка не было. Вместо него в замочные кольца была вставлена осиновая палка, выскользнувшая от первого же рывка.
В жилище царила мерзость запустения. Комната напоминала берлогу. На окнах вызревал иней, на столе громоздились банки, бутыли, грязные тарелки с яичной скорлупой. Вверху из матицы торчали два зловещих крюка, на которые в старину вешали детские люльки и уставшие от жизни тела. Я прошёлся по комнате и зачем-то заглянул в печь, обнаружив там вместе с золой и смердящими окурками горелые тетрадные листы.
– Вот так так, – подумал я вслух, заметив характерные столбцы, – да это стихи!
Мне и в голову не могло прийти, что Федя – глухонемой алкоголик и, в сущности, большой ребёнок – мог что-то писать, создавать из вещества жизни самое совершенное, на что способно человеческое слово, – поэзию. Я пошуршал останками и прочёл первое, что можно было более-менее разобрать:
в беспамятстве кашу едят в дремучем селе
компот, кутья, бидончик с извёсткой под стулом забыт
гроб сыреет во тьме, не то что забит
народ уж навеселе…
Читая, я вспомнил поминки, заботливую старушку, угрюмого Степана, жестоко обманутую Катю… Дальше было сложно что-либо прочесть из-за корявого почерка и прожжённых мест, но уцелело окончание:
…я усну под столом, только в погреб полезу едва ль
там светлее и суше, чем здесь между шкафом и печью
закипит самовар, чьи-то руки сорвут вуаль
и беззубый старик поперхнётся своею речью
Я стоял как вкопанный и не верил своим глазам: неужели это и впрямь сочинил Фёдор? Но корявый почерк был его.
Образ простака-Фёдора и эти строки про вуаль, от которых веяло сумерками Серебряного века, загадочный беззубый старик, погреб, в который зачем-то нужно было лезть – всё это никак не укладывалось в моей голове. Язык нащупывал, вспоминая, определение (которым не так давно я щеголял в университете), чтобы выразить теперешнее состояние: ког… когни-тив-ный дис-со-нанс, – тяжело всплывало где-то в потёмках памяти. Я увидел на столе зелёную бутыль со знакомой жидкостью и машинально сунул её в карман. Уходя, наступил на что-то мягкое и с изумлением обнаружил под подошвой змеевидную леску, запутанную безнадёжно. Я поднял леску, повертел её в руках, пытаясь распутать хоть один узел, плюнул, бросил леску под стол и вышел на воздух.
Всю дорогу до избы и после, придя домой, до самой ночи я повторял изречение Сократа. Один раз по-русски: “Я знаю, что ничего не знаю”. А другой – зачем-то по-латински: “Scio me nihil scire”. И как гармонично ложились эти древние слова на деревенскую тишину! Я забеспокоился о своём душевном здоровье, потому что, кроме всего прочего, мне хотелось, подобно Диогену, с фонарём или, в крайнем случае, с зажигалкой отправиться по деревне на поиски Человека. Выпито и выкурено к этому времени было немало…
И действительно, пьяно размышлял я, лёжа на кровати, что я знаю об этих людях? Я сужу о человеке близоруко и небрежно, полагаясь на первые впечатления… Я встречаю по одёжке и провожаю по одёжке, с той лишь разницей, что во втором случае я одеваю человека сам из того, что есть в скудном гардеробе моего ума для ближнего. Воображаю себе ярмарочных кукол и думаю, что хорошо разбираюсь в людях. Добрая баба Маша, скрытный романтик Степан, гордая Катя, одинокая и стареющая Любка… Что значат эти слова применительно к сокровенным безднам их жизней? Ничего, – заключил я, гася очередной окурок. Слова фальшивят, двоятся грязными созвучьями в моём сознании – и больше ничего.
Не глядя, я сунул руку под кровать, где хранились теперь мои книги, взял первую попавшуюся, открыл на случайной странице и прочёл: “Люди, оказавшиеся выброшенными из мира гармонии, где уравновешены страсть и справедливость, всё ещё предпочитают одиночеству скорбное царство, где слова уже не имеют смысла, где господствует сила и инстинкты слепых тварей”. Взглянул на обложку: Альбер Камю, “Бунтующий человек”. Ага, стало быть, я выбрал одиночество, а не бунт. Не пошёл резать правых и виноватых, переворачивать культурные слои и припаркованные машины, сдабривая всё это зажигательной смесью… Но разве одиночество не есть бунт? Разве это одно лишь бессилье, на что презрительно намекает автор? Не подрагивает ли в ознобе сама земля от того, что я лежу здесь совершенно один, никого не любя, ничего не желая, кроме того, чтобы в пачке оставалась хоть одна сигарета? Ибо, если пачка окажется пуста, бунтовать будет незачем, думать будет незачем и жизнь потеряет свой смысл… “Нет, не подрагивает”, – ответил я сам себе, забываясь во сне.
Когда я уснул, духи выползли из печи, из грязных щелей, из сырого погреба, из тёмных углов – и стали танцевать. Когда знаешь всё или не знаешь ничего, остаётся одно – танцевать. Духи знали всё. Духи вальсировали по избе, склонялись надо мной и шептали в самое ухо: жить, жить…
13
От ледяной воды ломило зубы, стучало в висках, но пил я жадно, большими глотками, орошая высохшее нутро. Ну что ж, утеревшись грязным рукавом кофты, рассуждал я, слепые видят, мёртвые воскресают, а Федя пишет стихи. Что же в этом странного?
С похмелья изба казалась чужой. Печь со вчерашнего утра была не топлена и сиротливо молчала. Несмотря на головную боль и отвратительный вкус во рту, душевно было легче. Может, потому что в окна просачивался утренний свет, прогнавший ночных духов. Или потому что тело просило тепла и привычных действий, необходимых для растопки печи. Хочешь не хочешь, а нужно что-то делать, как-то заполнять время, выпавшее на твою долю до следующих выходных.
Растопив печь и пожевав хлеба с чаем, от нечего делать я стал бродить по дому. Вспоминались заученные прежде стихи, отрывки песен:
Через час уже просто земля,
Через два на ней цветы и трава,
Через три она снова жива…
О смысле произносимого вслух я не думал. Вспоминалось другое: октябрь, ночной вокзал, слепивший прожекторами. Нас трое. Мы стоим на мосту, курим “Космос” (потому что, по преданию, его курил Цой), посмеиваемся, сбрасываем пепел на мазутную спину бесконечно длинного поезда. Мы провожаем друга. Провожаем далеко, дальше самой Москвы, хотя ни один из нас не был и в столице края. И никто не понимал тогда, почему нужно разлучаться с другом, если он сам этого не хочет. Может, потому что его родители этого хотят (да, хотели)… или потому, что его фамилия Шакинис? Глупо как-то – родители, фамилия. И каждый сознавал в тот момент, что дороже дружбы ничего нет. И как бы трудно ни жилось тогда в стране, мы знали, что счастье не измеряется пространством или сытым желудком…
Только самых близких —
Друзей и кошек,
Собак и чёрных —
С белыми полосками.
Смеяться в поле,
Шататься на воле,
Играться в весну —
Дурачками подростками…
И где теперь мои друзья? Где их длинные волосы и ясные голоса, наивные стихи, которые мы читали друг другу на лестничной площадке? Печальнее всего, что я знаю и где они, и почему они забыли свои стихи. Каждый из них по-своему “упаковался”, встроился в систему современной жизни: остриг волосы, нашёл работу, родил ребёнка, развёлся с женой. Быть может, я просто завидую и боюсь жить так, как они. Не знаю…
Я шёл по деревне бесцельно, не выбирая пути. Было приятно слышать хруст своих шагов, не видеть ни чужих следов, ни прокатанной машинами колеи. Привычно тускло светило солнце, и меня радовало, что я разучился членить сутки на промежутки времени: мог встать ещё до рассвета, а мог проваляться до самого вечера – некуда было спешить.
В деревне так просто кричать в пустоту, не оглядываясь, не боясь, что чьи-то праздные уши сочтут тебя сумасшедшим.
– А-а-а! – срывалось вороньё с веток.
– А-а-а! – вторила эхом степь.
14
Неделя промелькнула как смутный сон. Продуктов, купленных Степаном, хватило ровно до субботы. Вместо сигарет уже пару дней я курил цейлонский чай, завёрнутый в страницы “Бунтующего человека”. Подружился с мышью. Заприметив её под столом, стал подкармливать. Мышь осмелела и несколько раз выбегала на середину кухни с вопрошающим видом. Потом она мне надоела, и я выбросил её за хвостик в сугроб. Начал писать воспоминания. Исписал толстый блокнот, а потом сжёг в печке: не понравилось. Я подумал, что не прочь бы теперь встретиться с Любкой и послушать её путаную речь.
Собрав вещи в рюкзак, постояв некоторое время в молчании в тёплой избе, – так прощаются с покойником, – я запер за собой дверь, прикрыл хлипкую калитку и побрёл к трассе.
Я достал “гревшийся” в рюкзаке четок и протянул Любке.
– Ты чего, ёптить? – усмехнулась неопределённого возраста женщина. – Ты за кого меня принимаешь! Сначала сам накати. Погоди, я тебе конфетку дам на закусь.
Я выпил из горлышка едкой теплоты и закусил памятной ещё с детства “Ласточкой”. Любка тоже выпила и осипшим от водки голосом спросила, кивая на мой прилавок:
– Чё, не берут?
– Так, мало…
– А ты забей, тогда и брать начнут. Пробовала – помогает.
– Да мне и так всё равно, – искренне ответил я.
Потом Любка от нечего делать стала рассказывать, что живёт одна с маленьким сыном, что муж её был да сплыл и уехал куда-то на Север за счастьем. Что подруга заняла в прошлом месяце пятихатку и не отдаёт, что поскорей бы уже наступила весна и растаял постылый снег. Что не хватает денег на компьютер для сына, и поэтому она стоит здесь как чучело, украдкой ест конфеты, толстеет и ждёт вечера, чтобы “свернуться”, купить бутылку пива и уставшей, разбитой, одинокой пойти к бабке за сыном. Что если не пить на такой работе, то можно умереть раньше, чем от водки, и что она рассчитывает дотянуть до пятидесяти, чтобы дождаться внуков. Что в юности у неё был нормальный парень, а не как эти все, что она любила его, и они смотрели с крыши на звёзды, а потом его забрали в армию и убили на войне…
Любка рассказывала свою историю на одной ноте, не останавливаясь, не смущаясь, с интонацией застарелого упрёка. В том, что она была несчастна, виновато было всё, что двигалось или лежало, присыпанное снегом: сам не таявший снег, рваные деньги, сунутые покупателями, неверная подруга, серое, дымившее к вечеру село, где она когда-то родилась и, вероятно, умрёт здесь же, под бабкиным ковром, а не на побережье Красного моря.
Когда мы свернулись, Любка предложила пойти к ней, чтобы выпить чаю и в тепле дождаться Степана. Но я отказался, побоявшись чем-либо огорчить своего “начальника” в первый же день работы. Подъехав на ворчливом грузовике к назначенному месту, Степан с усмешкой принял от меня скудную прибыль и рассеянно, как сумасшедший осеннюю листву, сунул себе в карман.
12
Наконец произошло то, чего я внутренне побаивался и чего ждал, чтобы совершить окончательный эксперимент над собой. Я остался один в деревне.
Фёдор уехал в город мириться с женой и баловать по-детски говорливого сына, которого любил больше жизни. Сын, в отличие от родителей, был здоров. Он мог слышать многоголосую симфонию жизни, звучащую в его чутком сознании – майским дождём за окном, шелестом листьев, волшебными колокольчиками над кроваткой; мог беззаботно картавить этой музыке в такт, разбрасывать вещи и не думать о необходимости порядка, слабо мерцавшего в строгом и недобром “нельзя”.
Одному в избе было жутковато, подбиралась тоска, и я отправился в хижину Фёдора. Хотелось увидеть, почувствовать его жилище изнутри, догадаться по оставленным вещам, чем жил этот человек, о чём думал.
Дверь в избу Фёдора была не заперта, замка не было. Вместо него в замочные кольца была вставлена осиновая палка, выскользнувшая от первого же рывка.
В жилище царила мерзость запустения. Комната напоминала берлогу. На окнах вызревал иней, на столе громоздились банки, бутыли, грязные тарелки с яичной скорлупой. Вверху из матицы торчали два зловещих крюка, на которые в старину вешали детские люльки и уставшие от жизни тела. Я прошёлся по комнате и зачем-то заглянул в печь, обнаружив там вместе с золой и смердящими окурками горелые тетрадные листы.
– Вот так так, – подумал я вслух, заметив характерные столбцы, – да это стихи!
Мне и в голову не могло прийти, что Федя – глухонемой алкоголик и, в сущности, большой ребёнок – мог что-то писать, создавать из вещества жизни самое совершенное, на что способно человеческое слово, – поэзию. Я пошуршал останками и прочёл первое, что можно было более-менее разобрать:
в беспамятстве кашу едят в дремучем селе
компот, кутья, бидончик с извёсткой под стулом забыт
гроб сыреет во тьме, не то что забит
народ уж навеселе…
Читая, я вспомнил поминки, заботливую старушку, угрюмого Степана, жестоко обманутую Катю… Дальше было сложно что-либо прочесть из-за корявого почерка и прожжённых мест, но уцелело окончание:
…я усну под столом, только в погреб полезу едва ль
там светлее и суше, чем здесь между шкафом и печью
закипит самовар, чьи-то руки сорвут вуаль
и беззубый старик поперхнётся своею речью
Я стоял как вкопанный и не верил своим глазам: неужели это и впрямь сочинил Фёдор? Но корявый почерк был его.
Образ простака-Фёдора и эти строки про вуаль, от которых веяло сумерками Серебряного века, загадочный беззубый старик, погреб, в который зачем-то нужно было лезть – всё это никак не укладывалось в моей голове. Язык нащупывал, вспоминая, определение (которым не так давно я щеголял в университете), чтобы выразить теперешнее состояние: ког… когни-тив-ный дис-со-нанс, – тяжело всплывало где-то в потёмках памяти. Я увидел на столе зелёную бутыль со знакомой жидкостью и машинально сунул её в карман. Уходя, наступил на что-то мягкое и с изумлением обнаружил под подошвой змеевидную леску, запутанную безнадёжно. Я поднял леску, повертел её в руках, пытаясь распутать хоть один узел, плюнул, бросил леску под стол и вышел на воздух.
Всю дорогу до избы и после, придя домой, до самой ночи я повторял изречение Сократа. Один раз по-русски: “Я знаю, что ничего не знаю”. А другой – зачем-то по-латински: “Scio me nihil scire”. И как гармонично ложились эти древние слова на деревенскую тишину! Я забеспокоился о своём душевном здоровье, потому что, кроме всего прочего, мне хотелось, подобно Диогену, с фонарём или, в крайнем случае, с зажигалкой отправиться по деревне на поиски Человека. Выпито и выкурено к этому времени было немало…
И действительно, пьяно размышлял я, лёжа на кровати, что я знаю об этих людях? Я сужу о человеке близоруко и небрежно, полагаясь на первые впечатления… Я встречаю по одёжке и провожаю по одёжке, с той лишь разницей, что во втором случае я одеваю человека сам из того, что есть в скудном гардеробе моего ума для ближнего. Воображаю себе ярмарочных кукол и думаю, что хорошо разбираюсь в людях. Добрая баба Маша, скрытный романтик Степан, гордая Катя, одинокая и стареющая Любка… Что значат эти слова применительно к сокровенным безднам их жизней? Ничего, – заключил я, гася очередной окурок. Слова фальшивят, двоятся грязными созвучьями в моём сознании – и больше ничего.
Не глядя, я сунул руку под кровать, где хранились теперь мои книги, взял первую попавшуюся, открыл на случайной странице и прочёл: “Люди, оказавшиеся выброшенными из мира гармонии, где уравновешены страсть и справедливость, всё ещё предпочитают одиночеству скорбное царство, где слова уже не имеют смысла, где господствует сила и инстинкты слепых тварей”. Взглянул на обложку: Альбер Камю, “Бунтующий человек”. Ага, стало быть, я выбрал одиночество, а не бунт. Не пошёл резать правых и виноватых, переворачивать культурные слои и припаркованные машины, сдабривая всё это зажигательной смесью… Но разве одиночество не есть бунт? Разве это одно лишь бессилье, на что презрительно намекает автор? Не подрагивает ли в ознобе сама земля от того, что я лежу здесь совершенно один, никого не любя, ничего не желая, кроме того, чтобы в пачке оставалась хоть одна сигарета? Ибо, если пачка окажется пуста, бунтовать будет незачем, думать будет незачем и жизнь потеряет свой смысл… “Нет, не подрагивает”, – ответил я сам себе, забываясь во сне.
Когда я уснул, духи выползли из печи, из грязных щелей, из сырого погреба, из тёмных углов – и стали танцевать. Когда знаешь всё или не знаешь ничего, остаётся одно – танцевать. Духи знали всё. Духи вальсировали по избе, склонялись надо мной и шептали в самое ухо: жить, жить…
13
От ледяной воды ломило зубы, стучало в висках, но пил я жадно, большими глотками, орошая высохшее нутро. Ну что ж, утеревшись грязным рукавом кофты, рассуждал я, слепые видят, мёртвые воскресают, а Федя пишет стихи. Что же в этом странного?
С похмелья изба казалась чужой. Печь со вчерашнего утра была не топлена и сиротливо молчала. Несмотря на головную боль и отвратительный вкус во рту, душевно было легче. Может, потому что в окна просачивался утренний свет, прогнавший ночных духов. Или потому что тело просило тепла и привычных действий, необходимых для растопки печи. Хочешь не хочешь, а нужно что-то делать, как-то заполнять время, выпавшее на твою долю до следующих выходных.
Растопив печь и пожевав хлеба с чаем, от нечего делать я стал бродить по дому. Вспоминались заученные прежде стихи, отрывки песен:
Через час уже просто земля,
Через два на ней цветы и трава,
Через три она снова жива…
О смысле произносимого вслух я не думал. Вспоминалось другое: октябрь, ночной вокзал, слепивший прожекторами. Нас трое. Мы стоим на мосту, курим “Космос” (потому что, по преданию, его курил Цой), посмеиваемся, сбрасываем пепел на мазутную спину бесконечно длинного поезда. Мы провожаем друга. Провожаем далеко, дальше самой Москвы, хотя ни один из нас не был и в столице края. И никто не понимал тогда, почему нужно разлучаться с другом, если он сам этого не хочет. Может, потому что его родители этого хотят (да, хотели)… или потому, что его фамилия Шакинис? Глупо как-то – родители, фамилия. И каждый сознавал в тот момент, что дороже дружбы ничего нет. И как бы трудно ни жилось тогда в стране, мы знали, что счастье не измеряется пространством или сытым желудком…
Только самых близких —
Друзей и кошек,
Собак и чёрных —
С белыми полосками.
Смеяться в поле,
Шататься на воле,
Играться в весну —
Дурачками подростками…
И где теперь мои друзья? Где их длинные волосы и ясные голоса, наивные стихи, которые мы читали друг другу на лестничной площадке? Печальнее всего, что я знаю и где они, и почему они забыли свои стихи. Каждый из них по-своему “упаковался”, встроился в систему современной жизни: остриг волосы, нашёл работу, родил ребёнка, развёлся с женой. Быть может, я просто завидую и боюсь жить так, как они. Не знаю…
Я шёл по деревне бесцельно, не выбирая пути. Было приятно слышать хруст своих шагов, не видеть ни чужих следов, ни прокатанной машинами колеи. Привычно тускло светило солнце, и меня радовало, что я разучился членить сутки на промежутки времени: мог встать ещё до рассвета, а мог проваляться до самого вечера – некуда было спешить.
В деревне так просто кричать в пустоту, не оглядываясь, не боясь, что чьи-то праздные уши сочтут тебя сумасшедшим.
– А-а-а! – срывалось вороньё с веток.
– А-а-а! – вторила эхом степь.
14
Неделя промелькнула как смутный сон. Продуктов, купленных Степаном, хватило ровно до субботы. Вместо сигарет уже пару дней я курил цейлонский чай, завёрнутый в страницы “Бунтующего человека”. Подружился с мышью. Заприметив её под столом, стал подкармливать. Мышь осмелела и несколько раз выбегала на середину кухни с вопрошающим видом. Потом она мне надоела, и я выбросил её за хвостик в сугроб. Начал писать воспоминания. Исписал толстый блокнот, а потом сжёг в печке: не понравилось. Я подумал, что не прочь бы теперь встретиться с Любкой и послушать её путаную речь.
Собрав вещи в рюкзак, постояв некоторое время в молчании в тёплой избе, – так прощаются с покойником, – я запер за собой дверь, прикрыл хлипкую калитку и побрёл к трассе.