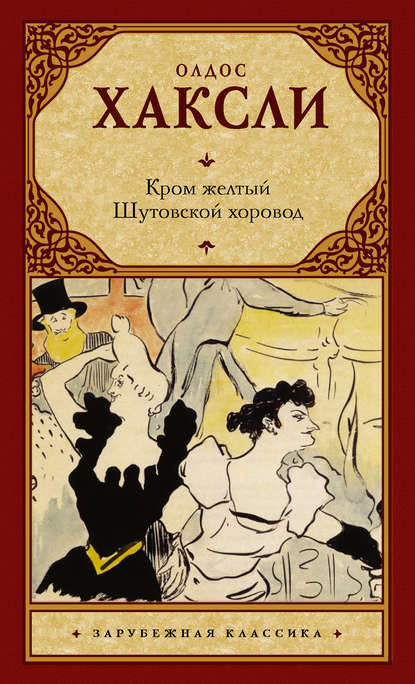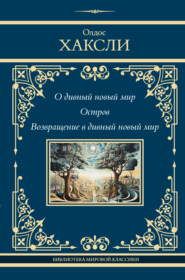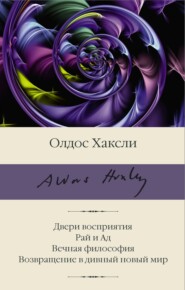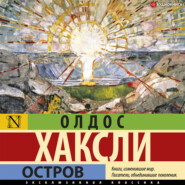По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Кром желтый. Шутовской хоровод (сборник)
Автор
Жанр
Год написания книги
2018
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Мэри одним прыжком преодолела две последние ступеньки и через секунду уже перешагивала порог.
– Вам с последней почтой пришло письмо, – проговорила она. – Я подумала, может, это что-то важное, и решила вам его принести.
Ее взгляд и детское лицо светились простодушием, когда она передавала ему письмо, хотя трудно было придумать более неубедительный предлог.
Гомбо мельком взглянул на конверт и, не открывая, сунул в карман.
– К счастью, – произнес он, – ничего важного. Но все равно большое спасибо.
Оба замолчали. Мэри почувствовала себя немного неловко, но, набравшись храбрости, наконец спросила:
– Можно мне взглянуть на то, что вы пишете?
Гомбо успел выкурить папиросу лишь наполовину и в любом случае не собирался возвращаться к работе, пока не докурит ее до самого основания, поэтому решил дать ей эти пять минут.
– Здесь место, откуда лучше всего смотреть, – пояснил он.
Некоторое время Мэри молча делала вид, что рассматривает картину. На самом деле она не знала, что сказать, поскольку была ошарашена и сбита с толку. Она ожидала увидеть шедевр кубизма, а вместо этого перед ней – изображение лошади и человека, не просто, а даже как-то вызывающе реалистическое. Trompe-l’oeil[31 - Оптическая иллюзия, живопись в технике «тромплей» – иллюзорно-перспективная живопись (фр.).] – другого слова не подберешь, чтобы охарактеризовать правильность перспективы и тщательность, с какой выписана человеческая фигура под грузно опирающимися о землю лошадиными ногами. Что она должна об этом подумать? И что сказать? Мэри совершенно растерялась. Можно, конечно, восхищаться репрезентализмом[32 - Репрезентализм в философии – вид объективного реализма.] у «старых мастеров». Это очевидно. Но в современном искусстве… В восемнадцать лет это еще, пожалуй, простительно. Но теперь, после школы, полученной ею во время пятилетнего общения с лучшими знатоками искусства, естественной реакцией на современное произведение, выполненное в технике репрезентализма, было презрение, едва сдерживаемый пренебрежительный смех. И что на Гомбо нашло? Прежде она безо всякой натуги восхищалась его работами. Но теперь не знала, что и думать. Она попала в затруднительное, очень затруднительное положение.
– Здесь богатая игра светотени, не так ли? – выдавила она наконец, мысленно поздравив себя с тем, что придумала критическую формулу, весьма деликатную и в то же время проницательную.
– Верно, – согласился Гомбо.
Мэри была довольна: он вступил с ней в серьезный профессиональный диалог. Она наклонила голову набок и прищурилась.
– По-моему, это ужасно мило, – сказала она, – но, конечно, немного слишком… слишком… репрезентативно, на мой вкус.
Она посмотрела на Гомбо, тот молчал, продолжая курить и не отрывая задумчивого взгляда от картины. Мэри продолжила с придыханием:
– Этой весной, будучи в Париже, я видела много работ Чаплицкого. Они меня безмерно восхищают. Конечно, они теперь стали пугающе абстрактны – пугающе абстрактны и пугающе интеллектуальны. Он наносит на холст всего несколько овалов – абсолютно плоских, знаете ли, и притом только чистыми, первичными красками. Но композиция получается удивительной. Он с каждым днем все больше уходит в абстракцию. В работах, которые я там видела, он полностью отказался от третьего измерения и подумывал о том, чтобы отказаться от второго. Скоро, говорит он, останутся лишь нетронутые холсты. Таков логический исход. Предельная абстракция. Живопись в идеально чистом виде; и он ведет ее к этому идеалу. А когда Чаплицкий его достигнет и покончит с живописью, переключится на архитектуру, которую считает более интеллектуальным занятием, нежели живопись. Вы с этим согласны? – спросила она все так же с придыханием.
Гомбо бросил на пол окурок и растоптал его.
– Чаплицкий покончил с живописью, а я – со своей папиросой. Но я, в отличие от него, собираюсь продолжить писать, – произнес он и, подойдя к Мэри, обнял ее за плечи и развернул спиной к полотну.
Мэри подняла на него глаза, колокол золотистых волос беззвучно качнулся. Ее взгляд был безмятежным, она улыбалась. Итак, момент настал. Его рука у нее на плечах, он двигается медленно, почти неощутимо, и она двигается с ним в такт. Это напоминало прогулку с Аристотелем.
– Так вы согласны с ним? – повторила она. Момент, может, и настал, но она ни в какой ситуации не утратит серьезности и не перестанет быть интеллектуалкой.
– Не знаю. Мне нужно об этом подумать. – Хватка Гомбо ослабла, и его рука соскользнула с ее плеча. – Осторожнее на лестнице, – заботливо предупредил он.
Мэри в недоумении оглянулась. Они были уже перед открытой дверью. Она постояла мгновение в растерянности: рука, только что покоившаяся у нее на плече, соскользнула ниже и три-четыре раза легонько шлепнула ее по спине. Машинально повинуясь этому побуждению, Мэри двинулась вперед.
– Спускайтесь по лестнице осторожно, – еще раз предупредил Гомбо.
Она спускалась осторожно. Дверь за ней закрылась, и Мэри очутилась одна в маленьком замкнутом зеленом пространстве. Потом в задумчивости пошла обратно к дому через скотный двор.
Глава 13
Выйдя к обеду, Генри Уимбуш принес с собой довольно пухлую картонную папку с печатными листами.
– Сегодня, – сказал он, демонстрируя папку с некоторой торжественностью, – сегодня я получил полный оттиск моей «Истории Крома». Не далее как этим вечером я помогал набирать последнюю страницу.
– Это ваша знаменитая «История»? – воскликнула Анна.
Сочинение и печатание этого Magnum Opus[33 - Главный труд жизни (лат.).] длилось столько, сколько Анна помнила себя. На протяжении всего детства «История» дядюшки Генри была для нее чем-то неопределенно-сказочным, о чем часто слышали, но чего никогда не видели.
– На нее ушло почти тридцать лет моей жизни, – пояснил мистер Уимбуш. – Двадцать пять лет на написание и почти четыре – на печатание. И вот она завершена – полная хроника событий: от рождения сэра Фердинандо Лапита до смерти моего отца Уильяма Уимбуша – более трех с половиной веков. История Крома, написанная в Кроме и отпечатанная в Кроме на моем собственном печатном станке.
– Будет ли нам позволено прочесть ее теперь, когда она завершена? – спросил Дэнис.
Мистер Уимбуш кивнул.
– Разумеется, – ответил он и скромно добавил: – И я надеюсь, что вы найдете ее небезынтересной. Наша несгораемая комната для хранения архивов чрезвычайно богата старинными документами, и мне удалось совершенно по-новому осветить вопрос о введении в обиход трехзубых вил.
– А люди? – спросил Гомбо. – Сэр Фердинандо и все остальные, было в их жизни что-то увлекательное? Семейные трагедии или преступления?
– Дайте вспомнить. – Сэр Генри задумчиво почесал подбородок. – Мне на ум приходят два самоубийства, одна насильственная смерть, четыре или, быть может, пять разбитых сердец и с полдюжины маленьких пятен на гербе в виде мезальянсов, адюльтеров, внебрачных детей и тому подобного. Нет, в общем и целом это мирная история, не изобилующая событиями.
– Уимбуши и Лапиты всегда были законопослушными людьми, не склонными к авантюризму, – добавила Присцилла с оттенком презрения. – Вот если бы мне пришлось писать историю моей семьи!.. Боюсь, это было бы от начала до конца одно сплошное пятно.
Она игриво рассмеялась и налила себе еще бокал вина.
– А если бы такую задачу поставили передо мной, – вмешался мистер Скоуган, – никакой истории не было бы вовсе. Все, что происходило за пределами двух прошлых поколений Скоуганов, тонет во мраке неизвестности.
– После обеда, – сказал Генри Уимбуш, немного уязвленный пренебрежительным комментарием жены относительно хозяев Крома, – я прочту вам эпизод из моей «Истории», который заставит вас признать, что даже у Лапитов, при всей их благопристойности, были свои трагедии и необычные приключения.
– Рада слышать, – отозвалась Присцилла.
– Рады слышать – что? – поинтересовалась Дженни, неожиданно выскочив из своего приватного внутреннего мира, как кукушка из часов. Получив объяснение, она улыбнулась, кивнула, прокуковала свое: «А, понятно» и нырнула обратно, захлопнув за собой дверь.
Когда обед закончился, вся компания перешла в гостиную.
– Итак, – приступил Генри, пододвигая кресло ближе к лампе. Он надел свое пенсне в черепаховой оправе и принялся аккуратно листать страницы пока непереплетенной книги, а найдя наконец нужное место, поднял голову и спросил: – Можно начинать?
– Давай, – кивнула Присцилла, зевая.
В наступившей почтительной тишине мистер Уимбуш кашлянул, прочищая горло, и приступил к чтению.
– «Младенец, коему было предназначено стать четвертым баронетом рода Лапитов, появился на свет в тысяча семьсот сороковом году. Новорожденный оказался крохотным, весил не более трех фунтов, но с самого начала был крепким и здоровым. В честь деда по материнской линии, сэра Геркулеса Оккама из епископского рода Оккамов, его нарекли при крещении Геркулесом. Его мать, как многие матери, вела дневник, в котором месяц за месяцем отмечала этапы развития сына. Он научился ходить в десять месяцев и, еще не достигнув двух лет, произносил немало слов. В три года он весил не более двадцати четырех фунтов, а в шесть, хотя прекрасно умел читать и писать, а также проявлял недюжинные музыкальные способности, был не выше и не тяжелее рослого двухлетнего ребенка. Тем временем его мать родила еще двух детей, мальчика и девочку, один из которых умер от крупа в младенчестве, а жизнь другой унесла чума, не дав дорасти и до пяти лет. Геркулес остался единственным выжившим ребенком в семье.
Когда Геркулесу исполнилось двенадцать, его рост не превышал трех футов двух дюймов. Голова его, очень красивая, благородной формы, для такого тела казалась чрезмерно большой, но во всем остальном он был сложен изящно и пропорционально и обладал изрядными для своих габаритов силой и ловкостью. Родители в надежде стимулировать его рост обращались ко всем самым выдающимся светилам своего времени и выполняли их предписания тщательнейшим образом, но все оказалось напрасно. Один рекомендовал обильное употребление мяса, другой – физические упражнения, по совету третьего соорудили раму наподобие дыбы, какие были в ходу у святой инквизиции, и юного Геркулеса с мучительной для него болью растягивали на ней каждый день по полчаса утром и вечером. За три следующих года Геркулес прибавил, может быть, два дюйма, после чего рост его окончательно прекратился, и до конца жизни он оставался пигмеем не выше трех футов четырех дюймов. Отец, который возлагал на сына самые честолюбивые надежды, мысленно готовя его к военной карьере, сравнимой с карьерой Мальборо, вынужден был смириться с тем, что воплотиться в жизнь его мечтам не суждено. «Я произвел на свет недоноска», – решил он и так страстно возненавидел сына, что мальчик не смел попадаться ему на глаза. Из-за разочарования некогда смиренный нрав отца сменился замкнутостью и жестокостью. Он избегал теперь любого общения (ибо, будучи отцом подобного lusus naturae[34 - Каприз природы (лат.).], стыдился показываться среди нормальных здоровых людей) и пристрастился пить в одиночестве, что и свело его весьма скоро в могилу: не дожив одного года до совершеннолетия сына, он скончался от апоплексического удара. Мать Геркулеса, чья любовь к нему росла обратно пропорционально неприязни отца, пережила мужа ненадолго; чуть больше года спустя, съев две дюжины устриц, она умерла от брюшного тифа.
Так в возрасте двадцати одного года Геркулес остался совершенно одиноким владельцем весьма значительного состояния, включавшего Кром – дом с обширными земельными угодьями. Красота и ум, свойственные ему в детстве, никуда не делись и в более зрелые годы, и, если бы не карликовый рост, он мог бы занять достойное положение среди самых привлекательных и образованных юношей своего времени. Геркулес был начитан в древнегреческой и римской литературах, равно как и в современной, на каком бы языке – английском, французском или итальянском – ее ни написали. Он обладал отменным музыкальным слухом и с чувством играл на скрипке, которую держал, как виолончель – сидя на стуле и сжимая инструмент ногами. Особенно он любил клавесин и клавикорды, но играть на этих инструментах не мог из-за малого размера рук. Была у него крохотная, специально для него сделанная из слоновой кости флейта, на которой, находясь в печальном расположении духа, он исполнял простенькие деревенские мелодии, каждый раз убеждаясь, что эта незатейливая крестьянская музыка очищает и возвышает дух гораздо лучше, нежели искусственные творения профессионалов. С ранних лет он сочинял стихи, однако, хоть и признавал за собой изрядный талант в этом искусстве, ни разу не опубликовал ни единой строки. «Мои стихи, – говорил он, – неотрывны от моего роста; если бы публика и читала их, то не потому, что я поэт, а потому, что я карлик». Сохранилось несколько рукописных книг стихов сэра Геркулеса. Достаточно одного примера, чтобы проиллюстрировать его поэтическое дарование.
В исчезнувший, забытый век, когда
Бродили Авраамовы стада
По тучным пастбищам, и пел Омир,
И молод был новорожденный мир,
– Вам с последней почтой пришло письмо, – проговорила она. – Я подумала, может, это что-то важное, и решила вам его принести.
Ее взгляд и детское лицо светились простодушием, когда она передавала ему письмо, хотя трудно было придумать более неубедительный предлог.
Гомбо мельком взглянул на конверт и, не открывая, сунул в карман.
– К счастью, – произнес он, – ничего важного. Но все равно большое спасибо.
Оба замолчали. Мэри почувствовала себя немного неловко, но, набравшись храбрости, наконец спросила:
– Можно мне взглянуть на то, что вы пишете?
Гомбо успел выкурить папиросу лишь наполовину и в любом случае не собирался возвращаться к работе, пока не докурит ее до самого основания, поэтому решил дать ей эти пять минут.
– Здесь место, откуда лучше всего смотреть, – пояснил он.
Некоторое время Мэри молча делала вид, что рассматривает картину. На самом деле она не знала, что сказать, поскольку была ошарашена и сбита с толку. Она ожидала увидеть шедевр кубизма, а вместо этого перед ней – изображение лошади и человека, не просто, а даже как-то вызывающе реалистическое. Trompe-l’oeil[31 - Оптическая иллюзия, живопись в технике «тромплей» – иллюзорно-перспективная живопись (фр.).] – другого слова не подберешь, чтобы охарактеризовать правильность перспективы и тщательность, с какой выписана человеческая фигура под грузно опирающимися о землю лошадиными ногами. Что она должна об этом подумать? И что сказать? Мэри совершенно растерялась. Можно, конечно, восхищаться репрезентализмом[32 - Репрезентализм в философии – вид объективного реализма.] у «старых мастеров». Это очевидно. Но в современном искусстве… В восемнадцать лет это еще, пожалуй, простительно. Но теперь, после школы, полученной ею во время пятилетнего общения с лучшими знатоками искусства, естественной реакцией на современное произведение, выполненное в технике репрезентализма, было презрение, едва сдерживаемый пренебрежительный смех. И что на Гомбо нашло? Прежде она безо всякой натуги восхищалась его работами. Но теперь не знала, что и думать. Она попала в затруднительное, очень затруднительное положение.
– Здесь богатая игра светотени, не так ли? – выдавила она наконец, мысленно поздравив себя с тем, что придумала критическую формулу, весьма деликатную и в то же время проницательную.
– Верно, – согласился Гомбо.
Мэри была довольна: он вступил с ней в серьезный профессиональный диалог. Она наклонила голову набок и прищурилась.
– По-моему, это ужасно мило, – сказала она, – но, конечно, немного слишком… слишком… репрезентативно, на мой вкус.
Она посмотрела на Гомбо, тот молчал, продолжая курить и не отрывая задумчивого взгляда от картины. Мэри продолжила с придыханием:
– Этой весной, будучи в Париже, я видела много работ Чаплицкого. Они меня безмерно восхищают. Конечно, они теперь стали пугающе абстрактны – пугающе абстрактны и пугающе интеллектуальны. Он наносит на холст всего несколько овалов – абсолютно плоских, знаете ли, и притом только чистыми, первичными красками. Но композиция получается удивительной. Он с каждым днем все больше уходит в абстракцию. В работах, которые я там видела, он полностью отказался от третьего измерения и подумывал о том, чтобы отказаться от второго. Скоро, говорит он, останутся лишь нетронутые холсты. Таков логический исход. Предельная абстракция. Живопись в идеально чистом виде; и он ведет ее к этому идеалу. А когда Чаплицкий его достигнет и покончит с живописью, переключится на архитектуру, которую считает более интеллектуальным занятием, нежели живопись. Вы с этим согласны? – спросила она все так же с придыханием.
Гомбо бросил на пол окурок и растоптал его.
– Чаплицкий покончил с живописью, а я – со своей папиросой. Но я, в отличие от него, собираюсь продолжить писать, – произнес он и, подойдя к Мэри, обнял ее за плечи и развернул спиной к полотну.
Мэри подняла на него глаза, колокол золотистых волос беззвучно качнулся. Ее взгляд был безмятежным, она улыбалась. Итак, момент настал. Его рука у нее на плечах, он двигается медленно, почти неощутимо, и она двигается с ним в такт. Это напоминало прогулку с Аристотелем.
– Так вы согласны с ним? – повторила она. Момент, может, и настал, но она ни в какой ситуации не утратит серьезности и не перестанет быть интеллектуалкой.
– Не знаю. Мне нужно об этом подумать. – Хватка Гомбо ослабла, и его рука соскользнула с ее плеча. – Осторожнее на лестнице, – заботливо предупредил он.
Мэри в недоумении оглянулась. Они были уже перед открытой дверью. Она постояла мгновение в растерянности: рука, только что покоившаяся у нее на плече, соскользнула ниже и три-четыре раза легонько шлепнула ее по спине. Машинально повинуясь этому побуждению, Мэри двинулась вперед.
– Спускайтесь по лестнице осторожно, – еще раз предупредил Гомбо.
Она спускалась осторожно. Дверь за ней закрылась, и Мэри очутилась одна в маленьком замкнутом зеленом пространстве. Потом в задумчивости пошла обратно к дому через скотный двор.
Глава 13
Выйдя к обеду, Генри Уимбуш принес с собой довольно пухлую картонную папку с печатными листами.
– Сегодня, – сказал он, демонстрируя папку с некоторой торжественностью, – сегодня я получил полный оттиск моей «Истории Крома». Не далее как этим вечером я помогал набирать последнюю страницу.
– Это ваша знаменитая «История»? – воскликнула Анна.
Сочинение и печатание этого Magnum Opus[33 - Главный труд жизни (лат.).] длилось столько, сколько Анна помнила себя. На протяжении всего детства «История» дядюшки Генри была для нее чем-то неопределенно-сказочным, о чем часто слышали, но чего никогда не видели.
– На нее ушло почти тридцать лет моей жизни, – пояснил мистер Уимбуш. – Двадцать пять лет на написание и почти четыре – на печатание. И вот она завершена – полная хроника событий: от рождения сэра Фердинандо Лапита до смерти моего отца Уильяма Уимбуша – более трех с половиной веков. История Крома, написанная в Кроме и отпечатанная в Кроме на моем собственном печатном станке.
– Будет ли нам позволено прочесть ее теперь, когда она завершена? – спросил Дэнис.
Мистер Уимбуш кивнул.
– Разумеется, – ответил он и скромно добавил: – И я надеюсь, что вы найдете ее небезынтересной. Наша несгораемая комната для хранения архивов чрезвычайно богата старинными документами, и мне удалось совершенно по-новому осветить вопрос о введении в обиход трехзубых вил.
– А люди? – спросил Гомбо. – Сэр Фердинандо и все остальные, было в их жизни что-то увлекательное? Семейные трагедии или преступления?
– Дайте вспомнить. – Сэр Генри задумчиво почесал подбородок. – Мне на ум приходят два самоубийства, одна насильственная смерть, четыре или, быть может, пять разбитых сердец и с полдюжины маленьких пятен на гербе в виде мезальянсов, адюльтеров, внебрачных детей и тому подобного. Нет, в общем и целом это мирная история, не изобилующая событиями.
– Уимбуши и Лапиты всегда были законопослушными людьми, не склонными к авантюризму, – добавила Присцилла с оттенком презрения. – Вот если бы мне пришлось писать историю моей семьи!.. Боюсь, это было бы от начала до конца одно сплошное пятно.
Она игриво рассмеялась и налила себе еще бокал вина.
– А если бы такую задачу поставили передо мной, – вмешался мистер Скоуган, – никакой истории не было бы вовсе. Все, что происходило за пределами двух прошлых поколений Скоуганов, тонет во мраке неизвестности.
– После обеда, – сказал Генри Уимбуш, немного уязвленный пренебрежительным комментарием жены относительно хозяев Крома, – я прочту вам эпизод из моей «Истории», который заставит вас признать, что даже у Лапитов, при всей их благопристойности, были свои трагедии и необычные приключения.
– Рада слышать, – отозвалась Присцилла.
– Рады слышать – что? – поинтересовалась Дженни, неожиданно выскочив из своего приватного внутреннего мира, как кукушка из часов. Получив объяснение, она улыбнулась, кивнула, прокуковала свое: «А, понятно» и нырнула обратно, захлопнув за собой дверь.
Когда обед закончился, вся компания перешла в гостиную.
– Итак, – приступил Генри, пододвигая кресло ближе к лампе. Он надел свое пенсне в черепаховой оправе и принялся аккуратно листать страницы пока непереплетенной книги, а найдя наконец нужное место, поднял голову и спросил: – Можно начинать?
– Давай, – кивнула Присцилла, зевая.
В наступившей почтительной тишине мистер Уимбуш кашлянул, прочищая горло, и приступил к чтению.
– «Младенец, коему было предназначено стать четвертым баронетом рода Лапитов, появился на свет в тысяча семьсот сороковом году. Новорожденный оказался крохотным, весил не более трех фунтов, но с самого начала был крепким и здоровым. В честь деда по материнской линии, сэра Геркулеса Оккама из епископского рода Оккамов, его нарекли при крещении Геркулесом. Его мать, как многие матери, вела дневник, в котором месяц за месяцем отмечала этапы развития сына. Он научился ходить в десять месяцев и, еще не достигнув двух лет, произносил немало слов. В три года он весил не более двадцати четырех фунтов, а в шесть, хотя прекрасно умел читать и писать, а также проявлял недюжинные музыкальные способности, был не выше и не тяжелее рослого двухлетнего ребенка. Тем временем его мать родила еще двух детей, мальчика и девочку, один из которых умер от крупа в младенчестве, а жизнь другой унесла чума, не дав дорасти и до пяти лет. Геркулес остался единственным выжившим ребенком в семье.
Когда Геркулесу исполнилось двенадцать, его рост не превышал трех футов двух дюймов. Голова его, очень красивая, благородной формы, для такого тела казалась чрезмерно большой, но во всем остальном он был сложен изящно и пропорционально и обладал изрядными для своих габаритов силой и ловкостью. Родители в надежде стимулировать его рост обращались ко всем самым выдающимся светилам своего времени и выполняли их предписания тщательнейшим образом, но все оказалось напрасно. Один рекомендовал обильное употребление мяса, другой – физические упражнения, по совету третьего соорудили раму наподобие дыбы, какие были в ходу у святой инквизиции, и юного Геркулеса с мучительной для него болью растягивали на ней каждый день по полчаса утром и вечером. За три следующих года Геркулес прибавил, может быть, два дюйма, после чего рост его окончательно прекратился, и до конца жизни он оставался пигмеем не выше трех футов четырех дюймов. Отец, который возлагал на сына самые честолюбивые надежды, мысленно готовя его к военной карьере, сравнимой с карьерой Мальборо, вынужден был смириться с тем, что воплотиться в жизнь его мечтам не суждено. «Я произвел на свет недоноска», – решил он и так страстно возненавидел сына, что мальчик не смел попадаться ему на глаза. Из-за разочарования некогда смиренный нрав отца сменился замкнутостью и жестокостью. Он избегал теперь любого общения (ибо, будучи отцом подобного lusus naturae[34 - Каприз природы (лат.).], стыдился показываться среди нормальных здоровых людей) и пристрастился пить в одиночестве, что и свело его весьма скоро в могилу: не дожив одного года до совершеннолетия сына, он скончался от апоплексического удара. Мать Геркулеса, чья любовь к нему росла обратно пропорционально неприязни отца, пережила мужа ненадолго; чуть больше года спустя, съев две дюжины устриц, она умерла от брюшного тифа.
Так в возрасте двадцати одного года Геркулес остался совершенно одиноким владельцем весьма значительного состояния, включавшего Кром – дом с обширными земельными угодьями. Красота и ум, свойственные ему в детстве, никуда не делись и в более зрелые годы, и, если бы не карликовый рост, он мог бы занять достойное положение среди самых привлекательных и образованных юношей своего времени. Геркулес был начитан в древнегреческой и римской литературах, равно как и в современной, на каком бы языке – английском, французском или итальянском – ее ни написали. Он обладал отменным музыкальным слухом и с чувством играл на скрипке, которую держал, как виолончель – сидя на стуле и сжимая инструмент ногами. Особенно он любил клавесин и клавикорды, но играть на этих инструментах не мог из-за малого размера рук. Была у него крохотная, специально для него сделанная из слоновой кости флейта, на которой, находясь в печальном расположении духа, он исполнял простенькие деревенские мелодии, каждый раз убеждаясь, что эта незатейливая крестьянская музыка очищает и возвышает дух гораздо лучше, нежели искусственные творения профессионалов. С ранних лет он сочинял стихи, однако, хоть и признавал за собой изрядный талант в этом искусстве, ни разу не опубликовал ни единой строки. «Мои стихи, – говорил он, – неотрывны от моего роста; если бы публика и читала их, то не потому, что я поэт, а потому, что я карлик». Сохранилось несколько рукописных книг стихов сэра Геркулеса. Достаточно одного примера, чтобы проиллюстрировать его поэтическое дарование.
В исчезнувший, забытый век, когда
Бродили Авраамовы стада
По тучным пастбищам, и пел Омир,
И молод был новорожденный мир,