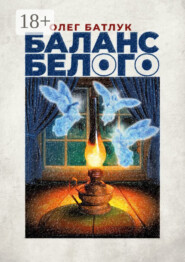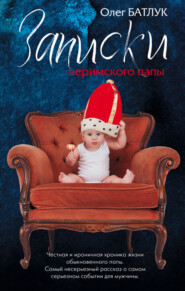По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Мемуары младенца (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Мемуары младенца (сборник)
Олег Батлук
Все наши тараканы родом из детства. Когда-то они бегали, невидимые, рядом с нами в подгузниках на кривеньких ножках, а потом повзрослели. Автор бестселлера «Записки неримского папы» Олег Батлук, насмотревшись на малолетнего сына, отправляется в ностальгическое путешествие на встречу с тараканами своего детства. Юмористический сборник переносит читателя в атмосферную эпоху советского застоя, где застоялось все, кроме Олега Батлука, растущего перпендикулярно линии партии. Под сенью раскидистых бровей Брежнева разворачивается скромная эпопея взросления близорукого мальчика, которого в Древней Спарте скинули бы со скалы в числе первых. Не рекомендуется лицам с частыми приступами икоты по причине повышенной концентрации шуток и гэгов.
Олег Викторович Батлук
Мемуары младенца
Сборник рассказов
© О. Батлук, 2018
© ООО «Издательство АСТ», 2018
Предисловие
Чем старше я становлюсь, тем выше к горлу подступает прошлое.
Я ностальгирую по своему советскому детству.
Я засиживаюсь допоздна на сайтах с фотографиями старой Москвы, изучая, как выглядел мой район в восьмидесятые. Оказывается, аптека перед моим домом существовала уже тогда. Сорок лет она остается архитектурной доминантой квартала. Ничего интереснее за все эти годы с нами не случилось. Меняются люди, меняются лекарства. И только болезни одни и те же. А на одном снимке конца шестидесятых на большом перекрестке рядом с этой аптекой – пробка. Из трех машин. И все три разные. Пробка в СССР в шестидесятые на окраине Москвы из нескольких авто разных марок. Мой район уже в те годы чудил.
Было время, когда я любил запрыгнуть в машину и отправиться в окрестности Преображенки. Там я провел часть своего детства, в одном из затерянных в тупике у леса дворов. Из-за этой особенности своего расположения двор дошел до наших дней почти не тронутый будущим. Я парковался заблаговременно, чтобы не въезжать на заповедный островок своей памяти на современном авто и не разрушать микроклимат восьмидесятых. Шел пешком, осторожно, почти на цыпочках: вдруг из-за поворота выбегу кудрявый белобрысый я. Но недавно перед моим прежним домом зачем-то срубили все деревья, те самые, что сохранили наши сокровенные детские тайны. Я застал, как рабочие увозили срубленное. Деревья тянули ко мне ветки из кузова грузовика, прощаясь. Я перестал туда ездить.
Понятно, что я ностальгирую скорее не по советскому, а по детству. Если бы мое детство прошло в Древнем Риме, я бы точно так же ходил вокруг разрушенных терм и боялся встретить за углом Цицерона.
Но тут есть нечто большее. Ведь для чего-то мне нужно переноситься в одну и ту же точку в прошлом.
Я думаю, в этом заключается сокровенное желание каждого человека – отмотать свою жизнь к началу. К той сердцевине, откуда разбегается роза ветров. К тому райскому цветению возможностей, каким является наше детство. Когда все, кто не жив, еще живы. Когда мечты бродят непугаными розовыми слонами прямо посреди будней. Когда впереди столько бесхозного несчитаного времени, что оно смахивает на вечность.
Прелесть машины времени – в том, что она дарит нам иллюзию другого будущего.
1. Политинформация
У каждого времени есть свои отпечатки пальцев, по которым его легко опознать. В моем советском детстве таких было несколько.
Например, бабушки у подъезда. Мне казалось, что наши пятиэтажки так и сдавались в эксплуатацию в комплекте с этими бабушками. С годами они все глубже врастали в лавочки. Старушки перед моим домом всегда оставляли на скамейке место с краю. Там сидел Гоша – кот с первого этажа. Гоша был глуховат, но при этом любил слушать разговоры бабушек. Может быть, потому что они шелестели для него, как ленивый грибной дождик. По крайней мере, для меня эти разговоры шелестели именно так.
Или дворник. Дворники в то время были уважаемыми людьми. Домовыми двора. Его ангелами-хранителями. Их знала вся округа. И они знали всю округу. У нас работал дворник Володя. Татарин, плохо говорящий по-русски. Имя Володя было его псевдонимом. Однажды он поведал кому-то, что взял себе имя, как у Ленина, чтобы добиться уважения окружающих. Но Володю и так все уважали, и без Ленина.
Он состоял при нашем дворе несколько десятилетий. При нем рождались и умирали жильцы. По роду занятий внимательный к деталям, Володя хранил родословные в памяти. Он мог часами рассказывать внукам об их ушедших дедушках, причем в таких подробностях, которые не всегда были известны их бабушкам. Сам Володя никогда не старел, оставался всегда одинаковым и умер молодым в восемьдесят лет. Ушел дворник в последний день листопада – настоящий профессионал. Его хоронили всем двором. По дороге похоронной процессии не встретилось ни листочка, ни пылинки: лучше эпитафии не придумаешь.
Володя охотно общался со всеми. Как Глеб Жеглов, он держал в голове целую картотеку. Утром он мог крикнуть мне, малолетке: «Ну что, Бальтюк (тяжела была моя фамилия для татарина), сегодня сочинение писать, да?», а вечером: «Эй, Бальтюк, тройка исправил, что ли?» Володя был для всех нас еще одним членом семьи. Некоторыми ребятишками он занимался даже больше, чем их родные отцы. Эти детки бежали из школы с почетными грамотами в руках, чтобы показать их Володе, а не у себя дома. Дворник радовался за них, как за своих детей. Возможно, потому что своих у него не было. У него вообще за душой ничего не было, кроме метлы летом и лопаты зимой. Ничего, кроме самой души, огромной, на килограмм, при наших стандартных шести граммах, как посчитали ученые. Мы все и были его семьей.
И, наконец, политинформация. Этот странный идеологический аппендицит перед первым уроком. Наша классная руководительница, женщина в возрасте, с букетом болезней, ненавидела утро. Утро – это вообще время молодых. Только юные и здоровые его любят. А все остальные: старые и больные, а порой, кому повезет, и просто похмельные, – утро ненавидят.
Учительница ненавидела политинформацию заодно с утром. На моей памяти она не провела ни одного такого урока. Их все провел я. Меня каждый раз единогласно выбирал класс. Ритуал повторялся в точности изо дня в день.
«Кто сегодня прочтет политинформацию?» – трагически вопрошала классная.
«Батлук!» – орали все в один голос.
Меня выбирали потому, что вместо политинформации я пересказывал одноклассникам Жюля Верна. У нас дома было полное собрание его сочинений. Классная руководительница засыпала при первых звуках моего голоса и просыпалась ровно через пять минут. Как Штирлиц под Берлином. Профессиональное, годы тренировок.
Эти пять минут политинформации были только наши, детские, антивзрослые и страшно аполитичные.
Случались, конечно, и казусы. Классная, бывало, просыпалась в самый неподходящий момент. Например, когда профессор Аронакс с Недом Лендом впервые попадали на «Наутилус». Но я, как вражеский шпион, всегда следил одним глазом за периметром. И был готов к любым неожиданностям.
«Кто вы? – спросил профессор незнакомца», – произносил я зловещим голосом. Класс полулежал на партах от предвкушения, подавшись вперед. И тут просыпалась учительница. Мутным заспанным взглядом она обводила класс и останавливалась на мне.
«Кто вы?» – по инерции успевал повторить я, прежде чем замечал движение в периметре.
«Брежнев!» – моментально исправлялся я.
Класс продолжал лежать на партах, но уже беззвучно давясь от хохота.
«Молодец, Батлук, продолжай», – бормотала классная и засыпала снова.
Бабушки на лавочках, родной дворник Володя, уроки политинформации – мое советское детство, где ты?
Наверное, до сих пор плаваешь где-то в бескрайнем океане прошлого неуловимым «Наутилусом» под командованием молчаливого капитана Брежнева, хранящего твои тайны.
2. Психотерапевт Пончик
С детских лет меня тянуло к сбитым летчикам. В то время как у остальных ребят в друзьях были яркие харизматики и лидеры мнений, мне вечно доставались какие-то неудачники-инферналы.
Взять, к примеру, легенду моего детства – ребенка по кличке Пончик. Мы с ним якшались, по меткому определению тогдашних взрослых, в детском саду. Свою кличку он получил не из-за полноты – напротив, Пончик был худым, как жердь. Просто однажды эта тростинка тайком сожрала целый поднос пончиков, приготовленных для нашей группы. Вот уж ни разу не мыслящий тростник, по Паскалю.
Пончик как-то сам приблудился ко мне. И тем самым он моментально отогнал от меня остальных потенциальных друзей в детском саду. Правда, сейчас, с высоты прожитых лет, я понимаю, что в те годы я не был королем танцпола и, скорее всего, никто и так не стал бы дружить с настолько тухлым ребенком. Таким образом, Пончик оказал мне первую бесценную психотерапевтическую услугу, распугав других детей, которые и не собирались со мной знакомиться, чем сэкономил мне ручьи слез по поводу неразделенной взаимности.
Впоследствии Пончик оказал мне множество подобных, по сути, чисто психотерапевтических услуг.
На длинной дистанции наша с ним дружба оказалась для меня психоаналитическим Клондайком. И хотя Пончик все делал не нарочно, каждый раз он ненароком приносил мне врачебную пользу. Такой вот неуклюжий ангел-хранитель. Я до сих пор не понимаю, чем приглянулся тогда этому странному грустному терминатору. Возможно, он встретил во мне родственную душу: я тоже мечтал сожрать целый поднос пончиков, но так и не решился.
Во-первых, Пончик научил меня главному в жизни – есть зубную пасту. В нашем советском детстве была такая детская зубная паста с вишневым, кажется, запахом. Каждый раз во время чистки зубов мне казалось, что я выплевываю в раковину целую горсть сладких спелых вишен. Мне очень хотелось попробовать содержимое тюбика, но однажды родители мне это запретили, когда я, наивный чистый ребенок, спросил у них про это напрямую. Я так бы и заработал на всю жизнь невроз непроглоченного тюбика, если бы не Пончик, который был кем угодно, но только не наивным чистым ребенком. Как-то раз в детском саду он подошел ко мне во время утреннего моциона, взял мою вишневую пасту и начал чистить зубы. Мне так показалось. Только потом я обратил внимание, что щетки-то у него в руках нет. Пончик стоял рядом со мной и за обе щеки уминал вишневую пасту. Позавтракав таким нехитрым способом, он протянул тюбик мне. И тогда я тоже попробовал. Божественная эссенция. По сравнению с ней настоящая вишня – сплошная химия.
Во-вторых, Пончик избавил меня от комплекса неваляшки. Была у нас в том же советском детстве популярная игрушка – пластмассовая девочка с большими печальными глазами, которая не могла лечь спать. Ты ее наклоняешь на бочок – она возвращается в исходное положение. Я страшно переживал за неваляшку из-за ее бессонницы, я пытался помочь малышке, придавливая ее подушкой и садясь сверху. Но девица каждый раз восставала из спящих. И когда у меня уже начал дергаться правый глаз, Пончик подошел ко мне с кирпичом и разбил неваляшку. Неваляшка с гигантской дырой в нижнем шаре очень даже неплохо лежит на боку.
В-третьих, Пончик вылечил меня от котлетного расстройства. Мы с ним на пару терпеть не могли котлеты. Точнее, сначала котлеты не переносил только Пончик. Но после того, как он на ухо сообщил мне новость о том, что котлеты – это дохлые хомячки, я тоже их сразу разлюбил. В те годы в детских садах процветало пищевое насилие. Воспитатели воспитывали нас под популярным лозунгом кубинской революции «Котлета или смерть!». Но Пончик нашел выход. Элегантный и интеллигентный, как все в его арсенале. Он насаживал котлету на вилку и закидывал ее на шкаф. Скоро Пончик и меня научил этому нехитрому приему. Мы с ним сидели за последним столом, на галерке, как и полагается социально чумным детям. Нас было плохо видно. Шкаф стоял почти вплотную: котлетам лететь недалеко. Так что мы практически не промахивались. Через неделю в столовой появился странный запах. Через две он стал невыносимым. Источник смрада обнаружился благодаря местному слесарю, вызванному чинить канализацию. Он слез с того шкафа седым. Видимо, разложившиеся котлеты мутировали в какую-то другую, отвратительную форму жизни, как в фильме ужасов. Иначе чем еще можно объяснить испуг бывалого слесаря, к тому же ни разу не трезвого. Нас с Пончиком разоблачили, усадили за стол в первом ряду и принялись кормить запеканкой со сгущенкой, изверги.
Наконец, с помощью Пончика я преодолел синдром непризнанного гения. С самого детства у меня все валилось из рук. Я родился с коротким тельцем, и руки у меня какое-то время действительно росли оттуда. Снизу. В смысле – не из плеч.
Однажды к празднику Седьмого ноября в нашем саду запланировали выставку детских поделок из пластилина. Целый месяц детвора лепила. Все, кроме Пончика. Он выступал в индивидуальном зачете – рисовал карандашами в темном углу, за отдельным столом. Я тоже лепил. Насколько это было вообще возможно для ребенка, у которого все валится из рук.
В день выставки все пластилиновые поделки выставили на всеобщее обозрение. Среди узнаваемых кошечек, собачек, птичек, рыбок и даже одного узнаваемого слона выделялось одно пластилиновое нечто. Мое. По замыслу под нечто тоже подразумевалась кошечка. Вот только хвостик у нее рос прямо из лобика, и это было наименьшей из ее проблем. Милые детки, они так радовались моему фиаско.
«Это что такое, наверное, батлукоглаз!», «это что такое, наверное, батлукорук!» – неслось со всех сторон.
Так виртуозно мою фамилию ни до, ни после больше никому не удавалось просклонять. Надо отдать воспитателям должное, они пресекли это словотворчество. Ровно в тот момент, когда креативные малыши, перебирая части тела сверху вниз, подозрительно приблизились к области ниже пояса. Воодушевленные моим позором, дети пошли обедать.
Олег Батлук
Все наши тараканы родом из детства. Когда-то они бегали, невидимые, рядом с нами в подгузниках на кривеньких ножках, а потом повзрослели. Автор бестселлера «Записки неримского папы» Олег Батлук, насмотревшись на малолетнего сына, отправляется в ностальгическое путешествие на встречу с тараканами своего детства. Юмористический сборник переносит читателя в атмосферную эпоху советского застоя, где застоялось все, кроме Олега Батлука, растущего перпендикулярно линии партии. Под сенью раскидистых бровей Брежнева разворачивается скромная эпопея взросления близорукого мальчика, которого в Древней Спарте скинули бы со скалы в числе первых. Не рекомендуется лицам с частыми приступами икоты по причине повышенной концентрации шуток и гэгов.
Олег Викторович Батлук
Мемуары младенца
Сборник рассказов
© О. Батлук, 2018
© ООО «Издательство АСТ», 2018
Предисловие
Чем старше я становлюсь, тем выше к горлу подступает прошлое.
Я ностальгирую по своему советскому детству.
Я засиживаюсь допоздна на сайтах с фотографиями старой Москвы, изучая, как выглядел мой район в восьмидесятые. Оказывается, аптека перед моим домом существовала уже тогда. Сорок лет она остается архитектурной доминантой квартала. Ничего интереснее за все эти годы с нами не случилось. Меняются люди, меняются лекарства. И только болезни одни и те же. А на одном снимке конца шестидесятых на большом перекрестке рядом с этой аптекой – пробка. Из трех машин. И все три разные. Пробка в СССР в шестидесятые на окраине Москвы из нескольких авто разных марок. Мой район уже в те годы чудил.
Было время, когда я любил запрыгнуть в машину и отправиться в окрестности Преображенки. Там я провел часть своего детства, в одном из затерянных в тупике у леса дворов. Из-за этой особенности своего расположения двор дошел до наших дней почти не тронутый будущим. Я парковался заблаговременно, чтобы не въезжать на заповедный островок своей памяти на современном авто и не разрушать микроклимат восьмидесятых. Шел пешком, осторожно, почти на цыпочках: вдруг из-за поворота выбегу кудрявый белобрысый я. Но недавно перед моим прежним домом зачем-то срубили все деревья, те самые, что сохранили наши сокровенные детские тайны. Я застал, как рабочие увозили срубленное. Деревья тянули ко мне ветки из кузова грузовика, прощаясь. Я перестал туда ездить.
Понятно, что я ностальгирую скорее не по советскому, а по детству. Если бы мое детство прошло в Древнем Риме, я бы точно так же ходил вокруг разрушенных терм и боялся встретить за углом Цицерона.
Но тут есть нечто большее. Ведь для чего-то мне нужно переноситься в одну и ту же точку в прошлом.
Я думаю, в этом заключается сокровенное желание каждого человека – отмотать свою жизнь к началу. К той сердцевине, откуда разбегается роза ветров. К тому райскому цветению возможностей, каким является наше детство. Когда все, кто не жив, еще живы. Когда мечты бродят непугаными розовыми слонами прямо посреди будней. Когда впереди столько бесхозного несчитаного времени, что оно смахивает на вечность.
Прелесть машины времени – в том, что она дарит нам иллюзию другого будущего.
1. Политинформация
У каждого времени есть свои отпечатки пальцев, по которым его легко опознать. В моем советском детстве таких было несколько.
Например, бабушки у подъезда. Мне казалось, что наши пятиэтажки так и сдавались в эксплуатацию в комплекте с этими бабушками. С годами они все глубже врастали в лавочки. Старушки перед моим домом всегда оставляли на скамейке место с краю. Там сидел Гоша – кот с первого этажа. Гоша был глуховат, но при этом любил слушать разговоры бабушек. Может быть, потому что они шелестели для него, как ленивый грибной дождик. По крайней мере, для меня эти разговоры шелестели именно так.
Или дворник. Дворники в то время были уважаемыми людьми. Домовыми двора. Его ангелами-хранителями. Их знала вся округа. И они знали всю округу. У нас работал дворник Володя. Татарин, плохо говорящий по-русски. Имя Володя было его псевдонимом. Однажды он поведал кому-то, что взял себе имя, как у Ленина, чтобы добиться уважения окружающих. Но Володю и так все уважали, и без Ленина.
Он состоял при нашем дворе несколько десятилетий. При нем рождались и умирали жильцы. По роду занятий внимательный к деталям, Володя хранил родословные в памяти. Он мог часами рассказывать внукам об их ушедших дедушках, причем в таких подробностях, которые не всегда были известны их бабушкам. Сам Володя никогда не старел, оставался всегда одинаковым и умер молодым в восемьдесят лет. Ушел дворник в последний день листопада – настоящий профессионал. Его хоронили всем двором. По дороге похоронной процессии не встретилось ни листочка, ни пылинки: лучше эпитафии не придумаешь.
Володя охотно общался со всеми. Как Глеб Жеглов, он держал в голове целую картотеку. Утром он мог крикнуть мне, малолетке: «Ну что, Бальтюк (тяжела была моя фамилия для татарина), сегодня сочинение писать, да?», а вечером: «Эй, Бальтюк, тройка исправил, что ли?» Володя был для всех нас еще одним членом семьи. Некоторыми ребятишками он занимался даже больше, чем их родные отцы. Эти детки бежали из школы с почетными грамотами в руках, чтобы показать их Володе, а не у себя дома. Дворник радовался за них, как за своих детей. Возможно, потому что своих у него не было. У него вообще за душой ничего не было, кроме метлы летом и лопаты зимой. Ничего, кроме самой души, огромной, на килограмм, при наших стандартных шести граммах, как посчитали ученые. Мы все и были его семьей.
И, наконец, политинформация. Этот странный идеологический аппендицит перед первым уроком. Наша классная руководительница, женщина в возрасте, с букетом болезней, ненавидела утро. Утро – это вообще время молодых. Только юные и здоровые его любят. А все остальные: старые и больные, а порой, кому повезет, и просто похмельные, – утро ненавидят.
Учительница ненавидела политинформацию заодно с утром. На моей памяти она не провела ни одного такого урока. Их все провел я. Меня каждый раз единогласно выбирал класс. Ритуал повторялся в точности изо дня в день.
«Кто сегодня прочтет политинформацию?» – трагически вопрошала классная.
«Батлук!» – орали все в один голос.
Меня выбирали потому, что вместо политинформации я пересказывал одноклассникам Жюля Верна. У нас дома было полное собрание его сочинений. Классная руководительница засыпала при первых звуках моего голоса и просыпалась ровно через пять минут. Как Штирлиц под Берлином. Профессиональное, годы тренировок.
Эти пять минут политинформации были только наши, детские, антивзрослые и страшно аполитичные.
Случались, конечно, и казусы. Классная, бывало, просыпалась в самый неподходящий момент. Например, когда профессор Аронакс с Недом Лендом впервые попадали на «Наутилус». Но я, как вражеский шпион, всегда следил одним глазом за периметром. И был готов к любым неожиданностям.
«Кто вы? – спросил профессор незнакомца», – произносил я зловещим голосом. Класс полулежал на партах от предвкушения, подавшись вперед. И тут просыпалась учительница. Мутным заспанным взглядом она обводила класс и останавливалась на мне.
«Кто вы?» – по инерции успевал повторить я, прежде чем замечал движение в периметре.
«Брежнев!» – моментально исправлялся я.
Класс продолжал лежать на партах, но уже беззвучно давясь от хохота.
«Молодец, Батлук, продолжай», – бормотала классная и засыпала снова.
Бабушки на лавочках, родной дворник Володя, уроки политинформации – мое советское детство, где ты?
Наверное, до сих пор плаваешь где-то в бескрайнем океане прошлого неуловимым «Наутилусом» под командованием молчаливого капитана Брежнева, хранящего твои тайны.
2. Психотерапевт Пончик
С детских лет меня тянуло к сбитым летчикам. В то время как у остальных ребят в друзьях были яркие харизматики и лидеры мнений, мне вечно доставались какие-то неудачники-инферналы.
Взять, к примеру, легенду моего детства – ребенка по кличке Пончик. Мы с ним якшались, по меткому определению тогдашних взрослых, в детском саду. Свою кличку он получил не из-за полноты – напротив, Пончик был худым, как жердь. Просто однажды эта тростинка тайком сожрала целый поднос пончиков, приготовленных для нашей группы. Вот уж ни разу не мыслящий тростник, по Паскалю.
Пончик как-то сам приблудился ко мне. И тем самым он моментально отогнал от меня остальных потенциальных друзей в детском саду. Правда, сейчас, с высоты прожитых лет, я понимаю, что в те годы я не был королем танцпола и, скорее всего, никто и так не стал бы дружить с настолько тухлым ребенком. Таким образом, Пончик оказал мне первую бесценную психотерапевтическую услугу, распугав других детей, которые и не собирались со мной знакомиться, чем сэкономил мне ручьи слез по поводу неразделенной взаимности.
Впоследствии Пончик оказал мне множество подобных, по сути, чисто психотерапевтических услуг.
На длинной дистанции наша с ним дружба оказалась для меня психоаналитическим Клондайком. И хотя Пончик все делал не нарочно, каждый раз он ненароком приносил мне врачебную пользу. Такой вот неуклюжий ангел-хранитель. Я до сих пор не понимаю, чем приглянулся тогда этому странному грустному терминатору. Возможно, он встретил во мне родственную душу: я тоже мечтал сожрать целый поднос пончиков, но так и не решился.
Во-первых, Пончик научил меня главному в жизни – есть зубную пасту. В нашем советском детстве была такая детская зубная паста с вишневым, кажется, запахом. Каждый раз во время чистки зубов мне казалось, что я выплевываю в раковину целую горсть сладких спелых вишен. Мне очень хотелось попробовать содержимое тюбика, но однажды родители мне это запретили, когда я, наивный чистый ребенок, спросил у них про это напрямую. Я так бы и заработал на всю жизнь невроз непроглоченного тюбика, если бы не Пончик, который был кем угодно, но только не наивным чистым ребенком. Как-то раз в детском саду он подошел ко мне во время утреннего моциона, взял мою вишневую пасту и начал чистить зубы. Мне так показалось. Только потом я обратил внимание, что щетки-то у него в руках нет. Пончик стоял рядом со мной и за обе щеки уминал вишневую пасту. Позавтракав таким нехитрым способом, он протянул тюбик мне. И тогда я тоже попробовал. Божественная эссенция. По сравнению с ней настоящая вишня – сплошная химия.
Во-вторых, Пончик избавил меня от комплекса неваляшки. Была у нас в том же советском детстве популярная игрушка – пластмассовая девочка с большими печальными глазами, которая не могла лечь спать. Ты ее наклоняешь на бочок – она возвращается в исходное положение. Я страшно переживал за неваляшку из-за ее бессонницы, я пытался помочь малышке, придавливая ее подушкой и садясь сверху. Но девица каждый раз восставала из спящих. И когда у меня уже начал дергаться правый глаз, Пончик подошел ко мне с кирпичом и разбил неваляшку. Неваляшка с гигантской дырой в нижнем шаре очень даже неплохо лежит на боку.
В-третьих, Пончик вылечил меня от котлетного расстройства. Мы с ним на пару терпеть не могли котлеты. Точнее, сначала котлеты не переносил только Пончик. Но после того, как он на ухо сообщил мне новость о том, что котлеты – это дохлые хомячки, я тоже их сразу разлюбил. В те годы в детских садах процветало пищевое насилие. Воспитатели воспитывали нас под популярным лозунгом кубинской революции «Котлета или смерть!». Но Пончик нашел выход. Элегантный и интеллигентный, как все в его арсенале. Он насаживал котлету на вилку и закидывал ее на шкаф. Скоро Пончик и меня научил этому нехитрому приему. Мы с ним сидели за последним столом, на галерке, как и полагается социально чумным детям. Нас было плохо видно. Шкаф стоял почти вплотную: котлетам лететь недалеко. Так что мы практически не промахивались. Через неделю в столовой появился странный запах. Через две он стал невыносимым. Источник смрада обнаружился благодаря местному слесарю, вызванному чинить канализацию. Он слез с того шкафа седым. Видимо, разложившиеся котлеты мутировали в какую-то другую, отвратительную форму жизни, как в фильме ужасов. Иначе чем еще можно объяснить испуг бывалого слесаря, к тому же ни разу не трезвого. Нас с Пончиком разоблачили, усадили за стол в первом ряду и принялись кормить запеканкой со сгущенкой, изверги.
Наконец, с помощью Пончика я преодолел синдром непризнанного гения. С самого детства у меня все валилось из рук. Я родился с коротким тельцем, и руки у меня какое-то время действительно росли оттуда. Снизу. В смысле – не из плеч.
Однажды к празднику Седьмого ноября в нашем саду запланировали выставку детских поделок из пластилина. Целый месяц детвора лепила. Все, кроме Пончика. Он выступал в индивидуальном зачете – рисовал карандашами в темном углу, за отдельным столом. Я тоже лепил. Насколько это было вообще возможно для ребенка, у которого все валится из рук.
В день выставки все пластилиновые поделки выставили на всеобщее обозрение. Среди узнаваемых кошечек, собачек, птичек, рыбок и даже одного узнаваемого слона выделялось одно пластилиновое нечто. Мое. По замыслу под нечто тоже подразумевалась кошечка. Вот только хвостик у нее рос прямо из лобика, и это было наименьшей из ее проблем. Милые детки, они так радовались моему фиаско.
«Это что такое, наверное, батлукоглаз!», «это что такое, наверное, батлукорук!» – неслось со всех сторон.
Так виртуозно мою фамилию ни до, ни после больше никому не удавалось просклонять. Надо отдать воспитателям должное, они пресекли это словотворчество. Ровно в тот момент, когда креативные малыши, перебирая части тела сверху вниз, подозрительно приблизились к области ниже пояса. Воодушевленные моим позором, дети пошли обедать.