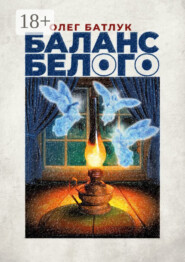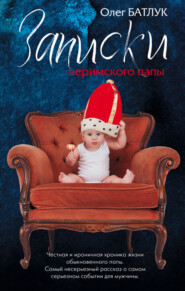По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Исповедь старого молодожена
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Бабушка была для меня непререкаемым авторитетом, поэтому в красивую девочку, кажется, свою ровесницу, я немедленно влюбился. Таким нехитрым способом бабушка сняла с себя обязательство приглядывать за мной, так как в любое время меня можно было найти где-то в периметре у красивой девочки.
Пока все плыли в Нижний, я каждый день плыл в закат. В Мышкине я пищал ей о любви, в Угличе пылал жаркими углями признаний, в Константиново я ничего не делал, поскольку в то время еще мало знал о Есенине.
Про взаимность я умолчу. В двенадцать, когда новое заполняет тебя выше горлышка и из тебя вышибает пробку, взаимность – это что-то второстепенное. Ты весь, с ног до головы, – восхитительная бормотуха, которая бормочет что-то невпопад на дрожжах взросления. Возможно, она тоже любила. Или же ей просто некуда было деваться (теплоход это, по сути, та же подводная лодка…).
Мы с моей избранницей нарезали по теплоходу круги, так что однажды медсестра попросила нас посидеть часок ровно: у стариков от нас закружилась голова. А потом случилась она. «Феличита». Исполненная на тринадцатый день плавания в кают-компании на пианино моим сверстником, который до этого, как последняя крыса, все тринадцать дней отсиживался в своей дешевой каюте в трюме. Он тоже плыл с бабушкой, которая, как видно, была из простых и поступила единственным образом правильно, привязав внучка к кровати на время всего круиза.
Эта змея (внучек, а не его бабушка) выползла из-под своего подпола, уселась за пианино и забацала эту треклятую «Феличиту». В сочетании с фортепиано моя аналогия со змеей начинает заметно хромать, но играла змея замечательно, чем бы она там ни играла. Ей аплодировали. Под видом аплодисментов моя возлюбленная сначала извлекла свою ладонь из моей, под видом тех же аплодисментов ее обратно не вернула и под их же видом подлетела к пианисту и повисла на нем всем своим юным беспринципным существом.
Я смотрел на них, вальсирующих по кают-компании, и у меня тряслись губы. Я бы точно заплакал. Если бы за несколько часов до этой драмы я не выпил три литра ситро, и вся жидкость в моем организме не ушла бы значительно ниже глаз.
В тот момент, когда впервые рухнул мой мир, рассыпавшись на множество маленьких двенадцатилетних девочек, я сжал кулаки, выпрямился в струну и решительно, с драгоценным металлом в голосе сказал сам себе: «Я больше никогда не буду на чужой стороне». Звучит немного нелогично: это меня опять подводит моя любовь к кино, ведь это сказал не я, а Роберт Брюс в «Храбром сердце». Но я сказал похоже, а главное, с точно такой же железобетонной интонацией, как Роберт Брюс в «Храбром сердце», вот прямо точь-в-точь. Формально же я произнес буквально следующее: «Я больше никогда не буду просто слушателем – я научусь играть».
Через два часа после возвращения в Москву из круиза я уже стоял на пороге музыкальной школы: руки в кулаках, вытянутый в струну и с тем же металлом в голосе. По-моему, педагог по фортепиано меня испугалась. «Занятия в 17:00, начинаем завтра», – сказала она и, кажется, заплакала.
На следующий день в 17:00 я не пришел. Потому что на следующий день в 17:00 я гонял с ребятами в футбол на нашей дворовой площадке. И на следующий день в 17:00 тоже. И на следующий. Ведь уже много лет мы с ребятами гоняли на нашей коробке в футбол именно в 17:00. Я не мог это пропустить.
Очевидно, металл в моем голосе был не таким уж и драгоценным.
И да, еще одно: в конечном счете, у каждого возраста свои представления о феличите.
4. Ромик и Джульетта
Нынче дачи уже не те. Попрятались в коттеджах, как Наф-Нафы. Ни одного беспечного Ниф-Нифа на дачных улочках. А чтобы целого живого ребенка встретить – это только по большим праздникам.
А раньше целые живые ребенки сновали здесь, как планктон. Сначала по малолетству все дружно валялись в пыли, а затем, восстав из праха, влюблялись друг в друга. До сих пор помню удивительную love story соседа Ромика.
Ромик был нашим старшим товарищем и до семнадцати лет так и проходил в Ромиках. Мальчик из хорошей семьи, что в его случае звучит как диагноз. Ромик жил на даче с бабушкой-профессором, доктором нескольких взаимоисключающих наук. Она преподавала в трех университетах. Но сухарем в их семье был, как ни странно, Ромик. Мы не раз наблюдали, как почтенная бабушка-профессор выталкивала Ромика за калитку и подпирала ее изнутри кадушкой, чтобы внук не вернулся. Следом через забор летел его велосипед. Ромик для вида делал круг по нашему садовому товариществу, ведя велосипед рядом, что коня в поводу. Мы не знали, умеет ли Ромик кататься, а проверить это шансов не было: велосипед вечно вилял на спущенных шинах. Бабушка-профессор требовала от Ромика возвращаться домой за полночь, как все нормальные подростки, а тот сидел в темноте за поворотом и читал с фонариком книжку.
На дачах кипели латиноамериканские страсти, любви все возрасты покорны, и трехлетки сражались за пятилеток на совочках. Да что там трехлетки, даже я, тринадцатилетний пугливый ландыш, бегал по вечерам к пруду к опытной, четырнадцатилетней.
– Наш-то опять к своей Русалке намылился, – говаривал в то время мой папа.
Бабушка-профессор, наблюдая вокруг всю эту буйную порнографию, совсем захандрила.
– Гляди, в девках останешься! – кричала она Ромику через забор.
И тут на дачах появились они. «Поселковые», как их презрительно называли некоторые дачники. А то, что мы, дачники, бегали в их универсам за продуктами и на почту звонить, как-то забывалось. Поселковые стали приезжать на мотоциклах, попадались среди них и девочки. В первый свой приезд они попытались подраться с нашими старшими ребятами, но вместе так напились, что пришлось подружиться.
В один из вечеров несколько поселковых девушек гуляли по дачным переулкам и набрели на Ромика. Среди них была одна, в которую сразу повлюблялись все наши местные старшеклассники (и я, на всякий случай). Она носила рваные джинсы в обтяжку или «в облипочку», как, некрасиво шамкая, говорили старушки. Джинсы в те годы (восьмидесятые) все еще были общественным вызовом, не говоря уже о драных, не говоря уже о «в облипочку», поэтому не исключено, что все мы влюбились сначала в джинсы, а потом уже в девушку. В любом случае там было, во что влюбляться. Девушка заканчивала школу, и, по словам ее одноклассниц, школа очень ждала того момента, когда их подруга ее наконец закончит.
Поселковая красавица впервые в жизни встретила своего ровесника с книгой. Понятное дело, что разноименные заряды мгновенно притянулись – никакой лирики, чистая физика. Вот это был роман, настоящие Ромик и Джульетта. Их любовь явилась таким чистым недоказуемым чудом, что и поселковые претенденты, и наши дачные ловеласы даже не стали Ромика бить. Ромик ходил по дачам с огромными глазами, как в аниме, и вовсе не из-за своих диоптрий.
А через пару недель я стал свидетелем разговора между моей и Ромиковой бабушкой, которая зашла к нам в гости.
– Вы что, не видите, голубушка, что с ним стало? – причитала моя. – Мальчику поступать, эта оторва совсем вскружила ему голову. Научился выпивать, торчит с ними у костра, бегает на танцы. А недавно, не поверите, недавно я видела его на мотоцикле! За рулем! Он же у вас еще на велосипеде толком не научился, он же упадет! Голубушка, дорогая, вы не знаете, что происходит?
И тут бабушка Ромика, доктор немыслимых наук и профессор всех университетов, наклонилась к собеседнице, заговорщицки подмигнула и шепнула:
– Декабристы разбудили Герцена!
Это было лучшее определение первой любви, которое я слышал.
5. На холмах Грузии
Четырнадцать – хороший возраст, чтобы увидеть Париж и умереть. Мне почти удалось – и то, и другое. Причиной моей преждевременной кончины должна была стать девушка: кто же еще, ведь мы говорим о Париже.
В 1989 году Франция отмечала двухсотлетие своей революции. Для окончательного триумфа праздничному Парижу не хватало одного – нас. Школьников из Московского дворца пионеров. Гости из московских дворцов на празднике сокрушителей Версаля – это было вполне в духе того позднего апокалиптического советского времени.
В нашей лубочно-матрешечной делегации у меня была своя особая артхаусная роль. Меня взяли в группу из кружка «Юный журналист», так что я состоял при ней как бы штатным репортером. И если остальных детей приняли за красивые глаза или за нужного папу, то я числился крепостным летописцем, и с меня причиталось.
Каждый день за границей я был обязан выдавать на-гора ежедневную стенгазету с обзором нашей поездки. С этой целью руководители делегации даже прихватили с собой тубус ватмана (во Франции же нет ватмана, отсталые варвары). По вечерам стенгазету с моими текстами и рисунками высокого мальчика с косоглазием (забыл его имя) торжественно вывешивали в фойе спортшколы, в которой мы жили. Дружественные французские подростки дежурно вздрагивали, проходя мимо. Рисунки косоглазого мальчика были выдержаны в стилистике журнала «Крокодил», этой фирменной советской миролюбивой агрессии, поэтому французы думали, что началась война.
Наша поездка продлилась две недели. Я выдал четырнадцать полноразмерных ватманов. Из них мне не удался лишь один.
В тот день мы посещали французский бассейн. «Посещение французского бассейна» – так и значилось в программке, которая была опубликована накануне в очередном «Вечернем ватмане». Мы прочли уведомление о посещении бассейна с той же возвышенной интонацией, с какой до этого читали новость о «посещении Лувра».
Бассейн и вправду оказался французским. Нет, мы не плавали во «Вдове Клико». Это был открытый бассейн на свежем воздухе с шезлонгами и двумя барами. Истинная французскость бассейна заключалась в том, что на одном из шезлонгов загорала французская девушка топлес. Мы тогда еще не знали слова «топлес». Более того, не уверен, что кто-то из мальчиков в нашей делегации в свои четырнадцать вообще видел женщину топлес. Колхозница Мухиной не в счет (тем более, она вроде бы и не топлес? вот зыбучие пески подростковой памяти!).
О женщине, загорающей у бассейна топлес, рассказала взволнованная девочка из наших рядов. Вся в слезах она прибежала к руководительнице делегации, суровой женщине-методисту не с одним десятком внедренных методичек за спиной, которую мы в первый же день окрестили Фрекен Бок. Девочка решила, что в этих французских бассейнах всех девочек заставляют так ходить, бедняжка. Также она поведала, что той девушке носят коктейли из бара, и на ее глазах распутнице принесли второй. И вот тут в полный рост встало и во всей красе проявилось мое пролетарское мужество.
– Как советский репортер, я должен это увидеть и рассказать стране! – объявил я решительно, взмахнув чубом (чуб тогда еще был в ассортименте), и отправился на верную гибель.
Несколько самых отважных мальчиков вызвались сопровождать меня на такое смертельно опасное задание. Фрекен Бок еще только складывала в уме ускользающий пазл неминуемой катастрофы, когда мы уже выдвинулись на позицию тевтонской свиньей.
Французская девушка топлес почувствовала неладное минут через двадцать, после того как мы прошли мимо нее той самой свиньей в двенадцатый раз. Кажется, она даже поперхнулась пятым коктейлем. От тринадцатого раза нас удержала Фрекен Бок, которая вцепилась в меня мертвой хваткой партийного работника. На наших лицах застыл один и тот же черный страшный взгляд: наши зрачки расширились до размеров глаз.
В тот вечер я писал вдохновенно.
«Солнце пылало в зените», – начал я.
Затем следовали десять абзацев непосредственно про само памятное событие и в конце, как положено:
«Франция – буржуазная страна, где процветают пьянство и разврат».
Фрекен Бок рецензировала все мои ватманы. Того самого, постбассейного, она ждала с особенным нетерпением. Дождавшись, домомучительница от души послюнявила красный карандаш и приступила.
Минут пять она зачеркивала. Я слышал, как натужно скрипел карандаш поверх сокровенного, будто на несмазанных телегах увозили убитые слова.
Фрекен Бок зачеркнула все десять абзацев. Как сейчас помню, там было что-то про утреннюю негу, про тлеющий на жаре пергамент кожи (мог же, шельмец, эх, мог!), про белизну геометрических форм, про обнаженное дыхание жизни и даже, в одном месте, я процитировал: «На холмах Грузии лежит ночная мгла».
Вся наша делегация издалека напряженно наблюдала за Бенкендорфом в юбке. Один из моих товарищей, сопровождавших меня давеча в бассейне в героическом походе, взволнованно шепнул мне на ухо:
– Ты что, про сиськи написал?
Я тяжело вздохнул и закатил глаза. Как мне было объяснить этим люмпенам про мою высокую поэтическую правду…
Закончив экзекуцию моей музы, Фрекен Бок подозвала к себе высокого косоглазого мальчика. В тот вечер высокий мальчик был особенно косоглаз: он ходил к шезлонгу вместе с нами.