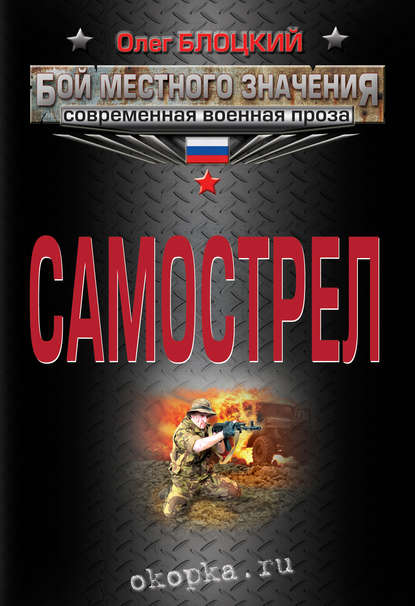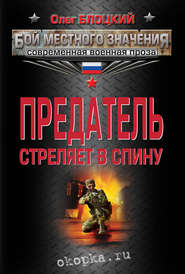По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Самострел
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Самострел
Олег Михайлович Блоцкий
Бой местного значения
Трусость и предательство на войне, из-за которых погибали лучшие бойцы, – это моральное преступление, которое не прощается. Уж сколько лет прошло после Афгана, а бывший солдат все никак не может простить предательство своего сослуживца. Ищет его в мирной жизни, находит и вершит самосуд. Спокойно, как должное, делает то, что не смог сделать тогда, в Афгане. Справедливое возмездие вернулось к предателю из прошлого, настигло, словно давно остывшая пуля или поржавевший осколок гранаты. И все встало на свои места, и вновь воцарилась гармония и справедливость… Война никогда не отпускает тех, кто на ней побывал. Она всегда возвращается, довершая то, что живые или мертвые не успели сделать. И это та суровая правда, которую хочет донести до читателей автор книги, сам прошедший ад войны.
Олег Блоцкий
Самострел
Убийца
Поздний вечер. Я неторопливо иду к его дому. Теперь я знаю точно, где он живет. Я хорошо изучил этот район. Сам город не интересует меня. А если честно – я его ненавижу. Меня трясет от злобы, когда вижу эти дома, улицы, перекрестки. Я готов уничтожить их напрочь. Будь моя воля – превратил бы этот город в пыль. А все потому, что в нем живет он.
Но у меня нет атомной бомбы, снарядов объемного взрыва и даже обычного гранатомета… Ни напалма у меня нет, ни огнемета. Знакомые «братки» предлагали пистолет. Зачем? Просто пристрелить – это слишком легкая смерть. Она для него – подарок. Нет…
Я буду убивать его почти голыми руками. На Востоке это умеют делать медленно. Я тоже так… Пусть он от страха наложит себе в штаны… Потом сдохнет. Это я решил твердо. Еще тогда.
Поэтому в моем кармане лежит тоненькая удавка. Она как из парашютной стропы. Валеркин аксельбант – единственная память о друге. Валерка сплел его к дембелю, но так и не украсил им свою парадку. Я распустил аксель и из стропы соорудил подвижную петлю. Знаю – в нужный момент не подведет.
Бесшумно ступаю по асфальту. Мягкая тьма. Полутемные витрины магазинов. Навстречу – редкие прохожие. Но я спокоен. Я уверен: на меня – ноль внимания. Когда-то наш старлей говорил: «Чтобы стать незаметным, следует выйти на самое открытое место». Много времени прошло, прежде чем мы – салаги и сопляки – усекли эту великую истину.
Я спокойно иду к его дому. Не шарахаюсь из стороны в сторону, не оглядываюсь постоянно назад. Я обычный человек. И одежда на мне самая простая: кроссовки, джинсы, рубашка. Я не бросаюсь в глаза – нормальная прическа, ничем не примечательное лицо. На нем – скучающее выражение. А что мне волноваться? Все уже сто раз считано-пересчитано. Свидание состоится сегодня. Осечки быть не должно – интуиция. Может, двадцатое чувство. Не знаю. Но оно еще ни разу меня не подводило.
Все закончится в ближайшие часы.
Три дня я проторчал на чердаке соседнего дома. Уходил только на ночь. Я следил за его квартирой. Он был там. Вместе с женой. И с ребенком… Он единственный из них ни в чем не виноват. Жену его – сучку – тоже кончать не буду. По ней моя петелька ой как тоскует. Ведь именно эта шлюха помогла ему ускользнуть от нас. Это она помешала мне рассчитаться с ним еще в Афгане. А значит, из-за нее мне пришлось столько времени носить эту тяжесть в себе. Совесть моя была неспокойна… Что может быть страшнее невыполненного долга? Пусть даже Валерка об этом и не узнает. Но я-то жив!
Жив пока и этот, но сегодня ему никто не поможет. Здесь не кабульская инфекционка, до которой мне было не добраться.
Валерка погиб из-за него. Сделай этот шакал все так, как ему приказал Ким, мой друган остался бы жив. И Булька не валялся бы в госпитале с перебитыми ногами. Эта падаль побежала потрошить вшивый дукан. Знал же, гад, что духи в том кишлаке борзые и хитрые, но все повернул по-своему. И Валерку убили.
Только Ким помешал нам замесить эту чамару еще там. Старлей отогнал нас от него и сказал, что будет суд. Но комбриг суда не допустил. Полковнику звезда Героя падала – наши группы все время забивали большие караваны. Комбриг не хотел чепе, и дело замяли.
Но группа прощать Валерку и Бульку не собиралась. У нас свой суд… Долго мы эту падлу терпели, но после Хаджидарры решили – не жить ему. Первый же выход оказался бы для него последним. Вперед ногами в батальон бы приволокли.
Он это почувствовал. Нюхом учуял, волчара паршивый, и слинял. Грамотно закосил: мочи желтушной полбанки высосал и смылся побыстрее в заразку. А там дуру эту нашел.
И вот я перед домом. Хорошее место. Темное. Деревьев много – почти лес. Стена длинная, и гаражи стоят. Вот за ними я тебя и кончу. Никто не услышит. Никто не увидит. Никто не спасет.
На кухне у него горит свет. Что? Ждешь, дура? Ну жди, жди. Я понимаю: десять лет разницы – не сахар. Кому ты, страшная такая, здесь нужна? Даже он в гробу тебя видел, хоть ты от него и смерть отвела. Здесь он гуляет – тебя не стесняется. Ты за порог – он в дом бабу тащит. А в Кабуле, конечно, плакался, что любит тебя, что жить без тебя не может. Ты и развесила уши. А он тебе на них лапшу вешал. Тоннами. Он такой… Кого хочешь может уболтать. И тебя, глупую, он тоже обманул. А ты и поверила. Кому-то, видно, подмахнула передком, и его в роте охраны заразки оставили. Перевели, значит, от нас. Так вы почти сразу и поженились. А потом сюда сорвались. Это он тебя квартиру поменять подговорил. Боялся, сволочь, что мы адрес через строевую часть узнаем. Правильно сделал. Но и здесь ему не отлежаться. Нет ему за Валерку прощения!
Я сижу возле гаражей. Жду. Я умею ждать! На войне научился этому. Уметь ждать – целая наука. Горе тому, кто не знает ее. Тут главное – не перегореть раньше времени, не загнать себя разными глупыми мыслями. Правильно этот, как его там, Дзержинский, говорил: голова должна быть холодной. Если нет, то метаться начнешь и погубишь себя. Завалят тебя, как свинью.
Наш старлей, кореец по национальности, толковый был. «Каждый из вас должен стать барсом. Не зря мы работаем по ночам, – наставлял он нас, – вы должны бесшумно ходить, все замечать, а главное – вы должны научиться расслабляться».
Сила собирается, только когда очень расслабишься. А потом – неожиданный удар. Смертельный!
Вот я и сейчас расслаблен. Смотрю на дорогу. Она пуста. Но ничего, я подожду. Кто не умеет ждать – тот начинает дергаться. Так говорил Ким. Я с ним согласен. Я ждал эти шесть лет, пока делал запросы в военкоматы. Я писал, что потерял из виду своего боевого дружка. Разминулись в Афгане наши стежки-дорожки. В госпиталь он угодил. А теперь мне жизнь без него опостылела. Страсть как хочу увидеть его. И это было правдой!
В военкоматах с ответами медлили. Но я ждал. И этот счастливый миг наступил.
Клянусь, в тот день выдержка изменила мне. Руки дрожали. Читал ответ, и перед глазами прыгали слова. Из них складывались предложения: «На Ваш запрос сообщаем, что сержант запаса… (вот сволочь – сержантом стал!) проживает по адресу…» Что ж, именно по этому адресу я и пришел.
Перед поездкой был у Пашки. Пашка сейчас мент, работает в уголовке. Говорит, что жить спокойно не может и скоро блатные за борзость его прибьют. Пашка четкий мужик, и я, наверное, пойду в их ОМОН. Правильно говорит Пашка: всю сволоту надо стрелять, чтобы не мы их, а они нас боялись. По-хорошему они все равно не понимают.
Мы пили водку, вспоминали ребят и смотрели фотографии. На них был и Валерка. Каждый раз у меня давило сердце и молоточек постукивал в висках…
Кто поймет, что значил для меня Валерка? Он просто был, и этим все сказано. Все, что говорят по телевизору и пишут в газетах про войну в Афгане, – хренотень! Что они знают? Что понимают в этом? А все в душу лезут! «Последний глоток! Последний сухарь! Последний патрон для себя… Мужество… Верность долгу…»
С-с-сучары! Ни черта они не видели! Разве они брали караваны? Разве они были на облетах? Разве они ползали по горкам? Разве это их мочили душары в узком ущелье Спиндак, где погиб Ким?
Вот Высоцкий – мужик. Когда слышу его песню, где один парень просит другого оставить покурить, – плачу. Я тоже не мог поверить, что Валерку убили. Все время думал, что он где-то рядом стоит. Оборачиваюсь, а его нигде нет. Но чувство такое, что он близко-близко, только я его не вижу. А эти? Никогда они не поймут наших отношений. Для этого под смертью надо ходить. Долго, очень долго.
Я вздрагиваю. Слышен шум шагов. Я делаю резкие движения руками. Сжимаю, разжимаю пальцы. Напрягаю и расслабляю мышцы ног. Я готов! Я вижу его и знаю, что надо делать. Он идет, насвистывает и руки держит в карманах. Это хорошо. Меньше возни. Я выхожу на тротуар.
Даже ночью вижу, как он побледнел. Но крикнуть он не успевает. Я вырубаю его, вскидываю на плечи и иду за гаражи.
Через час с небольшим все было кончено. Я ослаблял петлю. Затем все начиналось сначала. В конце концов я его задушил. Нить врезалась в кожу медленно. Он хрипел. Потом хлынула кровь: из носа, рта, ушей. Хрустнула шея. Конец.
Я повернул в обратный путь. Я шел и думал – заметут меня или нет. Отсчитывал время назад. Запросы посылал под другим именем и на совершенно левый адрес. Удавку забрал. Афган никто не вспомнит. При чем здесь он? Даже если эта дуреха что-то знает – она ничего говорить не будет. Она не малолетка и прекрасно понимает, что мы шутить не станем. Впрочем, ментам и без нас дел хватает.
Пашка рассказывал интересную вещь. Оказывается, их шеф по пьянке раскололся про дела, которые начались в конце пятидесятых и шли все шестидесятые годы. Тогда сыскари ничего в толк взять не могли. Людей вокруг убивали грамотно, но как-то бестолково. Деньги не брали, вещи тоже. Уголовка с ног сбилась. А потом менты поняли одну вещь. Все покойники – бывшие фронтовики. Кто-то из них книжонку выпустил, а кто-то по радио стал выступать: рассказывать народу, как он героически в атаку ходил. Вот их, этих псевдогероев, и вычислили. Видно, на той войне тоже дела крутые были, одни кровь проливали, другие шкурничали…
Уголовка такие убийства почти никогда не раскрывала.
Я понимаю – почему. Потяни мужиков – и они такое бы про некоторых героев рассказали, что им бы памятники сразу снесли. У нас тоже есть такие. Но пусть их другие отлавливают. Я свое дело сделал. И я спокоен. Тот червяк, который грыз меня все это время изнутри, подох вместе с этим уродом…
Утро. День обещает быть ярким, солнечным и теплым. На вокзале не протолкнуться. Я сажусь в пригородную электричку. В ней доберусь до другого города. А оттуда рвану на поезде домой. Конечно, отсюда можно и напрямую. Но я – не дурак…
Письмо из дома
1
Обязательный сон после обеда закончился, и солдаты, вспотевшие, вялые, всклокоченные, не выспавшиеся, а лишь одуревшие от двух часов, проведенных в парилках-кубриках, медленно вползали в курилку.
Батальонные почтальоны, подгоняемые нетерпеливыми товарищами, торопились в клуб. Там киномеханик и одновременно главный почтальон полка уже раскидал по литерам письма, газеты и журналы, уложив их разными по высоте стопками на длинный деревянный стеллаж.
Солдаты терпеливо сидели под маскировочной сетью. На них пятнами ложился солнечный свет. Пехотинцы густо кропили плевками спрессованную, жесткую землю и гадали – будут им письма или нет.
Наконец появлялся Юрка Свиридов. Разговоры обрывались. Все вытягивали шеи и наперебой спрашивали о письмах. Свиридов оставался, как всегда, непреклонен и традиции не изменял. Сохраняя строгое выражение лица, Юрка доставал пачку писем, как опытный оратор выдерживал паузу – томил немножко товарищей, а затем принимался за дело.
Почтальон громко выкрикивал фамилии. Названные протискивались к нему. Перед тем как вручить письмо счастливчику, Юрка проделывал особый ритуал, который неизвестно кем и когда был заведен в полку, но чрезвычайно строго соблюдался во всех подразделениях.
С салабонами почтальон не церемонился. Юрка слегка надрывал конверт, надувал его и укладывал на ладонь. Дух быстренько разворачивался к Свиридову спиной и слегка пригибался. Юрка с размаху лепил ладонью по шее молодому. Конверт хлопал и разрывался. Дух тряс головой и смеялся вместе со всеми, получая заветное письмо. Такие шлепки по холке отрабатывались только на молодых, и называлось это – вскрыть конверт.
Остальных, кто был сроком службы старше, Свиридов бил письмами по носу. Количество ударов зависело от их числа. Но лупил Юрка с разбором.
«Чижам» доставалось больше всего. Юрка, прикусывая кончик языка, отступал на полшага и заносил мускулистую руку высоко вверх. Удар выходил замечательный: хлесткий, резкий и по самому кончику носа.
Олег Михайлович Блоцкий
Бой местного значения
Трусость и предательство на войне, из-за которых погибали лучшие бойцы, – это моральное преступление, которое не прощается. Уж сколько лет прошло после Афгана, а бывший солдат все никак не может простить предательство своего сослуживца. Ищет его в мирной жизни, находит и вершит самосуд. Спокойно, как должное, делает то, что не смог сделать тогда, в Афгане. Справедливое возмездие вернулось к предателю из прошлого, настигло, словно давно остывшая пуля или поржавевший осколок гранаты. И все встало на свои места, и вновь воцарилась гармония и справедливость… Война никогда не отпускает тех, кто на ней побывал. Она всегда возвращается, довершая то, что живые или мертвые не успели сделать. И это та суровая правда, которую хочет донести до читателей автор книги, сам прошедший ад войны.
Олег Блоцкий
Самострел
Убийца
Поздний вечер. Я неторопливо иду к его дому. Теперь я знаю точно, где он живет. Я хорошо изучил этот район. Сам город не интересует меня. А если честно – я его ненавижу. Меня трясет от злобы, когда вижу эти дома, улицы, перекрестки. Я готов уничтожить их напрочь. Будь моя воля – превратил бы этот город в пыль. А все потому, что в нем живет он.
Но у меня нет атомной бомбы, снарядов объемного взрыва и даже обычного гранатомета… Ни напалма у меня нет, ни огнемета. Знакомые «братки» предлагали пистолет. Зачем? Просто пристрелить – это слишком легкая смерть. Она для него – подарок. Нет…
Я буду убивать его почти голыми руками. На Востоке это умеют делать медленно. Я тоже так… Пусть он от страха наложит себе в штаны… Потом сдохнет. Это я решил твердо. Еще тогда.
Поэтому в моем кармане лежит тоненькая удавка. Она как из парашютной стропы. Валеркин аксельбант – единственная память о друге. Валерка сплел его к дембелю, но так и не украсил им свою парадку. Я распустил аксель и из стропы соорудил подвижную петлю. Знаю – в нужный момент не подведет.
Бесшумно ступаю по асфальту. Мягкая тьма. Полутемные витрины магазинов. Навстречу – редкие прохожие. Но я спокоен. Я уверен: на меня – ноль внимания. Когда-то наш старлей говорил: «Чтобы стать незаметным, следует выйти на самое открытое место». Много времени прошло, прежде чем мы – салаги и сопляки – усекли эту великую истину.
Я спокойно иду к его дому. Не шарахаюсь из стороны в сторону, не оглядываюсь постоянно назад. Я обычный человек. И одежда на мне самая простая: кроссовки, джинсы, рубашка. Я не бросаюсь в глаза – нормальная прическа, ничем не примечательное лицо. На нем – скучающее выражение. А что мне волноваться? Все уже сто раз считано-пересчитано. Свидание состоится сегодня. Осечки быть не должно – интуиция. Может, двадцатое чувство. Не знаю. Но оно еще ни разу меня не подводило.
Все закончится в ближайшие часы.
Три дня я проторчал на чердаке соседнего дома. Уходил только на ночь. Я следил за его квартирой. Он был там. Вместе с женой. И с ребенком… Он единственный из них ни в чем не виноват. Жену его – сучку – тоже кончать не буду. По ней моя петелька ой как тоскует. Ведь именно эта шлюха помогла ему ускользнуть от нас. Это она помешала мне рассчитаться с ним еще в Афгане. А значит, из-за нее мне пришлось столько времени носить эту тяжесть в себе. Совесть моя была неспокойна… Что может быть страшнее невыполненного долга? Пусть даже Валерка об этом и не узнает. Но я-то жив!
Жив пока и этот, но сегодня ему никто не поможет. Здесь не кабульская инфекционка, до которой мне было не добраться.
Валерка погиб из-за него. Сделай этот шакал все так, как ему приказал Ким, мой друган остался бы жив. И Булька не валялся бы в госпитале с перебитыми ногами. Эта падаль побежала потрошить вшивый дукан. Знал же, гад, что духи в том кишлаке борзые и хитрые, но все повернул по-своему. И Валерку убили.
Только Ким помешал нам замесить эту чамару еще там. Старлей отогнал нас от него и сказал, что будет суд. Но комбриг суда не допустил. Полковнику звезда Героя падала – наши группы все время забивали большие караваны. Комбриг не хотел чепе, и дело замяли.
Но группа прощать Валерку и Бульку не собиралась. У нас свой суд… Долго мы эту падлу терпели, но после Хаджидарры решили – не жить ему. Первый же выход оказался бы для него последним. Вперед ногами в батальон бы приволокли.
Он это почувствовал. Нюхом учуял, волчара паршивый, и слинял. Грамотно закосил: мочи желтушной полбанки высосал и смылся побыстрее в заразку. А там дуру эту нашел.
И вот я перед домом. Хорошее место. Темное. Деревьев много – почти лес. Стена длинная, и гаражи стоят. Вот за ними я тебя и кончу. Никто не услышит. Никто не увидит. Никто не спасет.
На кухне у него горит свет. Что? Ждешь, дура? Ну жди, жди. Я понимаю: десять лет разницы – не сахар. Кому ты, страшная такая, здесь нужна? Даже он в гробу тебя видел, хоть ты от него и смерть отвела. Здесь он гуляет – тебя не стесняется. Ты за порог – он в дом бабу тащит. А в Кабуле, конечно, плакался, что любит тебя, что жить без тебя не может. Ты и развесила уши. А он тебе на них лапшу вешал. Тоннами. Он такой… Кого хочешь может уболтать. И тебя, глупую, он тоже обманул. А ты и поверила. Кому-то, видно, подмахнула передком, и его в роте охраны заразки оставили. Перевели, значит, от нас. Так вы почти сразу и поженились. А потом сюда сорвались. Это он тебя квартиру поменять подговорил. Боялся, сволочь, что мы адрес через строевую часть узнаем. Правильно сделал. Но и здесь ему не отлежаться. Нет ему за Валерку прощения!
Я сижу возле гаражей. Жду. Я умею ждать! На войне научился этому. Уметь ждать – целая наука. Горе тому, кто не знает ее. Тут главное – не перегореть раньше времени, не загнать себя разными глупыми мыслями. Правильно этот, как его там, Дзержинский, говорил: голова должна быть холодной. Если нет, то метаться начнешь и погубишь себя. Завалят тебя, как свинью.
Наш старлей, кореец по национальности, толковый был. «Каждый из вас должен стать барсом. Не зря мы работаем по ночам, – наставлял он нас, – вы должны бесшумно ходить, все замечать, а главное – вы должны научиться расслабляться».
Сила собирается, только когда очень расслабишься. А потом – неожиданный удар. Смертельный!
Вот я и сейчас расслаблен. Смотрю на дорогу. Она пуста. Но ничего, я подожду. Кто не умеет ждать – тот начинает дергаться. Так говорил Ким. Я с ним согласен. Я ждал эти шесть лет, пока делал запросы в военкоматы. Я писал, что потерял из виду своего боевого дружка. Разминулись в Афгане наши стежки-дорожки. В госпиталь он угодил. А теперь мне жизнь без него опостылела. Страсть как хочу увидеть его. И это было правдой!
В военкоматах с ответами медлили. Но я ждал. И этот счастливый миг наступил.
Клянусь, в тот день выдержка изменила мне. Руки дрожали. Читал ответ, и перед глазами прыгали слова. Из них складывались предложения: «На Ваш запрос сообщаем, что сержант запаса… (вот сволочь – сержантом стал!) проживает по адресу…» Что ж, именно по этому адресу я и пришел.
Перед поездкой был у Пашки. Пашка сейчас мент, работает в уголовке. Говорит, что жить спокойно не может и скоро блатные за борзость его прибьют. Пашка четкий мужик, и я, наверное, пойду в их ОМОН. Правильно говорит Пашка: всю сволоту надо стрелять, чтобы не мы их, а они нас боялись. По-хорошему они все равно не понимают.
Мы пили водку, вспоминали ребят и смотрели фотографии. На них был и Валерка. Каждый раз у меня давило сердце и молоточек постукивал в висках…
Кто поймет, что значил для меня Валерка? Он просто был, и этим все сказано. Все, что говорят по телевизору и пишут в газетах про войну в Афгане, – хренотень! Что они знают? Что понимают в этом? А все в душу лезут! «Последний глоток! Последний сухарь! Последний патрон для себя… Мужество… Верность долгу…»
С-с-сучары! Ни черта они не видели! Разве они брали караваны? Разве они были на облетах? Разве они ползали по горкам? Разве это их мочили душары в узком ущелье Спиндак, где погиб Ким?
Вот Высоцкий – мужик. Когда слышу его песню, где один парень просит другого оставить покурить, – плачу. Я тоже не мог поверить, что Валерку убили. Все время думал, что он где-то рядом стоит. Оборачиваюсь, а его нигде нет. Но чувство такое, что он близко-близко, только я его не вижу. А эти? Никогда они не поймут наших отношений. Для этого под смертью надо ходить. Долго, очень долго.
Я вздрагиваю. Слышен шум шагов. Я делаю резкие движения руками. Сжимаю, разжимаю пальцы. Напрягаю и расслабляю мышцы ног. Я готов! Я вижу его и знаю, что надо делать. Он идет, насвистывает и руки держит в карманах. Это хорошо. Меньше возни. Я выхожу на тротуар.
Даже ночью вижу, как он побледнел. Но крикнуть он не успевает. Я вырубаю его, вскидываю на плечи и иду за гаражи.
Через час с небольшим все было кончено. Я ослаблял петлю. Затем все начиналось сначала. В конце концов я его задушил. Нить врезалась в кожу медленно. Он хрипел. Потом хлынула кровь: из носа, рта, ушей. Хрустнула шея. Конец.
Я повернул в обратный путь. Я шел и думал – заметут меня или нет. Отсчитывал время назад. Запросы посылал под другим именем и на совершенно левый адрес. Удавку забрал. Афган никто не вспомнит. При чем здесь он? Даже если эта дуреха что-то знает – она ничего говорить не будет. Она не малолетка и прекрасно понимает, что мы шутить не станем. Впрочем, ментам и без нас дел хватает.
Пашка рассказывал интересную вещь. Оказывается, их шеф по пьянке раскололся про дела, которые начались в конце пятидесятых и шли все шестидесятые годы. Тогда сыскари ничего в толк взять не могли. Людей вокруг убивали грамотно, но как-то бестолково. Деньги не брали, вещи тоже. Уголовка с ног сбилась. А потом менты поняли одну вещь. Все покойники – бывшие фронтовики. Кто-то из них книжонку выпустил, а кто-то по радио стал выступать: рассказывать народу, как он героически в атаку ходил. Вот их, этих псевдогероев, и вычислили. Видно, на той войне тоже дела крутые были, одни кровь проливали, другие шкурничали…
Уголовка такие убийства почти никогда не раскрывала.
Я понимаю – почему. Потяни мужиков – и они такое бы про некоторых героев рассказали, что им бы памятники сразу снесли. У нас тоже есть такие. Но пусть их другие отлавливают. Я свое дело сделал. И я спокоен. Тот червяк, который грыз меня все это время изнутри, подох вместе с этим уродом…
Утро. День обещает быть ярким, солнечным и теплым. На вокзале не протолкнуться. Я сажусь в пригородную электричку. В ней доберусь до другого города. А оттуда рвану на поезде домой. Конечно, отсюда можно и напрямую. Но я – не дурак…
Письмо из дома
1
Обязательный сон после обеда закончился, и солдаты, вспотевшие, вялые, всклокоченные, не выспавшиеся, а лишь одуревшие от двух часов, проведенных в парилках-кубриках, медленно вползали в курилку.
Батальонные почтальоны, подгоняемые нетерпеливыми товарищами, торопились в клуб. Там киномеханик и одновременно главный почтальон полка уже раскидал по литерам письма, газеты и журналы, уложив их разными по высоте стопками на длинный деревянный стеллаж.
Солдаты терпеливо сидели под маскировочной сетью. На них пятнами ложился солнечный свет. Пехотинцы густо кропили плевками спрессованную, жесткую землю и гадали – будут им письма или нет.
Наконец появлялся Юрка Свиридов. Разговоры обрывались. Все вытягивали шеи и наперебой спрашивали о письмах. Свиридов оставался, как всегда, непреклонен и традиции не изменял. Сохраняя строгое выражение лица, Юрка доставал пачку писем, как опытный оратор выдерживал паузу – томил немножко товарищей, а затем принимался за дело.
Почтальон громко выкрикивал фамилии. Названные протискивались к нему. Перед тем как вручить письмо счастливчику, Юрка проделывал особый ритуал, который неизвестно кем и когда был заведен в полку, но чрезвычайно строго соблюдался во всех подразделениях.
С салабонами почтальон не церемонился. Юрка слегка надрывал конверт, надувал его и укладывал на ладонь. Дух быстренько разворачивался к Свиридову спиной и слегка пригибался. Юрка с размаху лепил ладонью по шее молодому. Конверт хлопал и разрывался. Дух тряс головой и смеялся вместе со всеми, получая заветное письмо. Такие шлепки по холке отрабатывались только на молодых, и называлось это – вскрыть конверт.
Остальных, кто был сроком службы старше, Свиридов бил письмами по носу. Количество ударов зависело от их числа. Но лупил Юрка с разбором.
«Чижам» доставалось больше всего. Юрка, прикусывая кончик языка, отступал на полшага и заносил мускулистую руку высоко вверх. Удар выходил замечательный: хлесткий, резкий и по самому кончику носа.