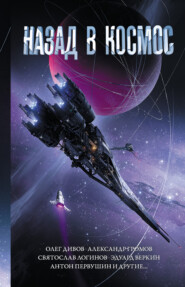По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Город счастливых роботов (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Сам мистер Джозеф Пападакис усидел в своем кресле чудом. Видимо, на тот момент в резерве штаб-квартиры не было второго такого эталонного пиндоса, чтобы назначить его директором российского завода.
Говорят, Пападакис именно тогда с горя закурил, после чего швырнул пепельницей в Васю-Профсоюза, но это дело темное, свидетелей не было, а в Васю хоть дерьмом кидайся, следов не останется, он ведь Профсоюз.
Народ обиделся за офис-менеджера и перекрестил Пападакиса во Впопудакиса. Адаптировал, так сказать, к местному колориту. Естественно, стукнули. Впопудакис отозвался на этот мирный, в общем-то, креативчик такой фигней, за которую Дональд его просто убил бы. Теперь каждый сотрудник подписывал Кодекс еженедельно. Спасибо, экзамен не сдавал. Хотя могли и спросить внезапно. И наказать, если запамятовал.
И это было только начало.
* * *
Когда мы с Кеном встали к конвейеру, там с Кодексом уже смирились, все-таки второй год пошел. Терпели его как необходимое зло, которым начальники прессуют народ, дабы русским жизнь медом не казалась – вроде закона об оскорблении всякой сволочи. Нашлись даже умники, что говорили, будто Кодекс держит заводчан то ли в узде, то ли в тонусе, а без него бы мы совсем распоясались. Вот как до закона об оскорблении всякой твари россияне были невоспитанные, просто ужас. Ругали последними словами все, что им не нравится, – чурок, жидов, коммунистов, капиталистов, гомосексуалистов, футболистов и даже, подумать страшно, Церковь и Президента. А сейчас не ругают. Кстати, пиндосы тоже были невоспитанные, пока не ввели у себя толерантность. А теперь глядите, как лыбятся.
Верите, нет, говорилось это на полном серьезе.
Так или иначе, обстановка на заводе более-менее утряслась, наступила эра «водяного перемирия», как у зверей в засуху. Рабочие старались не кусать руку кормящую, а дирекция, в свою очередь, нагибала русский стафф плавно и постепенно, чтобы у него нигде не треснуло.
Да, у нас хватало поводов жаловаться на жизнь и ругать пиндосов. Но хотя бы гонку за эффективностью заводчане все еще держали за чистую монету. Тем более наши действительно могли кого угодно научить крутить гайки наилучшим образом. Не сразу до народа дошло, что с некоторых пор «совещание по эффективности» – психотерапия для нищих духом: вот какие мы клевые ребята, как мы друг друга уважаем… Теперь любая идея, которая шла в стороне от тренда, исчезала в недрах пиндосского бюрократического аппарата – и с концами. А идеи, лежащие в тренде, аппарат генерировал сам – и спускал на завод в виде приказов о повышении креативности борьбы за что-нибудь. Да какая разница, какой фигней страдать.
Процесс осознания растянулся на годы, но постепенно даже до последнего русского идиота дошло, что нас заставляют страдать фигней. В один поганый денек это понял буквально каждый, набралась критическая масса, и терпение народа лопнуло. Проснулась страшная штука – рабочая гордость. Народ принялся чудить, дурить, вежливо хамить начальству, всячески ехидничать и вообще забивать болт.
Забивали болты строго в переносном смысле. У заводских по-прежнему было ощущение, что в их сторону нет-нет да поглядывает вся страна. Поэтому завод оставался чемпионом марки, и наша с Михалычем смена была чемпионом завода. Нас приучили к тому, что мы – шикарные ребята, лучшие из лучших.
Но только не надо капать на мозги.
А нам капали и капали.
Не реже, чем раз в квартал, штаб-квартира рожала очередную адски креативную бредятину, и завод начинал ее эффективно внедрять. Допустим, нашивки на рукав за выслугу лет. Чтобы сразу было видно, кто уже вконец опупел, поскольку шестой год втыкает болт в одну и ту же дырку… Или конкурс на лучший плакат-мотиватор. Чтобы сразу было понятно, у кого чувство юмора окончательно отшибло.
Русские, конечно, и не такие инициативы кидали через бедро. Но, к сожалению, отчитывалась за внедрение бреда в производство вся командная цепочка, от тим-лидеров снизу до мистера Джозефа Пападакиса наверху. Так что, например, Джейн и Кен исправно получали свою порцию ненависти на большой совковой лопате. Сначала от нас, потом от дирекции. Джейн на это глядела философски – ей надо было расти, чтобы поставить на уши мировую автомобильную промышленность. Пять-шесть лет на заводе стояли у нее в жизненном плане как ступенька карьерной лестницы, а ради своих планов она могла стерпеть очень многое. А вот Кен, похоже, начал задумываться, не ошибся ли с выбором профессии. Ему предстояло трубить на компанию еще несколько лет, чтобы рассчитаться за учебу, и все эти годы его бы дрючили. Конечно, он мог попросить отца вытащить сыночка за шкирку оттуда, где ему скучно и грустно, куда-нибудь в исследовательский центр. Это означало поднять лапки кверху и признать, что кишка тонка. Сдаваться Маклелланды не умели, порода не та.
Вдобавок Кен действительно здорово обрусел. Ему у нас до поры до времени было очень хорошо – первый парень на деревне, я даже ревновал. И вдруг ему стало плохо, и это беднягу просто убивало. Он ведь привык, что его на заводе любят и в городе любят, что он тут повсюду свой. А теперь он был как бы не вполне свой, поскольку, надев галстук, стал играть на стороне пиндосов, хоть и вынужденно. Слесарь-сборщик Кен нравился всем и каждому, за исключением тех, кто имел виды на его очередную подружку. Напротив, господин инженер Маклелланд нравился очень немногим, и лишь девчонки млели от него по-прежнему. Увы, девчонок на заводе явно не хватало, чтобы Кен чувствовал себя в своей тарелке. Немногим больше года прошло, как он ходил в «начальниках», и никому худого слова не сказал, но самые грубые из старых знакомых могли запросто бросить ему под горячую руку: «Ты либо галстук сними, либо вали в свой Пиндостан!»
Что интересно, совершенно таких же русских «молодых специалистов» – учились в нашей школе, стояли с нами на конвейере, пошли в институт, вернулись и надели галстуки – никто особо не обижал. К ним относились слегка насмешливо, и только. А из-за Кена народ прямо скрипел зубами. Словно Кен разрушил мечту о правильном американском парне, из которого едва не получился эталонный русак, такой же, как и мы – но свернул на кривую дорожку, ведущую к власти. Может, я сейчас и угадал. Так или иначе, к нему иногда цеплялись и делали это по-хамски. Знали, что не настучит – ни по морде, ни в дирекцию.
По мордам приходилось стучать нам с Михалычем.
Правда, я обычно не успевал.
Мы приходили, и Михалыч спрашивал:
– Кто обидел моего друга?
Народ испуганно глядел в мою сторону – меня ведь никто не обижал. Михалыч тоже глядел в мою сторону и говорил:
– А-а… Это не друг. Это Миша. Точнее, Михалсергеич. А я Михалмихалыч, смотрите не перепутайте… И Я СЕЙЧАС КОМУ-ТО, БЛИН, МАНИПУЛЯТОРЫ ОТОРВУ!!!
Если Михалыч впадал в буйство, его не останавливала ни травмированная спина, ни полицейская машина – только капитальная стена, это все знали. Он превращался в берсерка Бьерна Бьернссона и чувствовал себя прекрасно, а я оказывался его конунгом Идиотом Идиотссоном, на которого потом сыплются все шишки (мама у моего тезки была тоже крутого нрава и последние лет двадцать уверена, что я плохо влияю на мальчика). Поэтому народ забивался в угол и оттуда глядел на меня с надеждой: Михалсергеич, дорогой, ну зачем тебе опять неприятности? А я выступал с короткой лекцией о том, какой хороший парень Кеннет Маклелланд из клана Маклелландов и почему обижать его не надо – если, конечно, удавалось сперва поймать Михалыча.
В любом случае мы потом с народом пили мировую, и как-то все устаканивалось. До следующего раза. Кен дулся на нас за то, что мы его защищаем, и это было забавно. Джейн обзывала нас детьми и придурками, и это начинало уже надоедать. Джейн вообще странно на нас поглядывала.
Она будто что-то решала для себя.
Тут еще Михалыч ей платонически изменил – завел себе подружку с серьезными намерениями. А мне даже неинтересно было, с кем Джейн спит после развода и спит ли вообще. Может, нашу целеустремленную девушку ждал в постели резиновый цитрус, кто знает.
До сих пор иногда кажется – лучше бы я повел себя более решительно, когда ее звали еще Женькой.
Глядишь, все сложилось бы иначе.
Откуда во мне эта жертвенность, ума не приложу.
Национальный менталитет, что ли.
* * *
Очередное «совещание по эффективности» было каким-то расширенным, или итоговым, или образцово-показательным, кто их, пиндосов, разберет. И тут мы довыпендривались. Залетели на ровном месте.
Нашему участку с этими липовыми совещаниями относительно повезло – время от времени их проводил Кен. Ну прямо глоток свежего воздуха. В кои-то веки серьезный и интересный разговор, а еще возможность от души подурачиться, не боясь, что нас всех накажут. Солировал, естественно, веддинг: зря мы, что ли, Дарты Веддеры, интеллигенты. Могли, допустим, встретить господина инженера, выстроившись во фрунт, и тим-лидер докладывал:
– Экипаж «Звезды Смерти» для проведения политинформации построен!
Еще мы отмечали день рождения Железного Джона, рапортовали о закручивании миллионной гайки и провожали на пенсию мои тапочки. Все это была, как ни странно, злостная неуставщина и повод настучать. Кодекс корпоративной этики трактовался по принципу «что не запрещено, того лучше все равно не делать». Он предписывал быть позитивным, но серьезным. Улыбаться, но не смеяться.
Кодекс явно создавался без учета местного колорита и национальной специфики Левобережья.
По счастью, Кен был проспиртован нашим колоритом насквозь. Редкий русский на заводе так хорошо понимал, насколько важно для сборщиков хотя бы изредка выпускать пар и валять дурака, не выходя из цеха. Мы ведь тут проводили без малого треть жизни. Это был наш второй дом. Начальство мечтало видеть цех чем-то средним между казармой и храмом, а мы просто трудились здесь. И нам надо было чувствовать себя живыми – ну, хотя бы в промежутках между ходьбой строем и отправлением культа.
Кен говорил, что цех не церковь, а станок не алтарь. Настоящая культура производства не приемлет ни тупого рабочего фанатизма, ни начальственной гиперопеки. Эффективность – это всегда творчество и всегда красота. Все эффективное гармонично. Кого ни приведи взглянуть на наш конвейер, непременно люди удивятся: ах, как плавно и мягко движутся сборщики. Ни одного грубого и резкого жеста, прямо танцуют ребята. Что за балет на рабочих местах?.. Ну, мы-то с вами знаем, отчего у нас балет. И мы видим малейшие огрехи, которых не заметит сторонний наблюдатель, – и постараемся их исправить, ведь если сборщик вынужден дергаться, значит, ему неудобно. И значит, он недостаточно эффективен. Человека можно научить изворачиваться немыслимым образом, и много лет эти извращения вокруг станков считались нормой, потому что станок был в тысячу раз дороже работника. Сейчас он дороже в миллион раз, но слава богу, мы совсем иначе понимаем роль человека на заводе. Теперь рабочий, даже если он просто руками крутит гайки, это не копеечный придаток сборочной линии, а инструмент повседневного ее познания и калибровки.
А станок – это просто станок. Красивый, правда?
Кен закатывал нам целые лекции по философии эффективности, и Дарты Веддеры слушали его разинув рты. Собственно, так и проходили все наши с Кеном совещания: для начала тим-лидер выстреливал в господина инженера стандартный заряд жалоб на недолговечные перчатки, скользкие тапочки, нерациональное освещение и дурацкий огнетушитель, который явно не на месте и мы его скоро оторвем, а нас ведь накажут; планшет господина инженера жалобы фиксировал; Кен спрашивал, есть ли предложения; тим-лидер показывал на мой наколенник и говорил, что вопрос давно назрел, перезрел и скоро лопнет; Кен отвечал, что вопрос в разработке; официальная часть заканчивалась, публика вздыхала с облегчением, и начинался человеческий разговор.
За наколенник меня, кстати, тоже могли выдрать – и частенько драли, пока я не добыл липовую медицинскую справку про больной мениск. Я опускался на колено один раз за каждую операцию, всего на пару секунд, но это заметно облегчало работу. Не скажу, что всем и каждому, а вот лично мне так было проще, чем на те же две секунды нагибаться согласно технологии. И Михалычу так было намного проще, с его-то богатырским ростом. И тим-лидеру. Только они не надевали защиту колена. Это была моя личная фишка, и томилась она «в разработке» четвертый год – якобы над ней ломали голову эргономисты штаб-квартиры. Но все понимали, что это вранье и никто о наколенниках в штаб не докладывал.
В первую голову никто не докладывал о том, чего мы тут понапридумывали удобства ради. Для начала нас вообще оштрафовали за нарушение технологии. Мы официально подали заявку о рационализации в «отдел культуры», а сами высматривали с удвоенной бдительностью, не идет ли вдоль конвейера пиндос. Иногда нас все-таки брали с поличным и наказывали. Бывало, мастер постукивал, пока не отучили его. Наконец мы дошли до крайней степени падения: взяли за шиворот Васю-Профсоюза и пожаловались на зажим пиндосами инициативы снизу. Вася с перепугу чуть не помер, и долго мы его потом не видели. И вся эта бодяга тянулась уже четвертый год, повторяю. И четвертый год я, как последний симулянт, косил под страдальца с раненым коленом только ради того, чтобы меня не драли за нарушение формы одежды, сиречь некорпоративный внешний вид. Эффективненько.
Слово «эффективность» стало ругательством неспроста и приставку «долбаная» честно заслужило. Как говорил классик, «поэзия выше нравственности, или, во всяком случае, совсем другое дело». Хорошо сказанул, но двадцать первый век его уточнил: «а прозе жизни это пофиг». Между высокой философией культуры производства и реальной долбаной эффективностью зияла пропасть. Может, на американских и европейских заводах, где рабочая сила стоит намного дороже, компании интересно видеть сборщика бодреньким, свеженьким и довольным – он тогда больше и лучше насобирает. Может, они там давно перестали нагибаться и ходят в наколенниках. А мы – туземцы, нас много, мы стоим дешево, и значит, в России эффективность должна быть экономной. Вот перчатки и тапочки нам дать подешевле – это зашибись. Придумать, как нас штрафовать почаще, – тоже зашибись.
Кен от всего этого тихо зверел и однажды признался, сидя на берегу реки, что есть у него теперь мечта: как можно быстрее промчаться вверх по карьерной лестнице. Чтобы занять в «культуре производства» такое место, с которого можно безнаказанно плевать вниз – и тогда силком заставить компанию прислушаться к словам простых русских сборщиков. Потому что главные резервы сборочной линии сегодня не в кабинетах разработчиков, а в цехах. Там видно, как все крутится на самом деле, и люди точно знают, как исправить и улучшить систему. И даже сейчас, когда наши работяги забили на совещания огромный болт, Кен время от времени ловит такие идеи, которые надо тестировать немедленно – и внедрять. И это только с одного завода, а ты представь, сколько креатива гибнет в масштабах компании, пока всем плевать на мнение туземцев… Мне нетрезвая тирада Кена очень живо напомнила давнее обещание Джейн построить культовый автомобиль, но я промолчал.
Вдруг у него получится, черт побери…
И тут случилось это злосчастное итоговое совещание, или расширенное, кто его разберет. А Темная Сторона Силы, как нарочно, была в приподнятом настроении. Экипаж «Звезды Смерти» задумал нынче обмыть двухмиллионную гайку, что закрутил мой Железный Джон. То есть гайки никто не считал, мы просто так решили. А если русский чего решил, он выпьет обязательно, сами знаете. Тем более в пятницу.
И только мы отошли от конвейера, мыслями уже в пивной – бежит начальник смены. Ребята, говорит, а как же совещание? Не забыли? Да отлично, говорим мы ему, не забыли, проведем на высшем уровне. И весело топаем рассаживаться.
У нас уж все готово.
Мне-то невдомек, что сегодня вести этот долбаный коллоквиум собрался лично Рой Калиновски, целый помощник директора по «культуре», тот самый, который к нам в учебный центр приходил. Издали похожий на Кена, приятный человек и уникально приветливый менеджер. Всегда успевал первым здороваться с рабочим. Как выяснилось, Рой не был от роду таким уж добряком, просто оказался способным парнишкой, легко обучаемым, не то что мой армейский лейтенант, в мазут упавший. Но это другая история, потом расскажу как-нибудь.