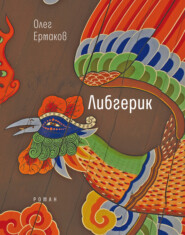По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Родник Олафа
Автор
Серия
Год написания книги
2021
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Сычонок насупился и брать не захотел. Но Стефан сам взял и отдал ему.
– Дак ты жа… давай, посвисти, – сказал мужик.
Сычонок шел, не глядя на него.
– Василёк, чего ты? – спросил Стефан.
И тогда мальчик приостановился да и просто издал свой загадочный посвист лесной ночной птицы сыча. Мужик Савва аж поводья натянул.
– Тпрыыы! – Он обернулся к мальчику. – Ай у тебя своя свистулька-то? Как сподобился так-то продудеть?
Мальчик смотрел на него исподлобья.
– Отроче Василёк, – удивленно проговорил и Стефан. – Что это было?
И мальчик вытянул губы и снова посвистал сычом – протяжно и по-лесному хорошо и тоскливо.
– Ай да и горазд, малец! – воскликнул Савва. – Аж мурашки по скоре[151 - Шкуре.] пойшли. Ну и умелец. Видать, лесной той Вержавск-то? И сам ты лесовой малый.
Стефан положил руку на плечо мальчика.
– Ну а свистёлку-то мою все ж возьми, – сказал мужик уже на прощанье, сворачивая к Торгу, как только они вошли в город. – Возьми. Девице якой подаришь. Но!..
И он дернул за вожжи.
Стефан улыбнулся уже и внешней улыбкой. И они пошли мимо Торга, где шумели продавцы, квохтали куры, гоготали гуси, пестрели ткани, ярко белели в лукошках горки яиц, на досках лежали груды мокрой – только из Днепра – рыбы, зеленела какая-то трава огородная и яро алели окорока свиные, свешивались жирные колбасы, громоздились круглые румяные свежеиспеченные хлебы.
И уже виден был впереди холм Мономахов с собором, освещенным с востока по утреннему Днепру солнцем.
«Красен град-то, – думал мальчик. – Куда уж нашему Вержавску…»
И пошли они вверх по хорошей тропке среди деревьев и огородов, изб. И тут лаяли собаки, кричали весело петухи, какая-то баба бранила мужика за пьянство, то ли вчерашнее, то ли уже нынешнее, утреннее, он что-то невнятное орал ей в ответ. Девочка с косичками гнала прутом нескольких овец. Она зыркнула на монаха и мальчика, замахнулась прутом на черную овцу, побежавшую было куда-то вбок.
Так-то оно, конечно, и в Вержавске то же самое: куры-петухи-овцы, и огороды с грядами, и сады. Но Торга такого нету, и стольких церквей нету, и такого размаха нету, и нет такой сильной реки с пристанями, ладьями, лодками.
Снизу мальчик глядел на собор. Храм стоял на самой вершине холма, за валом. Был он одноглав, но внушителен. Крест на куполе лучился в утреннем днепровском солнце. Вокруг собора реяли белогрудые ласточки, взмывали ввысь и пикировали вниз, будто исполняли какой-то танец или службу служили.
– Ишь, – проговорил Стефан, глядя вверх и прищуривая глаза, сверкая белыми зубами, – ровно монашки…
Тут-то мальчик и хотел поговорить с ним. Но в этот момент откуда-то вывернулся пучеглазый малый в лохмотьях, подвязанный женским платком по груди, в драной шапке.
– Ай-яй-ай-яй! Чернец ты наш тресветлый с цветиком! – загнусавил он, пританцовывая, качая головой, растягивая беззубый рот. – Изрони сребро! – И он сложил руки ковшиком. – Изрони, а? Али жемчуга!
– Нету у меня сребра, Богдашка, – проговорил Стефан со своею улыбкой. – А хлебушек я тебе принес. – И с этими словами он достал из-под мантии краюху ржаного хлеба и две луковицы.
– Ай-яй-ай! – возгласил Богдашка, хватая хлеб и осыпая его поцелуями. – Сытый будет Богдашка. Дублий будет Богдашка. Аки елефант[152 - Слон.].
Стефан, услышав это, заулыбался. И хотел еще отдать луковицы. Но Богдашка отдергивал руки.
– Не леть! Лихое! Горечь горькая!
– Хм, возьми, Богдашка.
Но тот даже заводил руки за спину, лишь бы не брать.
– Ну, как хочешь, – сказал Стефан.
– Брось, брось, – бормотал Богдашка. – Поганец выжмет слезы. Горькое! Лихое! Тьфу!
– Что ты там говоришь?
Богдашка вдруг обратил внимание на мальчика.
– Ииии-ихх! – крикнул он ему и погрозил грязным пальцем.
Так под странные выкрики дурака мальчик со Стефаном входили в ворота. Здесь стояли стражники с мечами. Стефана они знали, даже кланялись ему, и он благословлял их. И они взошли на холм Мономахов. Тут, кроме собора, были еще деревянные дома да каменный терем. По обширному двору бегали собаки, и с детьми играла дородная нянька в дорогом убрусе. Два мужика что-то копали. На дворе росли кусты, ивы и с краю несколько дубов, казавшихся сейчас черными. А ветви их опушали свежие зеленые листья.
Они остановились перед собором, и Стефан начал креститься и класть поклоны. Глядя на него, и мальчик.
– Кесарю – кесарево, а Богу – богово, – молвил Стефан. – И сперва – богово.
И он направился прямо в собор. За ним и мальчик. Они вошли в собор. Внутри было несколько человек, священник, служка, два по виду купца да богато одетая пожилая баба с ребенком. Горели в подсвечниках свечи. И в окна лились солнечные лучи, повисали чудными лентами, освещая лики на иконах. Пахло ладаном да свежими красками, известкой. Все здесь было новое. Стефан поцеловал в плечо священника, и тот ответил тем же. Они о чем-то быстро переговорили. И Стефан направился к большой иконе Богоматери с Младенцем. Сычонок – за ним. Он возвел глаза на лик Богоматери… Ох и суров же тот бысть. Сычонок такой Богоматери еще и не видал никогда, ни в Вержавске, ни в монастыре на Смядыни. Ему стало не по себе. Словно Богородица уже знала о происшедшем на речке Каспле в Вержавлянах Великих. Но ведала и больше. Больше! О его стремлении к горам Арефинским, к таинственному Хорту. О надежде получить у того речь. Оттого и сомлел в страхе Сычонок. Вдруг ему сверкнуло, что речь-то не у Хорта надо искать, а у кого-то еще… хоть вот у Стефана.
Он на него покосился.
Стефан шептал скороговоркой слова молитвы: «О Пречудная и Превышшая всех тварей Царице Богородице, Небеснаго Царя Христа Бога нашего Мати, Пречистая Одигитрие Марие! Услыши нас грешных и недостойных в час сей молящихся и припадающих к Твоему Пречистому Образу со слезами и умиленно глаголющих: изведи нас от рова страстей, Владычице Преблагая, избави нас от всякия скорби и печали, огради от всякия напасти и злыя клеветы, и от неправеднаго и лютаго навета вражия…»
Но непримиримо поджатые губы Богородицы не разжимались, и глаза ее смотрели все с той же недоверчивостью и с тем же порицанием. И она молчала. Да и все святые, к которым обращались и вержавцы, и вержавский священник Ларион Докука, и монахи, – всегда молчали. Ничего не отвечали. А ведь все молившиеся так и ждали от них ответа. Это мальчику было ясно.
У выхода они снова поклонились и шагнули в яркое, цвиркающее ласточками утро.
– Я пойду к владыке Мануилу, обаче[153 - Здесь: но.] прежде тебя отведу к тиунам, – сказал Стефан.
Но мальчик так посмотрел на него, что Стефан со своею улыбкой ответил:
– Ладно, вместех предстанем пред тиунами.
И они пришли в каменные палаты. Там была просторная комната с лавками. И слуга велел им ждать. Мальчик с любопытством озирался. Стены в той комнате были затейливо расписаны и цветами, и птицами, и какими-то зверями. Но то и не роспись по стене была, а что-то такое…. Мальчик не удержался и прикоснулся к стене. Точно. Это была ткань. Голубоватая, а рисунки желтоватые, охристые. В таких нарядных одринах[154 - Здесь: комнатах.] ему еще не доводилось бывать. И стол у окон со слюдой был внушительный, на изогнутых ножках. А за ним – красивое седалище с резной спинкой.
Скрипнула дверь, раздался кашель, и в комнату вошел средних лет мужчина с аккуратно подрезанной каштановой бородой, с густой копной такого же цвета волос, в темно-зеленом кафтане, светло-коричневых сапогах.
– Отче Стефан, – сказал он высоким голосом со стальной ноткой, – владыка Мануил ожидает тебя в своей одрине, ему еще неможется.
Стефан кивнул и ответил, что сейчас же отправится к владыке, как только учинится Васильку расспрос. Он назвал этого человека Олфимом.
– Не мешкай, отче, – возразил Олфим, – ибо сегодня же ты отправишься в Немыкари.
И Стефану пришлось уйти сразу же. На прощанье он ободряюще улыбнулся мальчику, и эту улыбку вряд ли заметил Олфим, а Сычонок узрел явственно.
– Дак ты жа… давай, посвисти, – сказал мужик.
Сычонок шел, не глядя на него.
– Василёк, чего ты? – спросил Стефан.
И тогда мальчик приостановился да и просто издал свой загадочный посвист лесной ночной птицы сыча. Мужик Савва аж поводья натянул.
– Тпрыыы! – Он обернулся к мальчику. – Ай у тебя своя свистулька-то? Как сподобился так-то продудеть?
Мальчик смотрел на него исподлобья.
– Отроче Василёк, – удивленно проговорил и Стефан. – Что это было?
И мальчик вытянул губы и снова посвистал сычом – протяжно и по-лесному хорошо и тоскливо.
– Ай да и горазд, малец! – воскликнул Савва. – Аж мурашки по скоре[151 - Шкуре.] пойшли. Ну и умелец. Видать, лесной той Вержавск-то? И сам ты лесовой малый.
Стефан положил руку на плечо мальчика.
– Ну а свистёлку-то мою все ж возьми, – сказал мужик уже на прощанье, сворачивая к Торгу, как только они вошли в город. – Возьми. Девице якой подаришь. Но!..
И он дернул за вожжи.
Стефан улыбнулся уже и внешней улыбкой. И они пошли мимо Торга, где шумели продавцы, квохтали куры, гоготали гуси, пестрели ткани, ярко белели в лукошках горки яиц, на досках лежали груды мокрой – только из Днепра – рыбы, зеленела какая-то трава огородная и яро алели окорока свиные, свешивались жирные колбасы, громоздились круглые румяные свежеиспеченные хлебы.
И уже виден был впереди холм Мономахов с собором, освещенным с востока по утреннему Днепру солнцем.
«Красен град-то, – думал мальчик. – Куда уж нашему Вержавску…»
И пошли они вверх по хорошей тропке среди деревьев и огородов, изб. И тут лаяли собаки, кричали весело петухи, какая-то баба бранила мужика за пьянство, то ли вчерашнее, то ли уже нынешнее, утреннее, он что-то невнятное орал ей в ответ. Девочка с косичками гнала прутом нескольких овец. Она зыркнула на монаха и мальчика, замахнулась прутом на черную овцу, побежавшую было куда-то вбок.
Так-то оно, конечно, и в Вержавске то же самое: куры-петухи-овцы, и огороды с грядами, и сады. Но Торга такого нету, и стольких церквей нету, и такого размаха нету, и нет такой сильной реки с пристанями, ладьями, лодками.
Снизу мальчик глядел на собор. Храм стоял на самой вершине холма, за валом. Был он одноглав, но внушителен. Крест на куполе лучился в утреннем днепровском солнце. Вокруг собора реяли белогрудые ласточки, взмывали ввысь и пикировали вниз, будто исполняли какой-то танец или службу служили.
– Ишь, – проговорил Стефан, глядя вверх и прищуривая глаза, сверкая белыми зубами, – ровно монашки…
Тут-то мальчик и хотел поговорить с ним. Но в этот момент откуда-то вывернулся пучеглазый малый в лохмотьях, подвязанный женским платком по груди, в драной шапке.
– Ай-яй-ай-яй! Чернец ты наш тресветлый с цветиком! – загнусавил он, пританцовывая, качая головой, растягивая беззубый рот. – Изрони сребро! – И он сложил руки ковшиком. – Изрони, а? Али жемчуга!
– Нету у меня сребра, Богдашка, – проговорил Стефан со своею улыбкой. – А хлебушек я тебе принес. – И с этими словами он достал из-под мантии краюху ржаного хлеба и две луковицы.
– Ай-яй-ай! – возгласил Богдашка, хватая хлеб и осыпая его поцелуями. – Сытый будет Богдашка. Дублий будет Богдашка. Аки елефант[152 - Слон.].
Стефан, услышав это, заулыбался. И хотел еще отдать луковицы. Но Богдашка отдергивал руки.
– Не леть! Лихое! Горечь горькая!
– Хм, возьми, Богдашка.
Но тот даже заводил руки за спину, лишь бы не брать.
– Ну, как хочешь, – сказал Стефан.
– Брось, брось, – бормотал Богдашка. – Поганец выжмет слезы. Горькое! Лихое! Тьфу!
– Что ты там говоришь?
Богдашка вдруг обратил внимание на мальчика.
– Ииии-ихх! – крикнул он ему и погрозил грязным пальцем.
Так под странные выкрики дурака мальчик со Стефаном входили в ворота. Здесь стояли стражники с мечами. Стефана они знали, даже кланялись ему, и он благословлял их. И они взошли на холм Мономахов. Тут, кроме собора, были еще деревянные дома да каменный терем. По обширному двору бегали собаки, и с детьми играла дородная нянька в дорогом убрусе. Два мужика что-то копали. На дворе росли кусты, ивы и с краю несколько дубов, казавшихся сейчас черными. А ветви их опушали свежие зеленые листья.
Они остановились перед собором, и Стефан начал креститься и класть поклоны. Глядя на него, и мальчик.
– Кесарю – кесарево, а Богу – богово, – молвил Стефан. – И сперва – богово.
И он направился прямо в собор. За ним и мальчик. Они вошли в собор. Внутри было несколько человек, священник, служка, два по виду купца да богато одетая пожилая баба с ребенком. Горели в подсвечниках свечи. И в окна лились солнечные лучи, повисали чудными лентами, освещая лики на иконах. Пахло ладаном да свежими красками, известкой. Все здесь было новое. Стефан поцеловал в плечо священника, и тот ответил тем же. Они о чем-то быстро переговорили. И Стефан направился к большой иконе Богоматери с Младенцем. Сычонок – за ним. Он возвел глаза на лик Богоматери… Ох и суров же тот бысть. Сычонок такой Богоматери еще и не видал никогда, ни в Вержавске, ни в монастыре на Смядыни. Ему стало не по себе. Словно Богородица уже знала о происшедшем на речке Каспле в Вержавлянах Великих. Но ведала и больше. Больше! О его стремлении к горам Арефинским, к таинственному Хорту. О надежде получить у того речь. Оттого и сомлел в страхе Сычонок. Вдруг ему сверкнуло, что речь-то не у Хорта надо искать, а у кого-то еще… хоть вот у Стефана.
Он на него покосился.
Стефан шептал скороговоркой слова молитвы: «О Пречудная и Превышшая всех тварей Царице Богородице, Небеснаго Царя Христа Бога нашего Мати, Пречистая Одигитрие Марие! Услыши нас грешных и недостойных в час сей молящихся и припадающих к Твоему Пречистому Образу со слезами и умиленно глаголющих: изведи нас от рова страстей, Владычице Преблагая, избави нас от всякия скорби и печали, огради от всякия напасти и злыя клеветы, и от неправеднаго и лютаго навета вражия…»
Но непримиримо поджатые губы Богородицы не разжимались, и глаза ее смотрели все с той же недоверчивостью и с тем же порицанием. И она молчала. Да и все святые, к которым обращались и вержавцы, и вержавский священник Ларион Докука, и монахи, – всегда молчали. Ничего не отвечали. А ведь все молившиеся так и ждали от них ответа. Это мальчику было ясно.
У выхода они снова поклонились и шагнули в яркое, цвиркающее ласточками утро.
– Я пойду к владыке Мануилу, обаче[153 - Здесь: но.] прежде тебя отведу к тиунам, – сказал Стефан.
Но мальчик так посмотрел на него, что Стефан со своею улыбкой ответил:
– Ладно, вместех предстанем пред тиунами.
И они пришли в каменные палаты. Там была просторная комната с лавками. И слуга велел им ждать. Мальчик с любопытством озирался. Стены в той комнате были затейливо расписаны и цветами, и птицами, и какими-то зверями. Но то и не роспись по стене была, а что-то такое…. Мальчик не удержался и прикоснулся к стене. Точно. Это была ткань. Голубоватая, а рисунки желтоватые, охристые. В таких нарядных одринах[154 - Здесь: комнатах.] ему еще не доводилось бывать. И стол у окон со слюдой был внушительный, на изогнутых ножках. А за ним – красивое седалище с резной спинкой.
Скрипнула дверь, раздался кашель, и в комнату вошел средних лет мужчина с аккуратно подрезанной каштановой бородой, с густой копной такого же цвета волос, в темно-зеленом кафтане, светло-коричневых сапогах.
– Отче Стефан, – сказал он высоким голосом со стальной ноткой, – владыка Мануил ожидает тебя в своей одрине, ему еще неможется.
Стефан кивнул и ответил, что сейчас же отправится к владыке, как только учинится Васильку расспрос. Он назвал этого человека Олфимом.
– Не мешкай, отче, – возразил Олфим, – ибо сегодня же ты отправишься в Немыкари.
И Стефану пришлось уйти сразу же. На прощанье он ободряюще улыбнулся мальчику, и эту улыбку вряд ли заметил Олфим, а Сычонок узрел явственно.