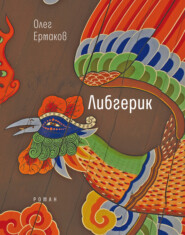По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
С той стороны дерева
Автор
Год написания книги
2015
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Вечером же сеанс!..
На кордоне была радиостанция. На связь с центральной усадьбой выходили два раза, утром и вечером, Ириада числилась радисткой.
Герман кивнул. Забыл. Значит, разволновался, хоть виду и не подает.
– Корова в тайгу сбежала, он ей бок царапнул!
– Защищала…
– Где сейчас?
– Я ее нашел.
– Ладно, сворачиваемся на сегодня. – Герман сплюнул разжеванную травину. – Айда домой.
На кордоне брехали лайки в вольере. Их никогда не выпускали здесь: режим. Герман по осени в отпуск охотился с ними на своем участке в буферной зоне, на приграничной территории. Пошли в хлев, посмотрели на корову. Она тяжело и шумно дышала, как будто только что бежала, таращила на нас глаза, огромные, безумные. По боку шли три кровавые запекшиеся борозды. В глазах Ириады стояли слезы. Но выглядела она решительной Дианой-охотницей в брезентовой куртке, брюках, туго повязанная белым платком, с карабином за плечом. На лице Германа мелькнула невольная ласковая улыбка. Засмотрелся и я на эту статную женщину, годившуюся мне в матери, но… «Интересно, как Герман обуздывает Толиков?» – мелькнула невольная мысль.
Медведи тут были кругом. Мы видели их следы на тропе, на покосах. Заповедник – настоящий медвежий угол. А Герман и охотился на них, на его счету было больше двадцати добытых медведей.
– Однако чё, если повадился… – задумчиво произнес Герман.
Вечером вышли на связь. Из центральной усадьбы тут же полетела депеша в Главохоту. Оба Толика сидели допоздна у нас, пили черные чаи и, естественно, говорили о медведях, о ком же еще. Медведь и Хозяин – два главных героя местного эпоса. И медведь так же загадочен. Толики с ним встречались сами, расходились мирно. Но у других не все проходило столь гладко. От одного охотника, правда, он промышлял не здесь, а на Южном Байкале, в отрогах Хамар-Дабана, остался сапог с ногой, больше ничего не нашли. И случилось это недавно, прошлой зимой. Шатун на него напал. У медведя сила немереная. На втором зимовье по речке Большой он отодрал от нижнего венца полбревна, так, забавы ради. А этот, наш, целого теленка утащил легко, ищи-свищи. Конечно, где-то припрятал. Он любит, чтоб мясцо дошло, припахивать стало. Но не всегда медведь, напав, убивает. Одного мужика из Усть-Баргузина, соседа матери Толика из Днепропетровска, медведица поваляла, всю башку исполосовала и ушла, как будто спохватилась: человек же. Мужик в кровище выбрался на дорогу, первая же машина подобрала его – и в больницу. Все зашили. Только волосы на шрамах перестали расти, а потом он и весь облысел. Но на охоту продолжал ходить. Эвенки считают медведя человеком. Особого вида и рода. И действительно, на ободранного медведя страшно смотреть, так он похож на человека. Весной их иногда на льдине в море уносит. Бригада железнодорожников однажды такого мореплавателя увидела: прибился к земле, еле выбрел, шатается от голода, шкура клочьями… Ну, они его и забили кувалдами и ломами.
– А ту медведицу…
– А как же! Попробовала человечинки – не остановится. Это как бенгальские людоеды, – вдруг перескочил Толик Д., – в «Вокруг света» писали. Ну, там аут полный: по десять человек сжирали деревенских. Прямо в деревню ходили, как в магазин за хлебом.
– Кто? – не понял Валерка.
– Бенгальские тигры, – ответил Толик Д.
И тут за оконцем нашей кельни, освещенной керосиновой лампой, сверкнуло бенгальским белым огнем. Мы все онемели на мгновение, но уже поняли: над шумящим морем покатился гром. Только что море тихо плескалось и вот разом зашумело. Заскрипели лиственницы, что-то захлопало на крыше, как будто птица-мутант опустилась. И снова резанули саблезубые огни тьму. Приближалась гроза. Но дождя еще не было. Он начался минут через двадцать, Толик Д. еще успел рассказать одну историю про медведей.
Наши гости ушли до дождя. Ушли, и ударил дождь. Замолотил по крыше, в оконце. Молнии заплясали над кордоном.
– Я на месте Германа Толиков здесь не оставлял бы, когда полевые работы в тайге или в поселок надо, – сказал я.
– Отдавал бы жену на съедение?
– С медведем она и сама справится.
– Ну и с Толиками тем более, – сказал Валерка.
Мы полежали молча. Я начал задремывать. Уже была глубокая ночь.
– Я об этом тоже подумал, – признался Валерка.
Море набрасывалось на берег, доски под нашими головами сотрясались. У меня уже не было сил отвечать. Сколько можно рассказов, дыма, чая…
Глава пятая
Главохота дала добро на отстрел зарвавшегося медведя, и на следующий день на кордон приплыли охотовед, лесничий (тот, патлатый) и еще два мужика, с ружьями. Вечером они уже знали, где припрятана добыча медведя. Теперь оставалось ждать. И они устроили засаду. Ну а мы снова потащились на покосы. Как арестанты: Герман нес на плече карабин. Валерка с завистью на него поглядывал. Хотя еще больше он завидовал тем, сидевшим в засаде. Он просился с ними, но его не взяли. И вот – снова в руках осточертевшая литовка, а не винтовка. «Какой-то рабский труд», – ворчал Валерка, размазывая мошкару с потом по щеке. Да, молчаливо соглашался я и думал о Гренландии, прохладной, чистой, древней, без коров и лошадей. Где-то там пролегала дорога в никуда. Все-таки собираясь сюда, мы надеялись… На что мы надеялись? На какую-то другую жизнь. Вольную, дикую, полную приключений. А нам, кроме литовок, ничего здесь не доверяют. Даже в питье ущемляют.
Мы ворошили подсохшее сено, складывали его в копны, докашивали последнюю поляну и прислушивались. Но в августовском теплом воздухе только птицы пели и цокали бурундуки. Однажды мы услышали крики журавлей. Толик И. сказал, что это на Верхних озерах. «Там зимовье стоит, прямо из окна можно смотреть. Уже рядом гольцы. Высота. Зеленые склоны, осыпи».
И мы думали, что никогда туда не доберемся. Так и будем рабсилой, рабочими лесного отдела, то есть – всегда на подхвате. А настоящую жизнь ведут охотники. Мы слышали рассказы о приморских горах, где нет никаких заповедников и ничего вообще нет, кроме тайги, гор и зверья. Там рай для охотников. Удивительно, но когда об этом говорил сам Герман Васильевич, по его крупному загорелому лицу блуждала не обычная усмешка, а какая-то затаенная улыбка. «Там только соль нужна, ну еще куль муки, а главное – порох, свинец». А ведь он был тертый калач и всем тут распоряжался. Но что-то и его не устраивало, что-то и его манило – дальше. И, возвращаясь на кордон, мы с тоской смотрели на таинственные кручи противоположного западного берега, то растворяющегося в синеве, то вдруг проступающего с невероятной отчетливостью всеми своими складками. И уже раздумывали, как бы нам туда попасть. На тот берег… Ученые мужи говорят о вечных сюжетах, встроенных в наше сознание. И, кажется, мы нашли один из таких сюжетов – миф о том береге. Мы его прямо увидели на кордоне, увидели его отсветы на лицах лесников и сами попали в его силовое поле.
Утром, днем, вечером и ночью я созерцал тот берег. Выходил отлить и видел темные глыбы под звездами. Чистил зубы и, сплевывая, замечал белое облачко, висящее ниже синих вершин того берега. Вечером следил, как хребты меняют цвет в сиянии заходящего солнца: от розового, кипрейного до сиреневого, фиолетового. И вот какую особенность обнаружил: тот берег иногда мне казался не западным, а восточным. Если еще было рано, то солнце я ожидал увидеть восходящим из-за моря. И когда оно вставало все-таки позади кордона, из-за тайги и крутых высоких гор Баргузинского хребта, небо моего сознания кружилось, как сфера планетария. Так было, когда мы с Германом Васильевичем вытаскивали сети. Мне казалось, что утреннее солнце тонет в облаках над Приморским хребтом, а оно вдруг пробилось в небе напротив, над Баргузинским хребтом. И лучи его были в несколько раз короче вечерних, льющихся из-за моря. Баргузинские горы выше приморских, они стоят неровной стеной на востоке, укорачивая лучи. Восточное солнце было меньше и беднее западного, что противоречит еще одной извечной скрижали – мифу о сильном, восстающем из смертной мглы солнце. И эта скрижаль постоянно скрещивалась в моем сознании с мечом действительности. Сыпались искры. Мне иногда мерещилось, что я останавливаю солнце, встающее на востоке, и перекатываю его по куполу небес на запад.
Но факт остается фактом: тот берег был западным, а не восточным.
А казался – восточным.
Голова кругом…
Медведя застрелили на вторую ночь; мы ничего так и не услышали, и не видели ни его туши, ни шкуры; с ним управились сами охотники, с помощью, конечно, коняги Умного. Днем медведя вывозили, грузили на лодку, а мы в это время навивали первый стог. С косьбой было кончено, как с медведем. Но еще надо было все сено просушить и убрать. И мы убирались, орудовали граблями и вилами.
В один из дней пошел дождь. Потом еще два или три раза случался ливень с грозой. Но все-таки пересушило нам солнце, встающее, как и положено, на востоке, травы, и на скошенных полянах выстроились высокие папахи стогов. Баста.
На кордоне нас ждала протопленная Ириадой баня. Ее не так давно выстроили на самом берегу, и внутри все бревна сверкали красноватой смолой. Смолистый горячий дух был так густ, что горчил на губах и хмелил. «Ну-ка, чё-о, паря? Поддай!» – приказывал Герман с багровым лицом. И Толик Д. плескал на раскаленные камни. Волна обжигающего воздуха накидывалась на нас огненным ангелом или демоном, мы отворачивались, прикрывали глаза. А Герман хлестал себя по крутым волосатым плечам веником, рычал от удовольствия. Мы отстранялись от его веника, гнавшего самый огонь, как крылья какого-то солярного махаона. Толик Д. тоже бил себя веником. А мы трое остерегались. И так пронимало до костей и перехватывало дыхание, соленые ручьи бежали по нашим спинам, животам, щипали глаза, разъеденные гнусом места, саднили. «А теперь – в море!» – скомандовал Герман, и мы один за другим вышли из бани. По камням к воде вели мостки. И Толик Д. первым сорвался и побежал, с воплем плюхнулся в волны. Байкал слегка волновался, был синевато-серым, угрюмым. За Толиком последовали остальные. Волна окатила напитанное жаром тело резкой прохладой, я мгновенно запьянел. И на берег, поддаваемый волной, еле выбрался, так меня качал этот хмель. И уже такого вина я никогда больше не попробую. Подобный перепад температур можно выдержать только в семнадцать лет. Или надо полжизни тренироваться, как Герман. Ну и много еще чего надо…
После бани мы с Валеркой пили брусничную, остальные – белую. Это была последняя совместная трапеза. Больше мы никогда не пробовали Ириадиных булок. Сидели на галетах до самого отплытия. Правда, уже рыба была у нас всегда. Увидев, как легко ловить хариуса в Куркавке, мы по вечерам брали авоську и шли по тропе через кедровник на речку, как в магазин. Однажды наловили столько, что не смогли сразу осилить и решили оставшуюся рыбу засолить; все сделали как надо, три дня выдерживали в растворе под камнем, потом на берегу развесили между двумя кольями и сверху прикрыли даже марлей, одолженной нам Ириадой, от мух. Ждали, когда высохнет, не терпелось попробовать таранки, завяленной на ветру и солнце Байкала. Ждали, ходили вокруг да около… и почувствовали: как-то попахивает. Заглянули под марлю – а в глазах рыбы шевелятся черви… Как будто кадр из сна. Видимо, пожалели соли, хотя соль была. Всю рыбу мы закопали и решили еще раз попытаться. Смекнули, что рыба нам впрок нужна. Мы собирались на тот берег. А Герман Васильевич брался перевезти нас на моторке через море. Мы должны были только оплатить бензин туда и обратно. Но ружьецо он нам отказался продать. Поискать на центральной усадьбе посоветовал. Охотничьих билетов у нас не было. Еще нам необходимы были бродни. Телогрейки можно было взять и старые, в мастерской. Спальники у нас были. На том берегу мы думали построить хижину. Но путались в расчетах. Денег, денег не хватало! Катастрофически. А значит, и времени. Говорили, что осенью начнутся туманы и шторма. Некоторые призывники из-за этого в армию не попадали. Не только по морю, но и по воздуху никуда не доберешься, вертолеты и самолеты прекращали свои рейсы. Мы не знали, как успеть собрать все необходимое до осенних штормов. И тем не менее готовились. Такова ослепляющая сила этого извечного сюжета. Тот берег. На тот берег. На том берегу. Звучали в сознании тамтамы. И не заметили, как впали в этот транс.
Вторую партию рыбы мы щедро засыпали солью. Ни одна муха не посмела приблизиться к ней. Правда, и есть ее было невозможно: все во рту горело и саднило, чистая соль, ни вкуса, ни запаха рыбьего.
– Ничего, с голодухи пойдет, – решил Валерка.
И мы припрятали рыбу. Но это так, на всякий случай. Мы-то знали, что будем кататься сырами в масле на том берегу, вялить мясо изюбра, есть оленьи языки, варить суп из глухарей и рябчиков, собирать всяку-разну ягоду (тоже одна из языковых особенностей Подлеморья – сглатывание окончаний). Конечно, кто-то мог нас спросить: а почему бы вам ее здесь уже не собирать, ягоду? Черники было полно в двух шагах от кордона. Ну, мы ее ели при случае, идя за хариусом на Куркавку. А собирать… да, не до этого пока. Есть дела поважнее. Изучать тайгу, ковать ножи…
Валерка привез с собой из Смоленска кусок рессоры, один знакомый дал ему, сказав, что из такого металла получаются самые лучшие ножи на свете, – что тебе дамасский клинок. Тащить кусок рессоры за тридевять земель, чтоб его выбросить там? Я не понимал Валерку. А он был упорен. И вот решил: пора. Раскочегарил печку, надел телогрейку, рваные зимние рукавицы, примотал к ручкам плоскогубцев две палки и сунул в самое пеклище рессору. И когда она раскалилась докрасна, а потом добела, вынул ее плоскогубцами на палках-ручках, донес до наковальни и крикнул: «Бей!» Я обрушил на огневеющее железо кувалду. Еще несколько раз ударил и увидел, что металл-то размягчился, начал плющиться…
Ну и что? Я все-таки не верил в эту затею. Ладно, расплющить можно, что угодно, ломать не строить. Но Валерка не унывал. Мы поменялись ролями. Теперь я вынимал металл из печки, а Валерка бил. Палки тлели и вспыхнули, пришлось искать железные держатели, одну трубку и железный прут. На стук заглянул сначала один Толик, потом и второй. Они тоже вынесли нам вотум недоверия, посмеивались, как Герман. А Валерка гнул свою линию, припечатывал жаркую пластину кувалдой. Когда она достаточно утончилась, Толик Д. посоветовал взять молоток. И в конце концов сам взял его.
– Дай-ка мне…
И начал стучать. В мастерской стояла жарища. На искры, летевшие из трубы, обратил внимание старший лесник, прислал сына узнать, что тут у нас за паровозные дела. Потом пришел сам, подсмеиваясь. Посмотрел и удивленно протянул:
– А чё, вытягиватца ножик-то.
Да, на наших глазах безобразный кус металла приобретал форму. Зрелище, достойное кисти настоящего художника, певца каких-то новых рун.
Валерка выковал нож. Обточил его, убрал лишнее, навел лоск. И, глядя на это блестящее хищное полотно, нельзя было поверить, что вышло оно из обычной печки, вот как лук или корова кузнеца Ильмаринена. Приблизив его к лицу, можно было увидеть отражение своих глаз. Рукоять Валерка вырезал из березы, временную. Позже нож должна была украсить рукоять из рога. Ну, маральего или лосиного, кого мы первого добудем – там, на синих горах того берега. Валерка выглядел пафосно. Да любой бы на его месте так выглядел. И с ножом он уже не расставался, сшил из голенища от кирзового сапога ножны и носил нож на поясе.
Старший лесник разрешил нам по вечерам ездить на Умном, показал, как его седлать, взнуздывать. Валерка разок прокатился и охладел. Еще бы, первый выезд едва не превратил его в инвалида. Умный на выходе из загона взял слишком близко к правому столбу, и поперечная жердина, довольно толстая, концом уперлась в стопу. Валерка натянул поводья, крикнул, но Умный вместо того, чтобы остановиться, рванул вперед, нога в стремени загнулась назад, до упора, на длину стремени, жердина тоже выгнулась чудовищным луком, и в следующее мгновение либо стопа должна была отлететь, либо Умный остановиться. Не произошло ни того ни другого: жердь с оглушительным треском лопнула, Умный понесся дальше неуправляемый, Валерка упал ему на шею, вцепился в гриву, зажмурившись от дикой боли. Потом ему удалось осадить коня и сползти на землю, разуться и узреть лиловый кровоподтек. «Скотина!» – орал Валерка и размахивал кулаком. Умный лишь косился. В рыбацком колхозе он и не такого наслушался.
Дня три Валерка хромал после этого, а мы с Умным поладили, и по вечерам я выезжал в тайгу. Самой дальней точкой моих выездов было Литоминское зимовье. Там я впервые и увидел, что же это такое, зимовье. Ну, небольшой простой домик из ошкуренных бревен, с потолком из плах, крытый корьем; никаких сеней, внутри вдоль двух стен нары, одно оконце, стол перед ним, полки, в углу железная печка, обложенная камнем, всё.
Я привязывал Умного к березе, растапливал печку, спускался к быстрой шумящей широкой реке, набирал воды, ставил котелок на огонь, садился у окна, глядел на речку, камни, кедры и светлоствольные пихты; заваривал чай, пил с сахаром и галетами, закуривал… о чем-то мечтал. Одиночество юности какое-то скудное, в нем тоска, почти скука. Маета. Томление неизвестно о чем. Вопросы: да зачем мы сюда забрались? что мы здесь делаем?..
На кордоне была радиостанция. На связь с центральной усадьбой выходили два раза, утром и вечером, Ириада числилась радисткой.
Герман кивнул. Забыл. Значит, разволновался, хоть виду и не подает.
– Корова в тайгу сбежала, он ей бок царапнул!
– Защищала…
– Где сейчас?
– Я ее нашел.
– Ладно, сворачиваемся на сегодня. – Герман сплюнул разжеванную травину. – Айда домой.
На кордоне брехали лайки в вольере. Их никогда не выпускали здесь: режим. Герман по осени в отпуск охотился с ними на своем участке в буферной зоне, на приграничной территории. Пошли в хлев, посмотрели на корову. Она тяжело и шумно дышала, как будто только что бежала, таращила на нас глаза, огромные, безумные. По боку шли три кровавые запекшиеся борозды. В глазах Ириады стояли слезы. Но выглядела она решительной Дианой-охотницей в брезентовой куртке, брюках, туго повязанная белым платком, с карабином за плечом. На лице Германа мелькнула невольная ласковая улыбка. Засмотрелся и я на эту статную женщину, годившуюся мне в матери, но… «Интересно, как Герман обуздывает Толиков?» – мелькнула невольная мысль.
Медведи тут были кругом. Мы видели их следы на тропе, на покосах. Заповедник – настоящий медвежий угол. А Герман и охотился на них, на его счету было больше двадцати добытых медведей.
– Однако чё, если повадился… – задумчиво произнес Герман.
Вечером вышли на связь. Из центральной усадьбы тут же полетела депеша в Главохоту. Оба Толика сидели допоздна у нас, пили черные чаи и, естественно, говорили о медведях, о ком же еще. Медведь и Хозяин – два главных героя местного эпоса. И медведь так же загадочен. Толики с ним встречались сами, расходились мирно. Но у других не все проходило столь гладко. От одного охотника, правда, он промышлял не здесь, а на Южном Байкале, в отрогах Хамар-Дабана, остался сапог с ногой, больше ничего не нашли. И случилось это недавно, прошлой зимой. Шатун на него напал. У медведя сила немереная. На втором зимовье по речке Большой он отодрал от нижнего венца полбревна, так, забавы ради. А этот, наш, целого теленка утащил легко, ищи-свищи. Конечно, где-то припрятал. Он любит, чтоб мясцо дошло, припахивать стало. Но не всегда медведь, напав, убивает. Одного мужика из Усть-Баргузина, соседа матери Толика из Днепропетровска, медведица поваляла, всю башку исполосовала и ушла, как будто спохватилась: человек же. Мужик в кровище выбрался на дорогу, первая же машина подобрала его – и в больницу. Все зашили. Только волосы на шрамах перестали расти, а потом он и весь облысел. Но на охоту продолжал ходить. Эвенки считают медведя человеком. Особого вида и рода. И действительно, на ободранного медведя страшно смотреть, так он похож на человека. Весной их иногда на льдине в море уносит. Бригада железнодорожников однажды такого мореплавателя увидела: прибился к земле, еле выбрел, шатается от голода, шкура клочьями… Ну, они его и забили кувалдами и ломами.
– А ту медведицу…
– А как же! Попробовала человечинки – не остановится. Это как бенгальские людоеды, – вдруг перескочил Толик Д., – в «Вокруг света» писали. Ну, там аут полный: по десять человек сжирали деревенских. Прямо в деревню ходили, как в магазин за хлебом.
– Кто? – не понял Валерка.
– Бенгальские тигры, – ответил Толик Д.
И тут за оконцем нашей кельни, освещенной керосиновой лампой, сверкнуло бенгальским белым огнем. Мы все онемели на мгновение, но уже поняли: над шумящим морем покатился гром. Только что море тихо плескалось и вот разом зашумело. Заскрипели лиственницы, что-то захлопало на крыше, как будто птица-мутант опустилась. И снова резанули саблезубые огни тьму. Приближалась гроза. Но дождя еще не было. Он начался минут через двадцать, Толик Д. еще успел рассказать одну историю про медведей.
Наши гости ушли до дождя. Ушли, и ударил дождь. Замолотил по крыше, в оконце. Молнии заплясали над кордоном.
– Я на месте Германа Толиков здесь не оставлял бы, когда полевые работы в тайге или в поселок надо, – сказал я.
– Отдавал бы жену на съедение?
– С медведем она и сама справится.
– Ну и с Толиками тем более, – сказал Валерка.
Мы полежали молча. Я начал задремывать. Уже была глубокая ночь.
– Я об этом тоже подумал, – признался Валерка.
Море набрасывалось на берег, доски под нашими головами сотрясались. У меня уже не было сил отвечать. Сколько можно рассказов, дыма, чая…
Глава пятая
Главохота дала добро на отстрел зарвавшегося медведя, и на следующий день на кордон приплыли охотовед, лесничий (тот, патлатый) и еще два мужика, с ружьями. Вечером они уже знали, где припрятана добыча медведя. Теперь оставалось ждать. И они устроили засаду. Ну а мы снова потащились на покосы. Как арестанты: Герман нес на плече карабин. Валерка с завистью на него поглядывал. Хотя еще больше он завидовал тем, сидевшим в засаде. Он просился с ними, но его не взяли. И вот – снова в руках осточертевшая литовка, а не винтовка. «Какой-то рабский труд», – ворчал Валерка, размазывая мошкару с потом по щеке. Да, молчаливо соглашался я и думал о Гренландии, прохладной, чистой, древней, без коров и лошадей. Где-то там пролегала дорога в никуда. Все-таки собираясь сюда, мы надеялись… На что мы надеялись? На какую-то другую жизнь. Вольную, дикую, полную приключений. А нам, кроме литовок, ничего здесь не доверяют. Даже в питье ущемляют.
Мы ворошили подсохшее сено, складывали его в копны, докашивали последнюю поляну и прислушивались. Но в августовском теплом воздухе только птицы пели и цокали бурундуки. Однажды мы услышали крики журавлей. Толик И. сказал, что это на Верхних озерах. «Там зимовье стоит, прямо из окна можно смотреть. Уже рядом гольцы. Высота. Зеленые склоны, осыпи».
И мы думали, что никогда туда не доберемся. Так и будем рабсилой, рабочими лесного отдела, то есть – всегда на подхвате. А настоящую жизнь ведут охотники. Мы слышали рассказы о приморских горах, где нет никаких заповедников и ничего вообще нет, кроме тайги, гор и зверья. Там рай для охотников. Удивительно, но когда об этом говорил сам Герман Васильевич, по его крупному загорелому лицу блуждала не обычная усмешка, а какая-то затаенная улыбка. «Там только соль нужна, ну еще куль муки, а главное – порох, свинец». А ведь он был тертый калач и всем тут распоряжался. Но что-то и его не устраивало, что-то и его манило – дальше. И, возвращаясь на кордон, мы с тоской смотрели на таинственные кручи противоположного западного берега, то растворяющегося в синеве, то вдруг проступающего с невероятной отчетливостью всеми своими складками. И уже раздумывали, как бы нам туда попасть. На тот берег… Ученые мужи говорят о вечных сюжетах, встроенных в наше сознание. И, кажется, мы нашли один из таких сюжетов – миф о том береге. Мы его прямо увидели на кордоне, увидели его отсветы на лицах лесников и сами попали в его силовое поле.
Утром, днем, вечером и ночью я созерцал тот берег. Выходил отлить и видел темные глыбы под звездами. Чистил зубы и, сплевывая, замечал белое облачко, висящее ниже синих вершин того берега. Вечером следил, как хребты меняют цвет в сиянии заходящего солнца: от розового, кипрейного до сиреневого, фиолетового. И вот какую особенность обнаружил: тот берег иногда мне казался не западным, а восточным. Если еще было рано, то солнце я ожидал увидеть восходящим из-за моря. И когда оно вставало все-таки позади кордона, из-за тайги и крутых высоких гор Баргузинского хребта, небо моего сознания кружилось, как сфера планетария. Так было, когда мы с Германом Васильевичем вытаскивали сети. Мне казалось, что утреннее солнце тонет в облаках над Приморским хребтом, а оно вдруг пробилось в небе напротив, над Баргузинским хребтом. И лучи его были в несколько раз короче вечерних, льющихся из-за моря. Баргузинские горы выше приморских, они стоят неровной стеной на востоке, укорачивая лучи. Восточное солнце было меньше и беднее западного, что противоречит еще одной извечной скрижали – мифу о сильном, восстающем из смертной мглы солнце. И эта скрижаль постоянно скрещивалась в моем сознании с мечом действительности. Сыпались искры. Мне иногда мерещилось, что я останавливаю солнце, встающее на востоке, и перекатываю его по куполу небес на запад.
Но факт остается фактом: тот берег был западным, а не восточным.
А казался – восточным.
Голова кругом…
Медведя застрелили на вторую ночь; мы ничего так и не услышали, и не видели ни его туши, ни шкуры; с ним управились сами охотники, с помощью, конечно, коняги Умного. Днем медведя вывозили, грузили на лодку, а мы в это время навивали первый стог. С косьбой было кончено, как с медведем. Но еще надо было все сено просушить и убрать. И мы убирались, орудовали граблями и вилами.
В один из дней пошел дождь. Потом еще два или три раза случался ливень с грозой. Но все-таки пересушило нам солнце, встающее, как и положено, на востоке, травы, и на скошенных полянах выстроились высокие папахи стогов. Баста.
На кордоне нас ждала протопленная Ириадой баня. Ее не так давно выстроили на самом берегу, и внутри все бревна сверкали красноватой смолой. Смолистый горячий дух был так густ, что горчил на губах и хмелил. «Ну-ка, чё-о, паря? Поддай!» – приказывал Герман с багровым лицом. И Толик Д. плескал на раскаленные камни. Волна обжигающего воздуха накидывалась на нас огненным ангелом или демоном, мы отворачивались, прикрывали глаза. А Герман хлестал себя по крутым волосатым плечам веником, рычал от удовольствия. Мы отстранялись от его веника, гнавшего самый огонь, как крылья какого-то солярного махаона. Толик Д. тоже бил себя веником. А мы трое остерегались. И так пронимало до костей и перехватывало дыхание, соленые ручьи бежали по нашим спинам, животам, щипали глаза, разъеденные гнусом места, саднили. «А теперь – в море!» – скомандовал Герман, и мы один за другим вышли из бани. По камням к воде вели мостки. И Толик Д. первым сорвался и побежал, с воплем плюхнулся в волны. Байкал слегка волновался, был синевато-серым, угрюмым. За Толиком последовали остальные. Волна окатила напитанное жаром тело резкой прохладой, я мгновенно запьянел. И на берег, поддаваемый волной, еле выбрался, так меня качал этот хмель. И уже такого вина я никогда больше не попробую. Подобный перепад температур можно выдержать только в семнадцать лет. Или надо полжизни тренироваться, как Герман. Ну и много еще чего надо…
После бани мы с Валеркой пили брусничную, остальные – белую. Это была последняя совместная трапеза. Больше мы никогда не пробовали Ириадиных булок. Сидели на галетах до самого отплытия. Правда, уже рыба была у нас всегда. Увидев, как легко ловить хариуса в Куркавке, мы по вечерам брали авоську и шли по тропе через кедровник на речку, как в магазин. Однажды наловили столько, что не смогли сразу осилить и решили оставшуюся рыбу засолить; все сделали как надо, три дня выдерживали в растворе под камнем, потом на берегу развесили между двумя кольями и сверху прикрыли даже марлей, одолженной нам Ириадой, от мух. Ждали, когда высохнет, не терпелось попробовать таранки, завяленной на ветру и солнце Байкала. Ждали, ходили вокруг да около… и почувствовали: как-то попахивает. Заглянули под марлю – а в глазах рыбы шевелятся черви… Как будто кадр из сна. Видимо, пожалели соли, хотя соль была. Всю рыбу мы закопали и решили еще раз попытаться. Смекнули, что рыба нам впрок нужна. Мы собирались на тот берег. А Герман Васильевич брался перевезти нас на моторке через море. Мы должны были только оплатить бензин туда и обратно. Но ружьецо он нам отказался продать. Поискать на центральной усадьбе посоветовал. Охотничьих билетов у нас не было. Еще нам необходимы были бродни. Телогрейки можно было взять и старые, в мастерской. Спальники у нас были. На том берегу мы думали построить хижину. Но путались в расчетах. Денег, денег не хватало! Катастрофически. А значит, и времени. Говорили, что осенью начнутся туманы и шторма. Некоторые призывники из-за этого в армию не попадали. Не только по морю, но и по воздуху никуда не доберешься, вертолеты и самолеты прекращали свои рейсы. Мы не знали, как успеть собрать все необходимое до осенних штормов. И тем не менее готовились. Такова ослепляющая сила этого извечного сюжета. Тот берег. На тот берег. На том берегу. Звучали в сознании тамтамы. И не заметили, как впали в этот транс.
Вторую партию рыбы мы щедро засыпали солью. Ни одна муха не посмела приблизиться к ней. Правда, и есть ее было невозможно: все во рту горело и саднило, чистая соль, ни вкуса, ни запаха рыбьего.
– Ничего, с голодухи пойдет, – решил Валерка.
И мы припрятали рыбу. Но это так, на всякий случай. Мы-то знали, что будем кататься сырами в масле на том берегу, вялить мясо изюбра, есть оленьи языки, варить суп из глухарей и рябчиков, собирать всяку-разну ягоду (тоже одна из языковых особенностей Подлеморья – сглатывание окончаний). Конечно, кто-то мог нас спросить: а почему бы вам ее здесь уже не собирать, ягоду? Черники было полно в двух шагах от кордона. Ну, мы ее ели при случае, идя за хариусом на Куркавку. А собирать… да, не до этого пока. Есть дела поважнее. Изучать тайгу, ковать ножи…
Валерка привез с собой из Смоленска кусок рессоры, один знакомый дал ему, сказав, что из такого металла получаются самые лучшие ножи на свете, – что тебе дамасский клинок. Тащить кусок рессоры за тридевять земель, чтоб его выбросить там? Я не понимал Валерку. А он был упорен. И вот решил: пора. Раскочегарил печку, надел телогрейку, рваные зимние рукавицы, примотал к ручкам плоскогубцев две палки и сунул в самое пеклище рессору. И когда она раскалилась докрасна, а потом добела, вынул ее плоскогубцами на палках-ручках, донес до наковальни и крикнул: «Бей!» Я обрушил на огневеющее железо кувалду. Еще несколько раз ударил и увидел, что металл-то размягчился, начал плющиться…
Ну и что? Я все-таки не верил в эту затею. Ладно, расплющить можно, что угодно, ломать не строить. Но Валерка не унывал. Мы поменялись ролями. Теперь я вынимал металл из печки, а Валерка бил. Палки тлели и вспыхнули, пришлось искать железные держатели, одну трубку и железный прут. На стук заглянул сначала один Толик, потом и второй. Они тоже вынесли нам вотум недоверия, посмеивались, как Герман. А Валерка гнул свою линию, припечатывал жаркую пластину кувалдой. Когда она достаточно утончилась, Толик Д. посоветовал взять молоток. И в конце концов сам взял его.
– Дай-ка мне…
И начал стучать. В мастерской стояла жарища. На искры, летевшие из трубы, обратил внимание старший лесник, прислал сына узнать, что тут у нас за паровозные дела. Потом пришел сам, подсмеиваясь. Посмотрел и удивленно протянул:
– А чё, вытягиватца ножик-то.
Да, на наших глазах безобразный кус металла приобретал форму. Зрелище, достойное кисти настоящего художника, певца каких-то новых рун.
Валерка выковал нож. Обточил его, убрал лишнее, навел лоск. И, глядя на это блестящее хищное полотно, нельзя было поверить, что вышло оно из обычной печки, вот как лук или корова кузнеца Ильмаринена. Приблизив его к лицу, можно было увидеть отражение своих глаз. Рукоять Валерка вырезал из березы, временную. Позже нож должна была украсить рукоять из рога. Ну, маральего или лосиного, кого мы первого добудем – там, на синих горах того берега. Валерка выглядел пафосно. Да любой бы на его месте так выглядел. И с ножом он уже не расставался, сшил из голенища от кирзового сапога ножны и носил нож на поясе.
Старший лесник разрешил нам по вечерам ездить на Умном, показал, как его седлать, взнуздывать. Валерка разок прокатился и охладел. Еще бы, первый выезд едва не превратил его в инвалида. Умный на выходе из загона взял слишком близко к правому столбу, и поперечная жердина, довольно толстая, концом уперлась в стопу. Валерка натянул поводья, крикнул, но Умный вместо того, чтобы остановиться, рванул вперед, нога в стремени загнулась назад, до упора, на длину стремени, жердина тоже выгнулась чудовищным луком, и в следующее мгновение либо стопа должна была отлететь, либо Умный остановиться. Не произошло ни того ни другого: жердь с оглушительным треском лопнула, Умный понесся дальше неуправляемый, Валерка упал ему на шею, вцепился в гриву, зажмурившись от дикой боли. Потом ему удалось осадить коня и сползти на землю, разуться и узреть лиловый кровоподтек. «Скотина!» – орал Валерка и размахивал кулаком. Умный лишь косился. В рыбацком колхозе он и не такого наслушался.
Дня три Валерка хромал после этого, а мы с Умным поладили, и по вечерам я выезжал в тайгу. Самой дальней точкой моих выездов было Литоминское зимовье. Там я впервые и увидел, что же это такое, зимовье. Ну, небольшой простой домик из ошкуренных бревен, с потолком из плах, крытый корьем; никаких сеней, внутри вдоль двух стен нары, одно оконце, стол перед ним, полки, в углу железная печка, обложенная камнем, всё.
Я привязывал Умного к березе, растапливал печку, спускался к быстрой шумящей широкой реке, набирал воды, ставил котелок на огонь, садился у окна, глядел на речку, камни, кедры и светлоствольные пихты; заваривал чай, пил с сахаром и галетами, закуривал… о чем-то мечтал. Одиночество юности какое-то скудное, в нем тоска, почти скука. Маета. Томление неизвестно о чем. Вопросы: да зачем мы сюда забрались? что мы здесь делаем?..