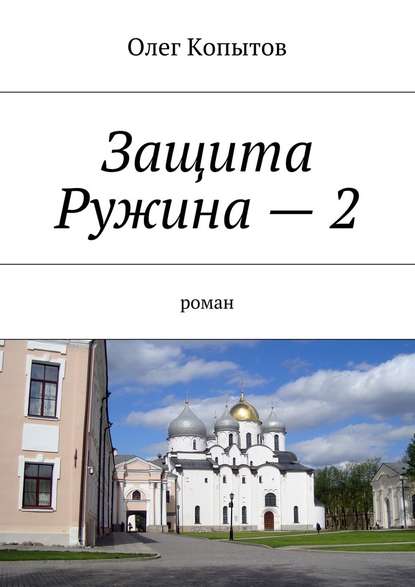По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Защита Ружина – 2. Роман
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– А как думаете, местные, вообще дальневосточные писатели могут дать доход с тиража в тысячу-две, если их издать не очень шикарно, но и не убого?
– Однозначно нет.
– Это почему же?
– Чтобы книжку купили все, нужно, чтобы за ней стоял мощный культурный миф. По крайней мере, раньше так было. Вот как-то родился миф, что Чингиз Айтматов в маленьком пространстве романа «Буранный полустанок», да и по времени, там, кажется, всего сутки прошло, как у классицистов, – чуть ли новый завет классицизма соорудил. Все его и купили. Во всяком случае, интеллигентам было стыдно, если у них этой книги нет или они ее не читали. То же самое с зарубежкой, ну, не знаю, Уильям Голдинг, «Повелитель мух» – вроде бы про детей, но там есть всё, ответы на все вопросы человечества.
– Но сейчас же Дарья Донцова, Акунин?
– А сейчас другой миф, не культурный, а потребительский. Что это однодневки, но вот такие элегантные одноразовые носки, которые – да, одноразовые, но которые хотя бы один раз, хоть один день, но обязательно нужно поносить. Тогда это круто. А штопанные старые носки – это не круто. Что это признак, пардон, лоха. Но вот, чтобы такой как Донцова или Акунин миф соорудить, нужно, во-первых, писать более-менее технично, а во-вторых и главных, иметь мощную машину для раскрутки этого самого потребительского мифа. Ни у кого из местных нет ни того, ни другого. Нет, у местных ни у одного шанса нет, всё, что бы у них не издали – художку, во всяком случае, – в жуткий убыток.
– Вы только Сергею Алексеевичу этого не говорите, – подал очень ценную реплику Карпов. Ценную во многих смыслах. Во-первых, я понял, что Сергей Алексеевич – это Смирнов. Во-вторых, что он, как настоящий хозяин, делает здесь всё, что хочет, типа – авторитарное правление. В-третьих, что художественную литературу, даже местных авторов, даже себе в убыток, всё же издает. В-четвертых, если он потакает своим, пусть благородным, принципам в ущерб экономике – рано или поздно прогорит. Ну и, наконец, в-пятых, что меня берут.
Андрей Васильевич Ружин, сорока лет от роду, кандидат филологических наук, с заметными следами весьма непростых сюжетов жизни на лице, во взгляде, несколько глубоко посаженных глаз, с белогвардейскими, точнее, штабс-капитанскими пепельными усами, стройностью еще без намека на возрастную – не полноту, Боже упаси!, – а мужскую корпусную дооформленность, безо всяких там пошлых животиков, стоял в одиночестве у окна продолговатого небольшого кабинета в первый свой рабочий день в ИД «Этогородские ведомости» и смотрел с высоты десятого этажа на давно ему знакомую улицу имени товарища Ленина, давно ему знакомого Этого города. Его терзало смутное предчувствие – какой-то обманки судьбы, не меньше… Внизу посередь дома в стиле не самых примитивных жилых домов 50-х, светло-коричневого, почти желтого, с угловатыми выступами по фронту, покатым углом рифленой крыши, безупречно квадратными окнами, с балкончиками из перил – маленьких белых колонн (точнее крупных шахматных пешек), посередь этого дома были даже не ворота, а была какая-то ремарковская триумфальная арка, за которой угадывался манящий вглубь и вдаль сквер. Но Ружин хорошо знал свой город. Нет там никакого сквера. Там несколько, действительно, высоких старых деревьев, а дальше – выход в пьяный район, и еще дальше – пропахшая карболкой старая больница… Вот сад у той больницы действительно замечательный…
Зашли двое. Молодой начальник самого молодого отдела издательского дома, где теперь работал Ружин, так похожий на финского актера, только стройнее и со славянской глубоко спрятанной одновременно иронией и грустью, Ружин уже знал, что его зовут Роман Яшин, и второй парень, чуть-чуть рыжеват, хотя, скорее блондинист, но более начальника грустен, неуловимо напоминающий певца Стинга в возрасте эдак под 30.
– Это Лёша Павлюченко, тоже редактор, будете работать вместе, на первых порах он будет вам помогать и вводить в курс дела. Между прочим, он мастер по киокушинкай и кандидат наук.
– Ух, ты! Коллега? Филолог?
Леша засмущался.
– Я закончил фэвээс педа и взял корки кэпедэна…
Потом, видать, быстро понял, что для первого диалога знакомства нагородил слишком много аббревиатур, носить желтую звезду кандидата педагогических наук, к тому же окончившего факультет физвоспитания и спорта пединститута, тоже не каждому приятно, поэтому он спешно махнул рукой и добавил:
– Да, ерунда это все!
И – обращаясь к Роману:
– Ты Андрею проект уже дал?
– Ну, путевые машины надо дать. Там клиенты серьезные, Андрей Васильевич тоже человек серьезный, так что всё будет гармонично.
– Класс!
В первый же рабочий день я пойму, что словечки «класс!», «классно!», «супер!», а также старинное «зашибись!» – любимые в этом учреждении. Правда, они употребляются, как правило, с выхолощенным значением: обозначают не что-то сверх-хорошее, а просто сигнализируют о том, что всё идет своим чередом.
Роман в целом и общем обрисовал задачи отдела и познакомил с его небольшим штатом. Этот отдел издательского дома выпускал рекламные буклеты и проспекты, корпоративные календари, делал для фирмачей сайты, начинал заниматься и мультимедийными презентациями – то есть выпускал и компьютерные диски, где о фирме или органе власти пели дифирамбы цифры, тексты, фото, видео и даже игры. Народ здесь собрался молодой: в районе 30-ти, точнее именно под 30: что мне, например, льстило. Кроме Романа и Алексея – племянник Смирнова Егор, высокий, резковатый, сразу мне не понравился: не тем, что племянник хозяина, хотя подобное всегда настораживает, а тем, что носит имя моего сына. Терпеть не могу, когда кто-то носит имя моих детей! Моё – пожалуйста, жены – пожалуйста. Родителей, бабушек с дедушками – да ради бога, но – детей… Впрочем, с Егором мы всю мою службу в издательском доме были на некоторой дистанции, оттого – в самых милых отношениях. Был Митя – компьютерный гений. Точнее, Роман представил его так:
– А это Дмитрий, наш Билл Гейтс!
– Что, такой богатый?! – удивился я.
Ребята слегка замялись, наконец, Рома отреагировал:
– В будущем – может быть, пока – такой же продвинутый.
Еще был наш собственный отдельный дизайнер. Виктор. Меланхоличен. Сух. В тяжелых очках, видимо, с немалыми диоптриями. Какой-то разновидности автохтонов, но манерами, знаниями, интеллигентностью, продвинутостью похож на японца-аспиранта. Однажды я видел, как он с монитора читает «Улисса» Джойса. Мы с ним быстро подружились.
Вообще-то с дизайнерами здесь всё было как-то странно. Они как бы не были прикреплены ни к одному отделу. Карпов сам раскидывал более-менее свободных по проектам. Точнее, свободными, без запаристой работы они не были никогда, каждый тащил по два-три, иногда больше проектов одновременно. Но вот Виктор почему-то почти все время работал на нас. В отличие от всех других, кто работал и над книгами, включая густо иллюстрированные фолианты типа «Дальний Восток 2005», ну и прочим ассортиментом. Цех дизайнеров вообще был сверхлюбопытен. Колоритен, во всяком случае. Анжелика, маркиза ангелов, она же Анна, очень симпатичная, и, как шутил в моей прошлой жизни болгарский студент МГУ Никола Христев, такие девушки выглядят в джинсах так, словно никаких джинсов на них вовсе и нет: Анжу-Анну я сразу же, конечно, приметил, впрочем, без шансов, это нутром чую, но мне было очень приятно, когда я как-то снялся в большой местной телепередаче, и она очень мило и даже слегка многообещающе со мной на эту тему пококетничала. Сего эротического приключения с ней мне вполне хватило… Был вертлявый короткобородый Сендин, по кличке Сеня, эдакий хипстер без бабочки родом из шестидесятых, а может, лучше сказать, пижонистый чувак из семидесятых, который без потерь конвертировался в гая нулевых. Полулысина и седина ему нисколько не мешали. Он носил исключительно потертые на коленях и гульфике джинсы, в отличие почти от всех (еще железнодорожник с непонятными мне до сих пор начальственными полномочиями) отпускал матерщину в своей речи и был смертельно подколот однажды Яшиным, когда в своей отпуск сидел целыми часами на работе за своим компьютером: «Отпуск отпуском, а порнографию и тяжелый рок из служебного интернета качать надо! Так ведь, Сеня?»
Все фотографы были приходящими, со стороны, но как бы постоянными внештатниками…
Издательский дом занимал целый десятый этаж бело-голубой десятиэтажки стекла и бетона когда-то НИИ судостроения славного Этого города, а теперь странноприимного дома из сорока сороков фирм и фирмочек.
Тяжелее всего было спускаться и подниматься на улицу покурить, ибо лифты часто не работали…
Дней десять «проработал» я в издательском доме, лениво ковыряя что-то в помощь Лёше, который медленно-печально изучал матчасть самолета ЯК-40, поскольку собирался (или уже делал?) проект для авиаотряда города Николаевск-на-Амуре. А в основном я, конечно, по старой журналистской привычке читал для себя газеты в интернете. Ну и трепался со всеми подряд коллегами о всякой всячине – от Жорж Санд до Жоржа Амаду, от рецепта рыбного филе на соевом соусе до глиссад НЛО над Парижем.
А тут звонит жена и говорит, что звонил Сысоев (естественно, нам домой) и сказал, чтобы я к нему пришел. «Как можно скорее!» – добавила.
Прямо в разгар рабочего дня в издательстве я издевательски сказал соседу-трудолюбу Леше: «Я к Сысоеву пошел», – и кликнул компьютер на «Пуск» и «Выключить».
Пошел, прорезая две главные длинные параллельные улицы города улочками-перпендикулярами, раскуривая сигареты на спусках с обоих холмов, как обычно обязательно чуть-чуть задерживаясь взглядом на всех встречных дамах от Наташи Ростовой до мадам Бовари.
Сысоев немного порассказывал, как в свое время устраивал на работу своих молодых подопечных по ликвидированному охотхозяйству, когда сам стал директором краеведческого, главного в области, музея. Наконец, перешел к главному.
– Кажется, мы найдем и тебе работу! Да не такой фиговый листик как сейчас! – быстро и почти грозно добавил Всеволод Петрович, увидев, что я открыл рот сказать, что работа-то у меня как бы уже есть.
– Андрей, я звонил Бедобабину, и, знаешь, Владислав Алексеевич на том конце провода аж весь засветился. Я чувствую такое – у меня опыт-то знаешь какой?
– Конечно.
– Они там уже несколько лет пробивают кафедру журналистики, и я попытался ему доказать, что лучшего кандидата на пост заведующего, чем Андрей Васильевич Ружин, он в этом городе не найдет.
Пока Сысоев велеречиво озвучивал свои доказательства, что не может человек, написавший такие хорошие статьи о Шолохове, быть плохим человеком и никудышным организатором кафедры, я, конечно, обсасывал в мозгу, как Миша Гинзбург третьего дня поведал, что в «нархозе» Бедобабин уже лет пять пытается открыть «Пиар», но у него пока ничего не получается, потому что Бедобабин не любит и не умеет «заносить». Вот Костенко умеет. Точнее его заместитель, проректор по развитию педуниверситета по фамилии… – тут Миша дунув дымом сигареты куда-то в сторону от разговора – выговорил длинную немецкопобную фамилию соплеменника… – умеет. Кафедру «пиар» в педе уже в этом сентябре запустят, а потом и журналистики. А в «нархозе»…. – говорил Гинзбург…
– Всеволод Петрович, извините, но я слышал, что Владислав Алексеевич пытается открыть отделение не журналистики, а паблик рилейшнз, сокращенно «пиар». В академии экономики и права это было бы более уместно. Маркетинг и реклама там уже есть, следующий шаг – какой-нибудь экономический пиар.
– Андрей, посмотри, есть в моей бороде хоть один волосок не седой? Нет? Так уже много-много лет. Поздно мне эти словечки учить. Пиар, муар. По сути, это ведь всё равно журналистика! Экономическая, политическая – да не бывает таких! Так же как литература. Что, Лев Толстой, когда писал «Севастопольские рассказы», занимался военной журналистикой? Дудки! Он написал честную книгу о войне. И всё!
Всеволод Петрович еще немного повозмущался по поводу новейшего словаря, впрочем, я молча был с ним солидарен, а что касается пиара, я ведь сам до сих пор не понимаю, что это такое: гибрид рекламы, пропаганды, однобоких новостей и уговоров путаны на щедрую скидку оттого, что клиент сам по себе парень не промах?
– В общем, вот тебе номер Владислава Алексеевича – это прямой, не приемной, прямой, слышишь! – Всеволод Петрович протянул мне четвертинку стандартного белого листа с крупным своим, похожим на корни дерева почерком. – Телефон заешь где. Иди, звони.
Всеволод Петрович Сысоев – одна из самых известных фигур Российского Дальнего Востока – жил в небольшой двухкомнатной квартирке. Меньшую комнату занимал письменный стол со стулом и книжный шкаф, кресло для гостей, а также диван. Над диваном – коврик с серебряным кинжалом. Не понятно было только, как этот дед-богатырь на сим диванчике по ночам умещался… Впрочем, в доме Достоевского в Старой Руссе я видал в кабинете классика черный диванчик куда меньших размеров: на таком восьмиклассник, стоящий на физкультуре в середине шеренги, мог спать, только свернувшись калачиком… В большой комнате, зале, куда я заходил редко, был обеденный стол, тоже диван, на котором все время располагалась который год больная Екатерина Максимовна, была там еще польская стенка советских времен и телик, чуть ли не «Радуга» 1970-х годов.
Телефон стоял в миниатюрной прихожей, на узком столбике под овальным зеркалом.
«Ну и рожа и тебя, Ружин!», – подумал я. – «Прическа – мой дед Буденным был, из под чуба – лоб упертого, но слегка на саморефлексии, правильный полуовал скул – подбородка, правильность подчеркнута недавним бритьем, нос начинается как римский, а дальше славянская вздёрнутость и хищноватые ноздри, глаза – узковаты, но не узки, зеленоваты, но не зелены, еще с огоньком, но уже далеко не юношеские. И вот эти симметричные стрелки длинных морщин из внешних уголков глаз – чуть ли не к вискам, и маленькая паутинка морщинок-трещинок под глазами. Над тонкими губами серо-русые усы птичьими крыльями – а может, маленькой крышей летающего Эллиного домика… Всё! А вместе – это что?
– Да, – точнее, с чуть проскользнувшей «эн» перед «дэ» в трубке.
– Владислав Алексеевич, вас беспокоит Ружин Андрей Васильевич, с вами разговаривал обо мне Всеволод Петрович Сысоев, по поводу организации новой кафедры в академии.
– А-аа! Да-да-да…