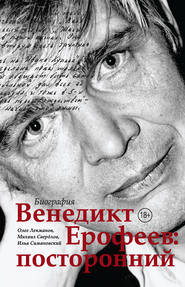По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Ключи к «Серебряному веку»
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Еще отметим, что в том микрофрагменте «Антоновских яблок», о котором сейчас идет речь, и особенно в следующем за ним, ненавязчиво возникают как литературные, так и родственные мотивы, тесно связанные для Бунина с Жуковским: «И с грустью вспомнишь бабушку, ее полонезы на клавикордах, ее томное чтение стихов из “Евгения Онегина”. И старинная мечтательная жизнь встанет перед тобою… Хорошие девушки и женщины жили когда-то в дворянских усадьбах! Их портреты глядят на меня со стены, аристократически-красивые головки в старинных прическах кротко и женственно опускают свои длинные ресницы на печальные и нежные глаза…»
Упоминая о «Евгении Онегине» вслед за перечислением имен «Жуковского, Батюшкова, лицеиста Пушкина», Бунин не только отсылает читателя к XX–XХIV строфам седьмой главы «Евгения Онегина», где, как и в финале третьей главки «Антоновских яблок», говорится о дворянской усадебной библиотеке, но и указывает на генезис пушкинского гения – от лицейских опытов и ученичества у Жуковского и Батюшкова до великого романа в стихах.
Рассказывая же о бабушке и других представительницах своей семьи, смотрящих на него с портретов начала – середины XIX века, Бунин в очередной раз вводит в «Антоновские яблоки» тему собственного рода и через него – тему Жуковского-предка. Напомним, что после смерти Афанасия Бунина в 1791 году заботы о подрастающем Жуковском взяла на себя его бабушка Мария Григорьевна Бунина.
Таким образом, мы вправе воспринять как прямой автокомментарий к имени Жуковского из перечня поэтов Золотого века в «Антоновских яблоках» то место из письма Бунина к Н. Р. Вредену от 9 сентября 1951 года, в котором он уже безо всякого самоумаления подводит итоги своей творческой деятельности. Делает это Бунин в третьем лице, утверждая, что он «классически кончает ту славную литературу, которую начал вместе с Карамзиным Жуковский, а говоря точнее – Бунин, родной, но незаконный сын Афанасия Ивановича Бунина и только по этой своей незаконности получивший фамилию “Жуковский” от своего крестного отца…»[6 - Цит. по первой публикации: Бабореко А. К. Бунин: Жизнеописание. С. 408. Курсив в цитате принадлежит Бунину. – О. Л.].
Рекомендуемые работы
Выготский Л. С. «Легкое дыхание» // Выготский Л. С. Психология искусства. М., 1968.
Сливицкая О. В. «Повышенное чувство жизни»: Мир Ивана Бунина. М., 2004.
Марченко Т. В. Поэтика совершенства: о прозе Ивана Бунина. М., 2015.
Бунин И. А. Чистый понедельник [Опыт пристального чтения]. Лекманов О. А., Дзюбенко М. А. Пояснения для читателя. М., 2016.
Максим Горький – между спасительной ложью и разоблачительной правдой
(О пьесе «На дне»)
В второй лекции цикла мы попробуем развить и дополнить некоторыми конкретными наблюдениями точку зрения на личность и творчество Горького, предложенную в давнем мемуарно-аналитическом очерке Владислава Ходасевича. «…Вся его литературная, как и вся жизненная деятельность, проникнута сентиментальной любовью ко всем видам лжи и упорной, последовательной нелюбовью к правде». Так Ходасевич охарактеризовал жизненную и творческую позицию Горького[7 - Ходасевич В. Горький // Ходасевич В. Собрание сочинений: в 4-х тт. Т. 4. М., 1997. С. 166.], а далее разъяснил, что ложь была любима этим писателем как терапевтическое средство от язв окружающего существования, правда же была ненавидима им как бесполезный и бессмысленный способ обнажения этих язв.
Однако литературную и общественную позицию Горького сильно осложнило то, что его «официальным вероисповеданием» и «рабочей гипотезой», на которой Горький «старался базироваться в своей художественной работе»[8 - Там же. С. 164.], был марксизм с его культом социальной правды: вспомним хотя бы о названии главного печатного органа большевиков – «Правда». Таким образом, первому пролетарскому писателю все время приходилось балансировать на тонкой грани между своим органическим мироощущением и усвоенным от марксистов мировоззрением. Ходасевич не употребляет в своем очерке двух слов, выделенных нами курсивом, но нам они кажутся точно выражающими суть его концепции.
Вслед за Ходасевичем рассмотрим, как тема правды и лжи разрабатывается Горьким в «произведении, может быть – лучшем из всего, что им написано, и несомненно – центральном в его творчестве», а именно – в пьесе «На дне» (1902)[9 - Там же. С. 165.].
Ходасевич справедливо отмечает, что «основная тема» пьесы – «правда и ложь»[10 - Там же.]. Существительное «правда» (и однокоренные с ним слова) употребляется в «На дне» 46 раз. Для сравнения – слово «бедность», например, встречается в пьесе 4 раза.
Уличением во лжи и выявлением правды обитатели ночлежки пользуются в первую очередь как эффективным средством, с помощью которого можно смутить и раздражить оппонента и тем самым одержать над ним моральную победу. «Техника» такого раздражения выразительно демонстрируется уже на первой странице пьесы:
Квашня. Чтобы я, – говорю, – свободная женщина, сама себе хозяйка, да кому-нибудь в паспорт вписалась, чтобы я мужчине в крепость себя отдала – нет! Да будь он хоть принц американский – не подумаю замуж за него идти.
Клещ. Врешь!
Квашня. Чего-о?
Клещ. Врешь. Обвенчаешься с Абрамкой…
Весьма характерно, что буквально через несколько реплик эти персонажи зеркально поменяются местами, и уже не Клещ Квашню, а Квашня Клеща будет гвоздить беспощадной правдой:
Клещ. Велика барыня!.. А с Абрамкой ты обвенчаешься… только того и ждешь…
Квашня. Конечно! Еще бы… как же! Ты вон заездил жену-то до полусмерти…
Клещ. Молчать, старая собака! Не твое это дело…
Квашня. А-а! Не терпишь правды!
Это зеркальное отражение функционально, поскольку оно сразу же создает у читателя и зрителя впечатление, что унижение друг друга правдой, побивание друг друга правдой – не единичный, исключительный случай, а повторяющийся, часто используемый тактический прием в схватках ночлежников. Тем более, что дальше следует такой обмен репликами между Анной и Клещом:
Анна (высовывая голову из-за полога). Начался день! Бога ради… не кричите… не ругайтесь вы!
Клещ. Заныла!
Анна. Каждый божий день![курсив мой – О. Л.] Дайте хоть умереть спокойно!..
Иных резонов говорить правду умные персонажи пьесы не видят, а глупые этих резонов не могут, не умеют сформулировать. Приведем важный фрагмент из второго акта пьесы Горького:
Татарин (горячо). Надо играть честна!
Сатин. Это зачем же?
Татарин. Как зачем?
Сатин. А так… Зачем?
Татарин. Ты не знаешь?
Сатин. Не знаю. А ты – знаешь?
Татарин плюет, озлобленный. Все хохочут над ним.
Впрочем, в третьем акте умный, но донельзя циничный Бубнов все-таки формулирует свой резон говорить правду, исходя при этом из известного принципа «чем хуже, тем лучше»:
Бубнов. Мм-да!.. А я вот… не умею врать! Зачем? По-моему – вали всю правду, как она есть! Чего стесняться?
На эту реплику яростно реагирует все тот же Клещ:
Клещ (вдруг снова вскакивает, как обожженный, и кричит). Какая – правда? Где – правда? (Треплет руками лохмотья на себе.) Вот— правда! Работы нет… силы нет! Вот – правда! Пристанища… пристанища нету! Издыхать надо… вот она, правда! Дьявол! На… на что мне она – правда? Дай вздохнуть… вздохнуть дай! Чем я виноват?.. За что мне – правду? Жить – дьявол – жить нельзя… вот она – правда!..
Все читатели и/или зрители помнят самую знаменитую реплику пьесы: «Чело-век! Это – великолепно! Это звучит… гордо!» Но не все замечают того очевидного обстоятельства, что наряду с темой «Человека», которая настойчиво и даже несколько навязчиво варьируется в репликах персонажей «На дне», в пьесе Горького отчетливо звучит тема человека-зверя, человека-животного. Уже в начинающей пьесу развернутой авторской ремарке показывается, как тот самый Сатин, который в четвертом акте будет патетически воспевать человека, «только что проснулся, лежит на нарах – и рычит». Он же в финальном эпизоде второго акта «(кричит). Мертвецы не чувствуют… Кричи… реви… мертвецы не слышат!..» Звериное «рычание» и звериный «рев» дополняются в пьесе звериным «ворчанием»: «Входит Зоб; потом – до конца акта – еще несколько фигур мужчин и женщин. Они раздеваются, укладываются на нары, ворчат» (ремарка из четвертого акта). Здесь превращение человека в зверя происходит буквально на наших глазах. «Раздеваются» – это еще характерно человеческое; «укладываются на нары» – это уже не столь характерно человеческое; «ворчат» – это уже характерно звериное, «собачье».
Человек – если еще не зверь, то всегда готов повести себя как зверь (реплика Насти в третьем действии: «Голая! На четвереньках поползу!» Та же тема – в укоризненных словах Барона, обращенных к Пеплу: «Ты бы меня тогда заставлял на четвереньках ходить, когда я был неровня тебе…»). «Зверями» друг друга и самих себя персонажи пьесы называют часто и охотно. Особенно достается хозяйке ночлежки Василисе Костылевой: «Сколько в ней зверства, в бабе этой!» (Бубнов в первом действии); «Зверь! Хвастаешься зверством своим?» (Пепел во втором действии); «Сестра у тебя – зверь злой» (Лука Наташе в третьем действии); «Что зверствуешь?» (Квашня в третьем действии: она же – обоим Костылевым. чуть ниже: «Гляди-ко, звери какие»). Показательно, впрочем, что Васька Пепел, во втором действии обвиняющий Василису Костылеву: «За то ты ее и бьешь зверски!», – буквально несколькими репликами выше поучает ее же: «В женщине – душа должна быть… Мы – звери… нам надо… надо нас – приручать…».
Герои пьесы редко вспоминают о больших, экзотических животных. Поверить в то, что слесарь Клещ – «крокодил», Сатину так же трудно, как и в то, что он «талант, гений, частный пристав» (начало первого акта). А если уж и говорится о «верблюде», то тут же выясняется, что «он вроде… осла! Только без ушей…» (финал четвертого акта). Чаще всего персонажи драмы сравнивают своих оппонентов с мелкими хищниками, которые убить – не убьют, но кровь попортят изрядно. Едва ли не самое распространенное ругательство в пьесе – это «собака!», что несколько неожиданно, если вспомнить об апологии собаки в русской литературе конца XIX – начала XX века. «Молчать, старая собака!» – кричит Клещ Квашне в самом начале пьесы (мы уже цитировали эту реплику). «Околел… старый пес!» – так Пепел реагирует на смерть Костылева в конце третьего действия. «Я тебе, щенку, сказала – молод ты лаять про меня…» – ругается Василиса Костылева на Алешку в первом акте (и тут же ему угрожает: «…я всю улицу натравлю на тебя…»).
Наиболее агрессивного и самостоятельного среди ночлежников Ваську Пепла (его комната, хоть и «тонкими переборками», но все же отгорожена от общего жилища – логова) в пьесе периодически называют волком («Я ее жалею…» – говорит Пепел о Наташе в первом действии. «Как волк овцу…» – иронически прибавляет Бубнов. «Несладко живу… волчья жизнь – мало радует…» – признается сам Пепел Наташе в третьем акте. Он же хвастается во втором акте: «Жди от волка толка!»). В начале четвертого акта, однако, выведенная из себя Настя кричит, обращаясь ко всем обитателям «дна»: «Волки! Чтоб вам издохнуть! Волки!»
Еще одно хищное существо, чьими приметами персонажи пьесы охотно наделяют друг друга, – это ворон. «Вороном» обзывает Пепел Бубнова в первом акте («Погоди, не каркай!» – бросает Васька ему же во втором акте. Страницей выше Медведев обращается со сходной репликой к Луке: «Ты… чего каркаешь?»). «А поймаешь, – на горе всему вашему гнезду… Спросят: кто меня на воровство подбил и место указал? Мишка Костылев с женой! Кто краденое принял? Мишка Костылев с женой!» – пугает Медведева Пепел во втором действии[11 - Сравните с развитием аналогичной темы, например, в «Золотом теленке» Ильфа и Петрова, где возникает зловещий образ «вороньей слободки».]. Репликам Пепла можно противопоставить обращенные к Насте слова Бубнова: «Раскрашивай, ворона, перья… валяй!», где ворона, пытающаяся замаскироваться – «раскрасить» свои перья, выглядит жалко[12 - Сравните с репликой того же Бубнова в третьем действии: «Мастер, положим, хороший… очень он ловко собак в енотов перекрашивал… кошек тоже – в кенгурий мех… выхухоль… и всяко».]. Обращению Бубнова к Насте-вороне, в свою очередь, противостоит реплика Луки из второго действия пьесы, адресованная умирающей Анне: «Это ничего! Это – перед смертью… голубка. Ничего, милая! Ты – надейся…».
И, наконец, мельчайшие из упоминаемых в пьесе хищных животных – это кровососущие насекомые-паразиты. «Зачем тебя давить?» – с таким издевательским вопросом обращается хозяин ночлежки Костылев к персонажу с говорящей фамилией «Клещ». Однако и сам Костылев, как это сплошь и рядом случается в пьесе Горького, в итоге предстает чуть ли не двойником Клеща / клеща. «Он в меня, как клещ, впился… четыре года сосет! – жалуется Пеплу Василиса Костылева. – А какой он мне муж? И для всех он – яд…» Интересно, что в знаменитой реплике человеколюбца Луки «Я и жуликов уважаю, по-моему, ни одна блоха – не плоха: все черненькие, все прыгают…», блохи описаны как вполне симпатичные, шустрые существа, но отнюдь не как насекомые-паразиты. Отметим, что реплике миролюбивого «старичка» Луки о людях-блохах, которые прыгают, противостоит в пьесе «кафкианская» реплика агрессивного «старичка» Костылева о людях-тараканах, которые ползают:
Нельзя, чтобы люди вроде тараканов жили… Куда кто хочет – туда и ползет…
Человек должен определять себя к месту… а не путаться зря на земле…
Животные-хищники, как известно, нападают на домашнюю скотину. Люди-хищники в пьесе «На дне» нападают на самих себя. Они сами себе и палачи, и жертвы. «Ты чего хрюкаешь?» – спрашивает Бубнов Сатина в начале пьесы. «Эх, вы… свиньи!» – упрекает ночлежников Василиса Костылева ниже. «Нищая… свинья…» – кричит самой Василисе Костылев во втором действии. «Козел ты рыжий!» – так Квашня обзывает Клеща в первом акте. «Ах, и хороша парочка, баран да ярочка», – иронически умиляется Костылев, глядя на Анну и Актера. «Отставной козы барабанщиком» называет Алешка Медведева в четвертом акте. На него же Алешка намекает в разговоре с Квашней: «Стало быть, правду говорят, что и курица пьет!» А Сатин – главный протагонист пьесы – начинает свой знаменитый монолог о Человеке с выкрика, обращенного к братьям и сестрам по несчастью: «Молчать! Вы – все – скоты!»