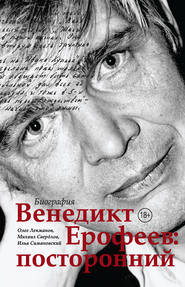По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Ключи к «Серебряному веку»
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Даже и приведенная подборка цитат показывает, что изо всех героев пьесы «На дне», ведущих себя подобно злым зверям и гвоздящих друг друга правдой как дубиной, отчетливо выделяется странник Лука. О его роли в пьесе хорошо написал в своем очерке о Горьком Ходасевич:
Он является, чтобы обольстить обитателей «дна» утешительной ложью о существующем где-то царстве добра. При нем легче не только жить, но и умирать. После его таинственного исчезновения жизнь опять становится злой и страшной.
Лука наделал хлопот марксистской критике, которая изо всех сил старается разъяснить читателям, что Лука – личность вредная, расслабляющая обездоленных мечтаниями, отвлекающая их от действительности и от классовой борьбы, которая одна может им обеспечить лучшее будущее. Марксисты по-своему правы: Лука, с его верою в просветление общества через просветление личности, с их точки зрения в самом деле вреден. Горький это предвидел и потому, в виде корректива, противопоставлял Луке некоего Сатина, олицетворяющего пробуждение пролетарского сознания. Сатин и есть, так сказать, официальный резонер пьесы. «Ложь – религия рабов и хозяев. Правда – бог свободного человека», провозглашает он. Но стоит вчитаться в пьесу, и мы тотчас заметим, что образ Сатина, по сравнению с образом Луки, написан бледно и – главное – не любовно. Положительный герой менее удался Горькому, нежели отрицательный, потому что положительного он наделил своей официальной идеологией, а отрицательного – своим живым чувством любви и жалости к людям.
Замечательно, что, в предвидении будущих обвинений против Луки, Горький именно Сатина делает его защитником[13 - Ходасевич В. Горький. С. 165.].
Ходасевич подразумевает здесь знаменитый монолог Сатина из четвертого акта пьесы, кратким стилистическим анализом которого мы бы и хотели завершить эту лекцию:
Сатин (ударяя кулаком по столу). Молчать! Вы – все – скоты! Дубье… молчать о старике! (Спокойнее.) Ты, Барон, – всех хуже!.. Ты – ничего не понимаешь… и – врешь! Старик – не шарлатан! Что такое – правда? Человек – вот правда! Он это понимал… вы – нет! Вы – тупы, как кирпичи… Я – понимаю старика… да! Он врал… но – это из жалости к вам, черт вас возьми! Есть много людей, которые лгут из жалости к ближнему… я – знаю! Я – читал! Красиво, вдохновенно, возбуждающе лгут!.. Есть ложь утешительная, ложь примиряющая… Ложь оправдывает ту тяжесть, которая раздавила руку рабочего… и обвиняет умирающих с голода… Я – знаю ложь! Кто слаб душой… и кто живет чужими соками – тем ложь нужна… одних она поддерживает, другие – прикрываются ею… А кто – сам себе хозяин… кто независим и не жрет чужого – зачем тому ложь? Ложь – религия рабов и хозяев… Правда – бог свободного человека!
Как видим, этот монолог действительно начинается с защиты Луки и если не апологии, то уж точно – оправдания утешительной лжи («из жалости к вам», «из жалости к ближнему»). Однако по мере разворачивания своей страстной речи Сатин почти неуследимо для читателя переходит от оправдания лжи к ее обличению. По-видимому, Горький специально позаботился о житейской мотивировке для отмеченного нами и очевидного логического сбоя в сатинском монологе – напомним, что он произносится в состоянии сильного опьянения. Отчетливым маркером внезапной смены идеологической позиции Сатина становится проникновение в его речь слов и выражений из марксистского митингового жаргона. Если в первой, оправдательной части монолога встречается, по крайней мере, одно существительное, отсылающее к евангельскому контексту («ближнему»), то вторая, обвинительная часть изобилует формулировками из совсем другого ряда: «Ложь оправдывает ту тяжесть, которая раздавила руку рабочего», «…кто живет чужими соками», «кто… не жрет чужого». И, наконец: «Ложь – религия рабов и хозяев…»
То есть читатель получает возможность воочию наблюдать, как усвоенное горьковское мировоззрение борется с естественным горьковским мироощущением. При этом мировоззрение побеждает (если побеждает!) мироощущение не логически, а едва ли не только за счет более выгодного стратегического местоположения апологии правды в тексте пьесы. Представляется, что простая перестановка первой и второй частей монолога Сатина местами могла бы кардинально поменять оценки правды и лжи, выставляемые этим героем:
Я – знаю ложь! Кто слаб душой… и кто живет чужими соками – тем ложь нужна… одних она поддерживает, другие – прикрываются ею… А кто – сам себе хозяин… кто независим и не жрет чужого – зачем тому ложь? Ложь – религия рабов и хозяев… Правда – бог свободного человека! Я – понимаю старика… да! Он врал… но – это из жалости к вам, черт вас возьми! Есть много людей, которые лгут из жалости к ближнему… я – знаю! Я – читал!
Все это в конечном итоге приводит к многомерности пьесы «На дне» и вольной или невольной стереоскопичности позиции ее автора. Что, не в последнюю очередь, и превращает пьесу в одну из лучших вещей Горького, лишенную плакатной трафаретности, которая отвращает многих читателей, например, от горьковского романа «Мать».
Рекомендуемые работы
Гачев Г. Д. Что есть истина? Прения о правде и лжи в «На дне» М. Горького // Театр. 1966. № 12.
Тагер Е. Б. О стиле Горького // Тагер Е. Б. Избранные работы о литературе. М., 1988.
Келдыш В. А. Творчество М. Горького // История всемирной литературы: в 8-ми тт. Т. 8. М., 1994.
Максим Горький: Pro et contra: Личность и творчество Максима Горького в оценке русских мыслителей и исследователей 1890–1910-е гг.: Антология. СПб., 1997.
Валерий Брюсов – символы-ребусы
(О стихотворении «Творчество»)
Творчество
Тень несозданных созданий
Колыхается во сне,
Словно лопасти латаний
На эмалевой стене.
Фиолетовые руки
На эмалевой стене
Полусонно чертят звуки
В звонко-звучной тишине.
И прозрачные киоски,
В звонко-звучной тишине,
Вырастают, словно блестки,
При лазоревой луне.
Всходит месяц обнаженный
При лазоревой луне…
Звуки реют полусонно,
Звуки ластятся ко мне.
Тайны созданных созданий
С лаской ластятся ко мне,
И трепещет тень латаний
На эмалевой стене.
1 марта 1895
Это стихотворение можно без преувеличения назвать программным не только для поэзии Валерия Брюсова, но и для раннего русского символизма в целом.
В свое время оно было встречено шквалом улюлюканий и насмешек. Автора уличали в шарлатанстве, обвиняли в неумении связно мыслить и даже ставили ему психиатрический диагноз. Соответственно, все стихотворение было объявлено образчиком декадентской галиматьи.
Такая характеристика верна с точностью до наоборот. Если в чем и правомерно было бы упрекнуть Брюсова, так это в излишней рациональности. Перед нами не текст-тайна (как того требовали установки символизма) и даже не текст-загадка (как будет позднее у акмеистов), а текст-ребус[14 - Напомним, что Брюсов в юности сотрудничал с оккультистским журналом «Ребус».], расшифровать который сегодняшнему читателю, воспитанному на стихах модернистов, большого труда не составит.
Ключ к стихотворению читатель получает, соотнеся первую строфу с последней, в которой варьируются образы первой. Особое внимание он должен обратить на причастие «созданных» (при существительном «созданий») из начальной строки финальной строфы, отчетливо противопоставленное причастию «несозданных» (при этом же существительном) из первой строки стихотворения:
несозданных созданий vs. созданных созданий
Из этого сопоставления следует вывод: в стихотворении изображается процесс созидания, а, говоря точнее (и обратив внимание на подсказку, содержащуюся в заглавии стихотворения), – творческий процесс. Р. Д. Тименчик предложил для текстов такого рода чуть громоздкое, но точное определение – автометаописание: я рассказываю в тексте о том, как я создаю этот текст[15 - См.: Тименчик Р. Д. Автометаописание у Ахматовой // Russian Literature. 1974. № 10–11.].
Теперь, обретя ключ ко всему стихотворению, внимательно перечитаем его снова строфа за строфой:
Тень несозданных созданий
Колыхается во сне,
Словно лопасти латаний
На эмалевой стене.
О какой «эмалевой стене» идет речь в первой строфе? Очевидно – об эмалевых печных изразцах, подобных тем, что будут много лет спустя описаны на одной из первых страниц «Белой гвардии» Михаила Булгакова: «Замечательная печь на своей ослепительной поверхности несла… исторические записи и рисунки». Изразцы ослепительные, то есть они обладают способностью отражать реальные предметы, находящиеся в комнате. И мы можем, лишь самую малость вольничая, реконструировать реальную картинку, подразумеваемую в первой строфе: лирический герой находится в комнате, вероятно, пребывая в состоянии медитации, полусна; как бы сквозь сон он видит, что разлапистые листья растений под названием латания (действительно, очень похожие на лопасти мельницы) отражаются в печных эмалевых изразцах; смутные отражения листьев растений в изразцах так же соотносятся с самими этими листьями, как смутный пока творческий замысел, зреющий в подсознании лирического героя, – с будущим воплощением этого замысла.
Фиолетовые руки
На эмалевой стене
Полусонно чертят звуки
В звонко-звучной тишине.
Во второй строфе автор показывает нам, как лирический герой делает первый шаг на пути реализации своего творческого замысла: фиолетовые тени от стеблей и листьев латаний он уподобляет рукам и ладоням с растопыренными пальцами. Внимательный читатель понимает, что свой мир лирический герой будет творить, преображая предметы и тени от предметов, взятые из окружающей его действительности[16 - Сравните с зачином позднейшего стихотворения Мандельштама 1909 года, явно находящегося в зависимости от разбираемых брюсовских строк: «На бледно-голубой эмали, // Какая мыслима в апреле, // Березы ветви поднимали // И незаметно вечерели».]. Здесь будет уместно целиком процитировать короткое и тоже программное брюсовское стихотворение 1896 года, в котором идеальный мир, создаваемый в «тайных мечтах» лирического героя, прямо соотнесен с окружающим его эмпирическим миром:
Четкие линии гор;
Бледно-неверное море…
Гаснет восторженный взор,
Тонет в безбрежном просторе.
Создал я в тайных мечтах
Мир идеальной природы, —
Что перед ним этот прах: