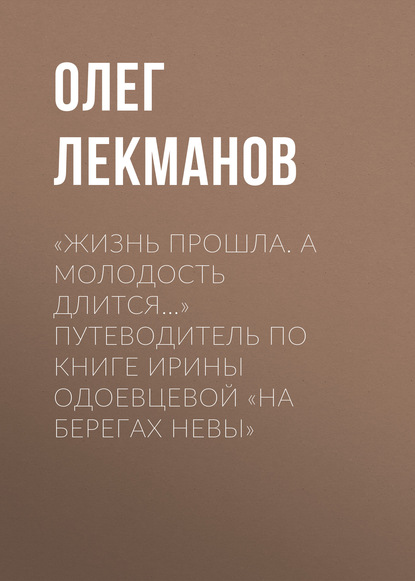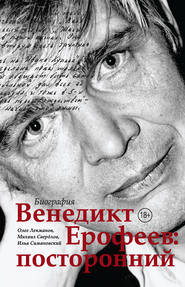По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
«Жизнь прошла. А молодость длится…» Путеводитель по книге Ирины Одоевцевой «На берегах Невы»
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Купите бублички,
Горячи бублички,
Гоните рублички
Ко мне скорей!
И в ночь ненастную
Меня, несчастную,
Торговку частную,
Ты пожалей.
Отец мой пьяница,
Он этим чванится,
Он к гробу тянется
И все же пьет!
А мать гулящая,
Сестра пропащая,
А я курящая —
Смотрите – вот!
“Бублички” действительно – и вполне справедливо – прославили своего автора. Но в те дни Тимофеев мечтал не о такой фокстротной славе. Лира его была настроена на высокий лад. Он торжественно и грозно производил запоздалый суд над развратной византийской императрицей Феодорой, стараясь навек пригвоздить ее к позорному столбу. На мой недоуменный вопрос, почему он избрал жертвой своей гневной музы именно императрицу Феодору, он откровенно сознался, что ничего против нее не имеет, но, узнав о ее существовании из отцовской энциклопедии Брокгауза и Ефрона, не мог не воспользоваться таким великолепным сюжетом.
Понятно, мои “кружевные” стихи пользовались у слушателей и в особенности у слушательниц несравненно бо?льшим успехом. Все они были ярыми поклонницами Лидии Лесной и Веры Инбер и, захлебываясь от восторга, декламировали:
Дама с тонким профилем ноги
выломала жемчуг из серьги… —
и тому подобный вздор. Из моих стихов им, как, впрочем, и мне самой, особенно нравилось:
Я сижу на сафьяновом красном диване.
За окном петербургская снежная даль.
И я вижу, встает в петербургском тумане
Раззолоченный, пышный и милый Версаль.
Все сегодня мне кажется странно и ложно.
Ты сегодня особенно страстен и дик,
И мне хочется крикнуть тебе: “Осторожно!
Ты сотрешь мои мушки, сомнешь мой парик!”
Электрический свет и узоры карниза,
Все предметы и люди чужие вокруг.
Я сегодня не я. Я сегодня маркиза.
– Не сердись на маркизу, мой ласковый друг.
Когда в начале февраля нас известили, что в следующую пятницу состоится лекция Гумилева с разбором наших стихов, не только вся литературная группа, но все мои “поклонники” пришли в волнение.
Гумилев на первой своей лекции объявил, что вряд ли наше творчество имеет что-нибудь общее с поэзией. Естественно, Гумилев и предполагать не может, какие среди нас таланты. И, главное, какой талант – я. Было решено удивить, огорошить его, заставить пожалеть о его необоснованном суждении. Но какое из моих стихотворений представить для разбора? Долго спорили, долго советовались. Наконец выбор пал на “Мирамарские таверны”. Гумилев, как известно, любитель экзотики и автор “Чужого неба”. Его не могут не пленить строки:
Мирамарские таверны,
Где гитаны пляшут по ночам…
или:
Воздух душен и пьянящ.
Я надену черное сомбреро,
Я накину красный плащ…
Эти “Таверны”, каллиграфически переписанные на большом листе особенно плотной бумаги, не мной, а одним из моих “поклонников”, будут положены поверх всех прочих стихов. И Гумилев сразу прочтет и оценит их. Оценит их и, конечно, меня, их автора. В этом ни у меня, ни у других сомнения не возникало.
В ночь с четверга на пятницу я плохо спала от предчувствия счастья. Я радостно замирала, представляя себе изумление Гумилева.
– Я поражен, – скажет он. – Эти стихи настоящего большого поэта. Я хочу сейчас же познакомиться с ним.
И я встану со своего места и подойду к кафедре. Гумилев спустится с нее, низко поклонится мне и пожмет мне руку своей длинной, узкой рукой.
– Поздравляю вас.
И все зааплодируют.
В мечтах мне это представлялось чем-то вроде венчания Петрарки – все же в миниатюре. Я не сомневалась, что все произойдет именно так. Я была уверена, что в жизни сбывается все, чего сильно и пламенно желаешь. А я ли не желала этого с самого детства?
В тот день я оделась и причесалась особенно тщательно и долго крутилась перед зеркалом, расправляя большой черный бант в волосах. Без этого банта меня тогда и представить себе нельзя было.
Дома, как и в “Живом слове”, все знали о моем предстоящем торжестве. И здесь, и там никто не сомневался в нем.
Класс, где должен был произойти разбор стихов, был переполнен слушателями других отделений. Я скромно уселась на предпоследнюю скамью. С краю. Чтобы, когда Гумилев попросит “автора этих прекрасных стихов” выйти на середину класса, другим не пришлось бы вставать, пропуская меня.
На этот раз Гумилев не опоздал ни на минуту. “Живое слово” очень хорошо отапливалось, и Гумилев оставил у швейцара свою самоедскую доху и ушастую оленью шапку. Без самоедской дохи и ушастой шапки у него, в коричневом костюме с сильно вытянутыми коленями, был гораздо менее экзотичный вид. Держался он, впрочем, так же важно, торжественно и самоуверенно. И так же подчеркнуто медленно взошел на кафедру, неся перед собой, как щит, пестрый африканский портфель. Он отодвинул стул, положил портфель на тоненькую стопку наших стихов и, опершись о кафедру, обвел всех нас своими косящими глазами.
Я тогда впервые испытала странное, никогда и потом не менявшееся ощущение от его косого, двоящегося взгляда. Казалось, что он, смотря на меня, смотрит еще на кого-то или на что-то за своим плечом. И от этого мне становилось как-то не по себе, даже жутко.
Оглядев нас внимательно, он медленно сел, скрестил руки на груди и заговорил отчетливо, плавно и гулко, повторяя в главных чертах содержание своей первой лекции. Казалось, он совсем забыл об обещании разобрать наши стихи. Лица слушателей вытянулись. Осталось только четверть часа до конца лекции, а Гумилев все говорит и говорит. Но вдруг, не меняя интонации, он отодвигает портфель в сторону.
– Не пора ли заняться этим? – И указывает своим непомерно длинным указательным пальцем на листы со стихами. – Посмотрим, есть ли тут что-нибудь стоящее?
Неужели он начнет не с меня, а возьмет какой-нибудь другой лист? Я наклоняюсь и быстро трижды мелко крещусь. Только бы он взял мои “Таверны”!
Гумилев в раздумье раскладывает листы веером.
– Начнем с первого, – заявляет он. – Конечно, он неспроста положен первым. Хотя не окажется ли, по слову евангелиста, первый последним?
Он подносит лист с “Мирамарскими тавернами” к самым глазам.
– Почерк, во всяком случае, прекрасный. Впрочем, не совсем подходящий для поэта, пожалуй. Не без писарского шика.
Я чувствую, что холодею. Зачем, зачем я не сама переписала свои стихи? А Гумилев уже читает их, как-то особенно твердо и многозначительно произнося слова, делая паузу между строками и подчеркивая рифмы. Мое сердце взлетает и падает с каждым звуком его гулкого голоса. Наконец он откладывает листок в сторону и снова скрещивает руки по-наполеоновски.
– Так, – произносит он протяжно. – Так! Подражание “Желанию быть испанцем” Козьмы Пруткова: “Тореадор, скорей, скорее в бой! Там ждет тебя любовь!”
Он усмехается. Не улыбается, а именно усмехается. Не только злобно, язвительно, но, как мне кажется, даже кровожадно. В ответ – робкий, неуверенный смех. Несколько голов поворачиваются в мою сторону с удивлением. А Гумилев продолжает:
Горячи бублички,
Гоните рублички
Ко мне скорей!
И в ночь ненастную
Меня, несчастную,
Торговку частную,
Ты пожалей.
Отец мой пьяница,
Он этим чванится,
Он к гробу тянется
И все же пьет!
А мать гулящая,
Сестра пропащая,
А я курящая —
Смотрите – вот!
“Бублички” действительно – и вполне справедливо – прославили своего автора. Но в те дни Тимофеев мечтал не о такой фокстротной славе. Лира его была настроена на высокий лад. Он торжественно и грозно производил запоздалый суд над развратной византийской императрицей Феодорой, стараясь навек пригвоздить ее к позорному столбу. На мой недоуменный вопрос, почему он избрал жертвой своей гневной музы именно императрицу Феодору, он откровенно сознался, что ничего против нее не имеет, но, узнав о ее существовании из отцовской энциклопедии Брокгауза и Ефрона, не мог не воспользоваться таким великолепным сюжетом.
Понятно, мои “кружевные” стихи пользовались у слушателей и в особенности у слушательниц несравненно бо?льшим успехом. Все они были ярыми поклонницами Лидии Лесной и Веры Инбер и, захлебываясь от восторга, декламировали:
Дама с тонким профилем ноги
выломала жемчуг из серьги… —
и тому подобный вздор. Из моих стихов им, как, впрочем, и мне самой, особенно нравилось:
Я сижу на сафьяновом красном диване.
За окном петербургская снежная даль.
И я вижу, встает в петербургском тумане
Раззолоченный, пышный и милый Версаль.
Все сегодня мне кажется странно и ложно.
Ты сегодня особенно страстен и дик,
И мне хочется крикнуть тебе: “Осторожно!
Ты сотрешь мои мушки, сомнешь мой парик!”
Электрический свет и узоры карниза,
Все предметы и люди чужие вокруг.
Я сегодня не я. Я сегодня маркиза.
– Не сердись на маркизу, мой ласковый друг.
Когда в начале февраля нас известили, что в следующую пятницу состоится лекция Гумилева с разбором наших стихов, не только вся литературная группа, но все мои “поклонники” пришли в волнение.
Гумилев на первой своей лекции объявил, что вряд ли наше творчество имеет что-нибудь общее с поэзией. Естественно, Гумилев и предполагать не может, какие среди нас таланты. И, главное, какой талант – я. Было решено удивить, огорошить его, заставить пожалеть о его необоснованном суждении. Но какое из моих стихотворений представить для разбора? Долго спорили, долго советовались. Наконец выбор пал на “Мирамарские таверны”. Гумилев, как известно, любитель экзотики и автор “Чужого неба”. Его не могут не пленить строки:
Мирамарские таверны,
Где гитаны пляшут по ночам…
или:
Воздух душен и пьянящ.
Я надену черное сомбреро,
Я накину красный плащ…
Эти “Таверны”, каллиграфически переписанные на большом листе особенно плотной бумаги, не мной, а одним из моих “поклонников”, будут положены поверх всех прочих стихов. И Гумилев сразу прочтет и оценит их. Оценит их и, конечно, меня, их автора. В этом ни у меня, ни у других сомнения не возникало.
В ночь с четверга на пятницу я плохо спала от предчувствия счастья. Я радостно замирала, представляя себе изумление Гумилева.
– Я поражен, – скажет он. – Эти стихи настоящего большого поэта. Я хочу сейчас же познакомиться с ним.
И я встану со своего места и подойду к кафедре. Гумилев спустится с нее, низко поклонится мне и пожмет мне руку своей длинной, узкой рукой.
– Поздравляю вас.
И все зааплодируют.
В мечтах мне это представлялось чем-то вроде венчания Петрарки – все же в миниатюре. Я не сомневалась, что все произойдет именно так. Я была уверена, что в жизни сбывается все, чего сильно и пламенно желаешь. А я ли не желала этого с самого детства?
В тот день я оделась и причесалась особенно тщательно и долго крутилась перед зеркалом, расправляя большой черный бант в волосах. Без этого банта меня тогда и представить себе нельзя было.
Дома, как и в “Живом слове”, все знали о моем предстоящем торжестве. И здесь, и там никто не сомневался в нем.
Класс, где должен был произойти разбор стихов, был переполнен слушателями других отделений. Я скромно уселась на предпоследнюю скамью. С краю. Чтобы, когда Гумилев попросит “автора этих прекрасных стихов” выйти на середину класса, другим не пришлось бы вставать, пропуская меня.
На этот раз Гумилев не опоздал ни на минуту. “Живое слово” очень хорошо отапливалось, и Гумилев оставил у швейцара свою самоедскую доху и ушастую оленью шапку. Без самоедской дохи и ушастой шапки у него, в коричневом костюме с сильно вытянутыми коленями, был гораздо менее экзотичный вид. Держался он, впрочем, так же важно, торжественно и самоуверенно. И так же подчеркнуто медленно взошел на кафедру, неся перед собой, как щит, пестрый африканский портфель. Он отодвинул стул, положил портфель на тоненькую стопку наших стихов и, опершись о кафедру, обвел всех нас своими косящими глазами.
Я тогда впервые испытала странное, никогда и потом не менявшееся ощущение от его косого, двоящегося взгляда. Казалось, что он, смотря на меня, смотрит еще на кого-то или на что-то за своим плечом. И от этого мне становилось как-то не по себе, даже жутко.
Оглядев нас внимательно, он медленно сел, скрестил руки на груди и заговорил отчетливо, плавно и гулко, повторяя в главных чертах содержание своей первой лекции. Казалось, он совсем забыл об обещании разобрать наши стихи. Лица слушателей вытянулись. Осталось только четверть часа до конца лекции, а Гумилев все говорит и говорит. Но вдруг, не меняя интонации, он отодвигает портфель в сторону.
– Не пора ли заняться этим? – И указывает своим непомерно длинным указательным пальцем на листы со стихами. – Посмотрим, есть ли тут что-нибудь стоящее?
Неужели он начнет не с меня, а возьмет какой-нибудь другой лист? Я наклоняюсь и быстро трижды мелко крещусь. Только бы он взял мои “Таверны”!
Гумилев в раздумье раскладывает листы веером.
– Начнем с первого, – заявляет он. – Конечно, он неспроста положен первым. Хотя не окажется ли, по слову евангелиста, первый последним?
Он подносит лист с “Мирамарскими тавернами” к самым глазам.
– Почерк, во всяком случае, прекрасный. Впрочем, не совсем подходящий для поэта, пожалуй. Не без писарского шика.
Я чувствую, что холодею. Зачем, зачем я не сама переписала свои стихи? А Гумилев уже читает их, как-то особенно твердо и многозначительно произнося слова, делая паузу между строками и подчеркивая рифмы. Мое сердце взлетает и падает с каждым звуком его гулкого голоса. Наконец он откладывает листок в сторону и снова скрещивает руки по-наполеоновски.
– Так, – произносит он протяжно. – Так! Подражание “Желанию быть испанцем” Козьмы Пруткова: “Тореадор, скорей, скорее в бой! Там ждет тебя любовь!”
Он усмехается. Не улыбается, а именно усмехается. Не только злобно, язвительно, но, как мне кажется, даже кровожадно. В ответ – робкий, неуверенный смех. Несколько голов поворачиваются в мою сторону с удивлением. А Гумилев продолжает: