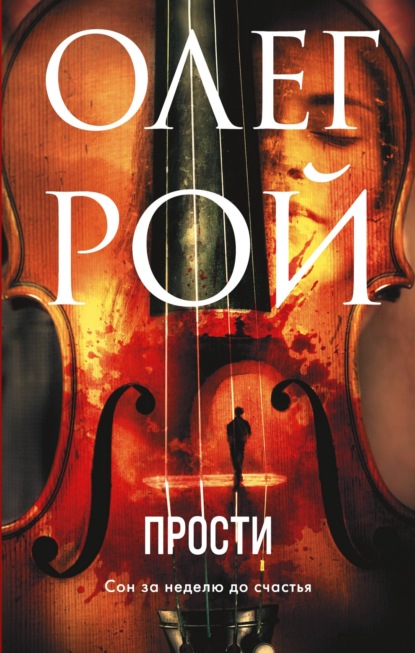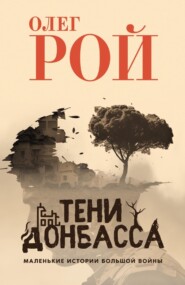По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Прости
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Прости
Олег Юрьевич Рой
Психологические романы Олега Роя
Новинка одного из самых популярных российских авторов – Олега Роя.
Когда-то у Олеси было все: музыка, блестящее будущее, любовь. Но в один миг жизнь закончилась, и остался лишь страх. Привычный мир Саши разрушился после того, как его дед попал в больницу. Теперь весь смысл его жизни сузился до одной цели – сделать все, чтобы любимый дед поправился, а значит, во что бы то ни стало разыскать неведомую Тосю, почему-то очень важную для деда женщину из прошлого. Судьба столкнет этих героев, тесно переплетет их пути и все повернет по-своему: превратит потери в обретения, а беспомощность сделает силой.
Давая ответы на загадки прошлого и избавляя героев от их страхов, Рой изящно вплетает в повествование размышления на многие болезненные темы: предательство, вседозволенность и бесправие, домашнее насилие, выученная беспомощность жертв и безнаказанность тиранов.
Нетривиальные повороты сюжета, глубоко проработанные персонажи и живой, образный язык – отличительные черты прозы Роя, которой зачитываются люди всех поколений. «Прости» – его типичный роман, оставляющий долгое послевкусие.
Рой Олег
Прости
© Резепкин О., 2022
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2022
Tis the last rose of summer,
Left blooming alone;
All her lovely companions
Are faded and gone;
No flower of her kindred…
Последняя роза беспечного лета
Цветет одиноко, одна она где-то;
Все розы в округе уснули, увяли,
Их листья ветра, непогоды умчали…
Томас Мур. Последняя роза лета (Перевод Олега Роя)
Пролог
Если бы здесь существовало эхо, то, закрыв глаза, можно было бы представить, что звучит целый оркестр. Но для строителей концертных залов звук – объект поклонения, почти преклонения, а эхо – злейший враг. И сейчас можно было разве что угадывать: квартет звучит или все-таки трио?
Двойные, тройные – стремительные, мощные…
Квартет? Да неужели?
Ты одна на этой сцене. Так написал Эрнст. Смешная фамилия. Как будто имя. Имя, которое знает каждый музыкант. Последняя роза лета. Только глупцы думают, что последняя роза лета – про увядание, про бегство, про смерть. Последняя роза лета – про жизнь. Про ее неудержимость, про взлет, про высокое, высокое небо, к которому надо подняться. Надо, потому что ты – живешь!
И невесомая тяжесть в твоих руках – живет. Дышит. Поет.
Помнишь? Из какой-то деревяшки, из каких-то грубых жил, из какой-то там фантазии, которой он служил…
Ты здесь, чтобы заставить ее петь. Нет-нет, так не то что говорить, так даже думать нельзя. Не заставить – слиться с ней, подарить ей свои руки, свое дыхание, свою душу.
Ты рождена для этого.
А она, невесомая тяжесть в твоих руках, рождена, чтобы петь.
Струны кажутся раскаленными, но никто, никто не должен почувствовать, как тебе трудно. Нет, звуки рождаются под смычком сами, сами – и летят, летят все выше, и зовут – к жизни, к победе, к солнцу!
Тебе даже глаза открывать не нужно, чтобы почувствовать – щеки мокры от слез. Когда летишь вместе с музыкой, когда становишься ею – это такое немыслимо острое, почти невыносимое счастье, что оно превращается в спазм, в стон, в слезы.
Случайно ли рифмуются «слезы» и «роза»?
Последняя роза лета…
Глава 1
– То… ся… – слабый хрип – с… сти… – в голосе деда, едва слышном, больше похожем на шелест ветра в голых осенних кустах, чем на человеческий голос, слышался не столько вопрос, сколько упрямая, безнадежная надежда. Так ребенок, старательно трущий слипающиеся глаза, ждет Деда Мороза: может, в этот раз все-таки получится? И все-таки соскальзывает в сон. И найденный поутру под елкой (или под подушкой, неважно) подарок немного горчит: опять не сумел дождаться и увидеть!
В горле запершило. Нет, какие там слезы, что вы, просто воздух тут слишком сухой. И свет неприятный, мертвенно-холодный, превращающий лицо на подушке в желтую пергаментную маску, безжалостно подчеркивающий и пигментные пятна, и темные выступающие вены на крупной руке поверх больничного одеяла. Руке, не гнушавшейся никакой работы. Такой надежной, всегда готовой подхватить. И на скользкой лесной тропинке, и в ледяной воде (они долго сушились в маленькой сторожке и никому не рассказали, что лодка перевернулась, нечего родителей волновать, незачем, у маленького Саши тогда даже насморка не случилось). И на продуваемой всеми ветрами (настоящими сибирскими!) смотровой площадке Братской ГЭС, где у Александра от огромности увиденного (дед усмехался «это мы построили») закружилась голова, он вцепился в поручни так, что пальцы побелели, а дед накрыл его ручонку своей. И стало спокойно и не страшно. Его руки остались прежними. Вот только пигментные пятна да вены выступили.
И Александр накрыл эту тяжелую, усталую ладонь своей. В которой, пожалуй, ничего не осталось от той, маленькой, в цыпках и обгрызенных заусенцах. Вот заусенцы он по-прежнему грызет, Кира когда-то очень на него за это ругалась. Неприлично, дескать.
– Тося… – снова прошелестел бесплотный, почти незнакомый голос. – Найди… Я давно… Думал, забыл… – Даже недолгая попытка разговора деда сильно утомила, теперь он не только запинался, но и глаза прикрыл, словно сил не было держать потяжелевшие веки. – Бумаги на даче… Тетрадка… Тося… Найди ее…
– Найду, дед, ты только выздоравливай. Слушайся врачей, спи больше, тебе отдыхать нужно. Я все сделаю, не беспокойся.
Выздоравливай! В собственном голосе Александр услышал ту же безнадежную упрямую надежду. Деду не то что говорить, дышать было, кажется, тяжело.
Белая дверь приоткрылась. Белый халатик сидел на ладной фигурке, как в модном ателье пошитый, но яркие темные глаза из-под шапочки и тщательно прорисованных бровей глядели строго. И губы, четко очерченные неброского цвета помадой, поджались: мол, довольно сидеть.
Погладив еще раз безжизненную ладонь на одеяле, Александр вышел.
– Как он? – и сам понимал, что вопрос надо лечащему врачу задавать, а не этой хорошенькой вертихвостке, но спросил, все в той же безнадежной детской надежде.
Вертихвостка улыбнулась – совсем не ослепительно, а наоборот, устало и даже печально. И личико ее вдруг стало простым, человечным.
– Мы делаем все, что можем. И Геннадий Ефимович – очень хороший врач… – она вдруг замолчала.
– Но?
– Простите?
– В вашей речи отчетливо прозвучало непроизнесенное «но», – расшифровал он свой вопрос. – Вы про возраст?
– Не только, – девушка вздохнула. – Сердце в плохом состоянии. Впрочем, действительно, возраст. Бывает и у девяностолетних сердце лучше, чем у молодых, но это скорее исключение.
– А дед… Может, операция нужна? – Про операцию он Геннадия Ефимовича спрашивал. И он спрашивал, и отец, и девчонку эту нечего пытать, ничего нового она не скажет. Никакие шунтирования и что там еще с сердцами делают, деду не помогут. Его сердце просто устало.
– Поддерживающая терапия…
– Да-да, – перебил Александр. – О терапии нам уже Геннадий Ефимович все рассказал. Просто… – он принялся шарить по карманам, казня себя за то, что, торопясь сюда, не стал искать банкомат, а теперь вот сколько там налички с собой? Крохи.
– Вы что?! – В красивых глазах читался чуть не ужас. – Знаете, как за это наказывают? И выговор, и на факультет сообщат, и уволить…
Олег Юрьевич Рой
Психологические романы Олега Роя
Новинка одного из самых популярных российских авторов – Олега Роя.
Когда-то у Олеси было все: музыка, блестящее будущее, любовь. Но в один миг жизнь закончилась, и остался лишь страх. Привычный мир Саши разрушился после того, как его дед попал в больницу. Теперь весь смысл его жизни сузился до одной цели – сделать все, чтобы любимый дед поправился, а значит, во что бы то ни стало разыскать неведомую Тосю, почему-то очень важную для деда женщину из прошлого. Судьба столкнет этих героев, тесно переплетет их пути и все повернет по-своему: превратит потери в обретения, а беспомощность сделает силой.
Давая ответы на загадки прошлого и избавляя героев от их страхов, Рой изящно вплетает в повествование размышления на многие болезненные темы: предательство, вседозволенность и бесправие, домашнее насилие, выученная беспомощность жертв и безнаказанность тиранов.
Нетривиальные повороты сюжета, глубоко проработанные персонажи и живой, образный язык – отличительные черты прозы Роя, которой зачитываются люди всех поколений. «Прости» – его типичный роман, оставляющий долгое послевкусие.
Рой Олег
Прости
© Резепкин О., 2022
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2022
Tis the last rose of summer,
Left blooming alone;
All her lovely companions
Are faded and gone;
No flower of her kindred…
Последняя роза беспечного лета
Цветет одиноко, одна она где-то;
Все розы в округе уснули, увяли,
Их листья ветра, непогоды умчали…
Томас Мур. Последняя роза лета (Перевод Олега Роя)
Пролог
Если бы здесь существовало эхо, то, закрыв глаза, можно было бы представить, что звучит целый оркестр. Но для строителей концертных залов звук – объект поклонения, почти преклонения, а эхо – злейший враг. И сейчас можно было разве что угадывать: квартет звучит или все-таки трио?
Двойные, тройные – стремительные, мощные…
Квартет? Да неужели?
Ты одна на этой сцене. Так написал Эрнст. Смешная фамилия. Как будто имя. Имя, которое знает каждый музыкант. Последняя роза лета. Только глупцы думают, что последняя роза лета – про увядание, про бегство, про смерть. Последняя роза лета – про жизнь. Про ее неудержимость, про взлет, про высокое, высокое небо, к которому надо подняться. Надо, потому что ты – живешь!
И невесомая тяжесть в твоих руках – живет. Дышит. Поет.
Помнишь? Из какой-то деревяшки, из каких-то грубых жил, из какой-то там фантазии, которой он служил…
Ты здесь, чтобы заставить ее петь. Нет-нет, так не то что говорить, так даже думать нельзя. Не заставить – слиться с ней, подарить ей свои руки, свое дыхание, свою душу.
Ты рождена для этого.
А она, невесомая тяжесть в твоих руках, рождена, чтобы петь.
Струны кажутся раскаленными, но никто, никто не должен почувствовать, как тебе трудно. Нет, звуки рождаются под смычком сами, сами – и летят, летят все выше, и зовут – к жизни, к победе, к солнцу!
Тебе даже глаза открывать не нужно, чтобы почувствовать – щеки мокры от слез. Когда летишь вместе с музыкой, когда становишься ею – это такое немыслимо острое, почти невыносимое счастье, что оно превращается в спазм, в стон, в слезы.
Случайно ли рифмуются «слезы» и «роза»?
Последняя роза лета…
Глава 1
– То… ся… – слабый хрип – с… сти… – в голосе деда, едва слышном, больше похожем на шелест ветра в голых осенних кустах, чем на человеческий голос, слышался не столько вопрос, сколько упрямая, безнадежная надежда. Так ребенок, старательно трущий слипающиеся глаза, ждет Деда Мороза: может, в этот раз все-таки получится? И все-таки соскальзывает в сон. И найденный поутру под елкой (или под подушкой, неважно) подарок немного горчит: опять не сумел дождаться и увидеть!
В горле запершило. Нет, какие там слезы, что вы, просто воздух тут слишком сухой. И свет неприятный, мертвенно-холодный, превращающий лицо на подушке в желтую пергаментную маску, безжалостно подчеркивающий и пигментные пятна, и темные выступающие вены на крупной руке поверх больничного одеяла. Руке, не гнушавшейся никакой работы. Такой надежной, всегда готовой подхватить. И на скользкой лесной тропинке, и в ледяной воде (они долго сушились в маленькой сторожке и никому не рассказали, что лодка перевернулась, нечего родителей волновать, незачем, у маленького Саши тогда даже насморка не случилось). И на продуваемой всеми ветрами (настоящими сибирскими!) смотровой площадке Братской ГЭС, где у Александра от огромности увиденного (дед усмехался «это мы построили») закружилась голова, он вцепился в поручни так, что пальцы побелели, а дед накрыл его ручонку своей. И стало спокойно и не страшно. Его руки остались прежними. Вот только пигментные пятна да вены выступили.
И Александр накрыл эту тяжелую, усталую ладонь своей. В которой, пожалуй, ничего не осталось от той, маленькой, в цыпках и обгрызенных заусенцах. Вот заусенцы он по-прежнему грызет, Кира когда-то очень на него за это ругалась. Неприлично, дескать.
– Тося… – снова прошелестел бесплотный, почти незнакомый голос. – Найди… Я давно… Думал, забыл… – Даже недолгая попытка разговора деда сильно утомила, теперь он не только запинался, но и глаза прикрыл, словно сил не было держать потяжелевшие веки. – Бумаги на даче… Тетрадка… Тося… Найди ее…
– Найду, дед, ты только выздоравливай. Слушайся врачей, спи больше, тебе отдыхать нужно. Я все сделаю, не беспокойся.
Выздоравливай! В собственном голосе Александр услышал ту же безнадежную упрямую надежду. Деду не то что говорить, дышать было, кажется, тяжело.
Белая дверь приоткрылась. Белый халатик сидел на ладной фигурке, как в модном ателье пошитый, но яркие темные глаза из-под шапочки и тщательно прорисованных бровей глядели строго. И губы, четко очерченные неброского цвета помадой, поджались: мол, довольно сидеть.
Погладив еще раз безжизненную ладонь на одеяле, Александр вышел.
– Как он? – и сам понимал, что вопрос надо лечащему врачу задавать, а не этой хорошенькой вертихвостке, но спросил, все в той же безнадежной детской надежде.
Вертихвостка улыбнулась – совсем не ослепительно, а наоборот, устало и даже печально. И личико ее вдруг стало простым, человечным.
– Мы делаем все, что можем. И Геннадий Ефимович – очень хороший врач… – она вдруг замолчала.
– Но?
– Простите?
– В вашей речи отчетливо прозвучало непроизнесенное «но», – расшифровал он свой вопрос. – Вы про возраст?
– Не только, – девушка вздохнула. – Сердце в плохом состоянии. Впрочем, действительно, возраст. Бывает и у девяностолетних сердце лучше, чем у молодых, но это скорее исключение.
– А дед… Может, операция нужна? – Про операцию он Геннадия Ефимовича спрашивал. И он спрашивал, и отец, и девчонку эту нечего пытать, ничего нового она не скажет. Никакие шунтирования и что там еще с сердцами делают, деду не помогут. Его сердце просто устало.
– Поддерживающая терапия…
– Да-да, – перебил Александр. – О терапии нам уже Геннадий Ефимович все рассказал. Просто… – он принялся шарить по карманам, казня себя за то, что, торопясь сюда, не стал искать банкомат, а теперь вот сколько там налички с собой? Крохи.
– Вы что?! – В красивых глазах читался чуть не ужас. – Знаете, как за это наказывают? И выговор, и на факультет сообщат, и уволить…