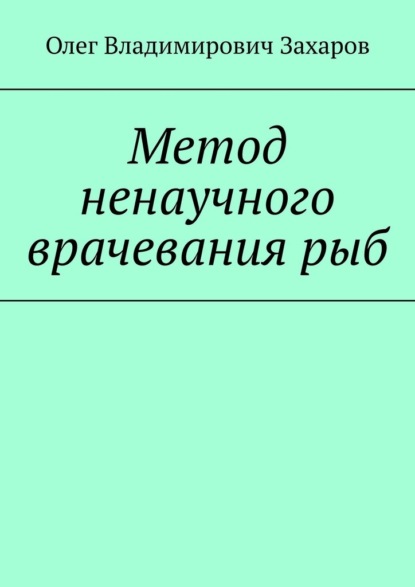По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Метод ненаучного врачевания рыб
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Метод ненаучного врачевания рыб
Олег Владимирович Захаров
Вот и для Валентина Окуня настал час Страшного суда. Пережив покушение на свою жизнь, Валентин оказывается в странном месте, напоминающем сюрреалистический взгляд на Вечность. И ему предстоит отчитаться о прожитой жизни беглеца, обвиненного в убийстве. Патологический эротоман, он искал свое пристанище, путешествуя от одной женщины к другой, борясь со своими внутренними демонами.
Метод ненаучного врачевания рыб
Олег Владимирович Захаров
© Олег Владимирович Захаров, 2021
ISBN 978-5-0053-8725-7
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Олег Захаров
Метод ненаучного врачевания рыб.
Роман.
Мы созданы из вещества того же,
Что наши сны, и сном окружена
Вся наша маленькая жизнь.
Шекспир «Буря»
Малек. Погружение в бездну
– Мало кто задумывается над тем, что камень, брошенный в воду с берега, сам по себе никуда не исчезает и становится потерянным навсегда только для нас. Относительно же себя самого он продолжает быть, как и был прежде, принадлежа другой стихии, – говоришь ты дознавателю.
Во всяком случае, ты думаешь, что этот тип в поношенном сером костюме -дознаватель. Тебе было объявлено, что ты здесь по делу некоего Лыховитого. Минуту назад ты признался, что понятия не имеешь, о ком идет речь, и дознаватель, словно не ожидая от тебя ничего другого, заявил, что рассчитывает услышать от тебя историю твоей жизни. Дескать, у следствия есть все основания предполагать, что ваши судьбы могут быть тесно переплетены. При этом сам имеет вид грызуна, готового схрумкать твою историю, как капустный лист. Ты уже знаешь, что про себя будешь называть его Оливковым Агути – те же маленькие цепкие лапки, остренькие зубки и вечноголодный взгляд. Вас разделяет письменный стол, в который Оливковый Агути (пусть так и будет) воткнул свои остренькие локотки.
Глядя через стол, ты думаешь о неком незнакомце, господине Большая Шишка, что заварил всю эту кашу. О том, кто свел в этой комнатушке двух незнакомых друг другу людей против их воли. Да-да, у вас обоих достаточно кислый вид, чтобы отрицать это. Под давлением множества неизвестных, ты обращаешься за ответом к портрету на стене за спиной дознавателя. Там в рамку помещена черно-белая фотография молодого широкоплечего мужчины, застенчиво улыбающегося тебе со стены, словно давнему знакомому. Он изображен почти в полный рост, в вечереющем городе, возле светящейся рекламы над входом в какой-то винный погребок. Будто бывшая спортивная знаменитость в момент, когда группа подростков, прослышав, где его можно увидеть своими глазами и взять автограф, не решаясь войти, попросила вышибалу позвать его наверх. Всякий раз, думая о таинственном кукловоде, ты натыкаешься глазами на эту фотографию на стене.
Интуитивно ты понимаешь, что без твоего присутствия в этом кабинете ничто бы не оправдывало своего предназначения. Все здесь сплошная декорация в театре одного актера, и актер этот – ты. В этом тебя лишний раз убеждает чудное устройство, справа от тебя, напоминающее граммофон. Узорчатая труба прибора глотает каждое твое слово, передавая вибрации голоса на скрипучую иглу. Даже твое сопение фиксируется штрихами на пожелтевшем картоне, и ты подозреваешь, что в прибор включена функция детектора лжи.
Твоей пожилой заднице неуютно на привинченном к полу табурете. Но ты вынужден продолжать: – Вот я вам сейчас рассказал о камне, брошенном в воду, а, между тем, фраза это не моя, как и сама мысль. А знаменита она тем, что с нее началась моя сознательная жизнь. Мало кто вот так совершенно отчетливо сможет обозначить границу между своей бессознательной и сознательной жизнью, а я могу и даже помню точную дату этому – пятнадцатого апреля сорок четвертого года. И вот как это получилось. Представьте, что это происходит с вами… Вам всего четыре с половиной года и, стало быть, в вашем сознании пока еще достаточно размытости и не хватает четких контуров. Вы еще не познали свою отдельность от окружающего мира, и поэтому чувствуете себя побратимом всему вокруг, будь то войско оловянных солдатиков, кошка на заборе или косой апрельский дождь. И вот однажды по весне вы оказываетесь у широкого оврага, затопленного водой от растаявшего снега. Вы здесь не впервые и каждый раз заняты одним и тем же: наблюдаете, как старшие мальчишки бороздят водоем на плотах. Вы смотрите на них, но почему-то думаете о рыбах, которых в этой воде нет. Рыбы внутри вас – их там целый аквариум. Все ваши мысли, чувства, все, что успела накопить память, плавно скользит внутри вас, то подплывая к стеклу, то прячась в глубине. Вы их почти что видите. И вдруг одна их них подплыла совсем близко и задержалась дольше других. Мысль – рыба, рыба – чувство. Наверное, все дело в колыхавшейся перед глазами воде, но только этой пучеглазой «рыбой» оказалась фраза о судьбе брошенного камня. Вы где-то слышали ее раньше и только сейчас уловили ее сокровенный смысл. И в ту же секунду все стало вокруг вас непривычно отчетливо и ясно, словно до этого вы смотрели на мир через аквариум. Например, сразу выяснился автор этой фразы – это ваш лучший друг, Мишка Разумовский. Вот он рядом с вами, метает монетками «блинчики». Раз – два – три -четыре… Неровными стежками пятак строчит по поверхности воды, то исчезая, то вновь появляясь. После вашего прозрения вы чувствуете себя этаким вновь прибывшим – не спрашивайте куда, или откуда – я и сам толком не знаю. И был славно, что первым, кто встретил вас, оказался Мишка со своей приветливой улыбкой. Со всем остальным тоже враз стало предельно ясно: вы маленький мальчик, воспитанник детского дома, идет война, и скоро мы побьем «фрицев». Вот это я называю пробуждением, господин дознаватель. И с того случая у воды и началась моя сознательная жизнь
– Отсюда, пожалуйста, поподробней, – подаёт голос Оливковый Агути.
Без этих четырех стен и низенького потолка голос дознавателя разлетелся бы как дым. Без них и тебя было бы здесь не удержать. Даже если в то время ты и не родился, эти стены все равно возводились с мыслью о таких, как ты. Каменщики на стенах стоящейся тюрьмы всегда кажутся предвестниками злого рока. Запахло фаталом. Обладая редкой способностью, находясь внутри здания, вычислять год его вероятной постройки, ты предполагаешь, что строительство велось уже полным ходом, когда ты, совсем ребенок, стоял у грязной воды, а Мишка Разумовский, указывая на «блинчики», говорил тебе: «Если бы на свете были водяные зайцы, то вот так бы они и скакали». Он был старше меня всего на полгода.
– Родителей своих я не помню, – вещаешь ты голосом сказочника. – И верно от того на протяжении всей жизни был склонен к мистицизму, легко брал на веру любую весть о потустороннем. Судите сами, с чего мне быть материалистом, если вначале меня не было, а потом я появился, и никаких посредников своего появления на свет я не знал. Свою фамилию и имя я получил в детдоме. Завхоз Дядечко приложил к этому руку. Это входило в его служебные обязанности, Этот одноногий ветеран финской компании был нам, ребятам, кем-то вроде крестного. Старшие пацаны рассказывали об общей тетрадке синего цвета в столе у нашего завхоза. Дядечко следил, чтобы имена у поступающих малюток часто не повторялись и сохраняли количественную пропорцию на предмет начальных букв алфавита. Я утверждаю вслед за даоскими мудрецами, что дать найденышу подходящее ему имя, задача под силу лишь избранным. Ведь тут необходимо проникнуть в строение духа малютки, а затем верно его озаглавить. Родителям здесь помогает родная кровь. Дядечко же на эти дела смотрел проще и в подобные дебри старался не влезать, и, честно говоря, крестный из него оказался никудышный. Бывало, видишь перед собой пацана и кожей чувствуешь, что пред тобой типичный Сашка, но в тетради завхоза парень числится Вениамином. Помню, в возрасте шести лет я попытался освободить подобного Сашку от «Вениамина». Вооружившись карандашом и стирательной резинкой, я прокрался в каморку завхоза, отыскал синюю тетрадь, раскрыл на нужной странице, в предвкушении доброго дела, и обнаружил, что имена воспитанников вписаны туда… чернилами. Так я впервые обнаружил тесные стены прозрачного колпака, который на каждом из нас.
С придумыванием фамилий у Дядечко было еще проще и интересней. Не мудрствуя от лукавого, наш завхоз присваивал воспитанникам фамилии известных русских писателей, а потом расширил список за счет известных ученых. А когда на нашей детской площадке стали резвиться рядом Вадик Толстой, Семка Менделеев, Никитка Гоголь и Павлик Достоевский, наш завхоз получил «по шапке» и с тех пор стал творить по наитию. Меня, например, он благословил на долгую жизнь под именем Валентин Окунь. Поэт, не правда ли? Занятно, но, став вполне зрелым мужчиной, я легко вычислял бывших детдомовцев и не в последнюю очередь по их вычурным именам и фамилиям, которые вязались с ними, как заплатка не в тон пиджаку.
И чтобы закрыть тему, присовокуплю, что до самых своих последних дней, разглядывая себя в зеркало, я не переставал гадать о своем подлинном имени. Николай? Сергей? Анатолий? Евгений? Сколько раз я, перебирая в голове различные имена, словно скользил пальцами по клавишам рояля, вслушиваясь в тембр и звук каждого. И сходил с ума оттого, что сердце оставалось глухим на каждый их них.
Что рассказать вам о своих детских годах, проведенных в детдоме, чтобы особенно не утомлять?
Пожалуй, это будет выглядеть так.
Когда мне исполнилось пять лет, самым значительным для меня событием стало выступление на очередном утреннике в костюме военного летчика. Из костюма военного летчика на мне был только летный шлем и планшетка, свисавшая до колена. Пока я читал стихи о Сталине, шлем то и дело сползал мне на глаза. И все равно это был полный восторг. Доказательством тому укоренившаяся с тех пор привычка поправлять на лбу воображаемый шлем из детства. Видите ли, я до сих пор ощущаю его на себе.
В шесть я случайно увидел, как мочится взрослая женщина, и это оказалось похлеще летного шлема. Этой женщиной была наша нянечка Зинаида Васильевна. Ее пышное тело грузно опало на сиденье, что вкупе со складками забранной одежды делало ее похожей на куклу на самоваре. Ее белые ляжки расплылись по стульчаку с контрабандистской зазывностью. Но главное, ее взгляд, который я успел перехватить… В нем не было ничего осмысленного, только покорное выжидание пышнотелой самки.
Чего бы захватывающего со мной не происходило в семилетнем возрасте, я этого все равно не запомнил, так как все еще не мог оправиться от Зинаиды Васильевны и полученных впечатлений.
А когда мне исполнилось восемь, я украл жизнь у близкого мне человека. Вы спрашиваете, возможно ли такое? Отвечу: вполне, если вы крадете не всю жизнь целиком. А только чужую судьбу, усмотрев в ней лучшую долю для себя любимого. Так сказать, масло с чужого бутерброда.
Это злодеяние я совершил в городе Прелюбове, куда в 1948 году был перевезен наш интернат.
На новое место жительства нас отправляли несколько дней небольшими партиями поездом «Камнегорск – Прелюбов». Я со своим другом Мишкой попал в первую партию. Представьте себе общий вагон, набитый до отказа воспитанниками. Кто-то из пацанов подслушал разговор воспитателей, и по вагону поползли невероятные истории о поджидавших нас сокровищах. Все говорили о нашем новом доме так, будто каждый там уже побывал. На вторые сутки в мальчишеских разговорах стали появляться описания бассейна, стрелкового тира и парашютной вышки, на которую уже стала заниматься очередь. Один я не верил в эти россказни. Я считал, что если Главный Волшебник, из замка которого дует северный ветер, так пронизывавший меня в Камнегорске, легко мог допустить, чтобы мальчишки вроде меня навсегда оставались без родителей, то с чего бы ему в дальнейшем напрягаться ради нас же на какие-то там стрелковые тиры и парашютные вышки. В Камнегорске я решил, что моя жизнь принадлежит чудовищу, ощерившемуся неровными зубами в виде двух цепочек, поставленных в ряд сандалий в детдомовском коридоре. У себя под ногами в мерно покачивающемся вагоне я слышал, как ритмично пощелкивает челюстями все та же злобная пасть. А вокруг меня, не унимаясь, фантазировали мальчишки, черт знает, до чего они могли бы еще договориться, если бы утром третьего дня наш поезд не прибыл в пункт своего назначения.
Была ранняя весна, вторая половина марта. Прелюбов встретил нас задавшимся солнечным деньком, ароматами приближающегося лета и несколькими автобусами на привокзальной площади. Город пережил оккупацию, и приметы этому были видны повсюду. Мы ехали по городским улицам, вдавливаясь лицами в окна. Вдоль полуразрушенных бомбардировками домов, в которых продолжали жить люди, брела на работу колонна военнопленных. Нашкодившие великовозрастные дети с лицами, вывернутыми вовнутрь, бесконечно чужие всему вокруг, будь то широколицые гиганты с киноафиш, люди со строительными тачками навстречу или бравурная музыка из громкоговорителей… И все равно людей вокруг было мало. После войны нас стало значительно меньше, может поэтому, люди так радовались нашему приезду.
Колонна сворачивает на тенистую улочку, съезжает по ней вниз, и автобусы один за другим притормаживают у главных ворот поджидающей нас новенькой крепости за высокой оградой. Мне восемь лет, я сижу у окна, и все, что происходит за стеклом, вызывает во мне чувство полного приятия. Внутренне я был согласен с крутым спуском улицы, с нашим новеньким ЗИСом, с выгоревшей пилоткой на голове шофера, с кажущейся воздушностью ограды, где свободное от кирпичей пространство занимали нацеленные в небо пики-прутья. С первого взгляда меня стал манить балкон на втором этаже, шириной почти во весь фасад, поддерживаемый короткими прямоугольными колоннами. Укромность места и защищенность крепости – будущее пристанище для сиротских упований и детских мечт.
Чуть поодаль от нас мужчины в гимнастерках снимали с грузовиков панцирные кровати и заносили их в наш новый дом. Их бушлаты лежали набросанными на скамейку перед крыльцом, и вспотевшие лица мужчин блестели под начинавшим припекать мартовским солнцем.
Завидев нас, от группки мужчин начальственного вида отделилась девушка лет восемнадцати в пионерском галстуке поверх лыжного костюма и заспешила к нам. Невероятно красивая, вчерашняя школьница, не далее как десять минут назад коронованная в этой самой группке на ближайшие лет пятнадцать повелевать сердцами мужчин. Она вся была в предвкушении своей новой, взрослой жизни, в которую была рада взять любого на правах веселого попутчика. Представьте, какое нас, мальчишек, охватило блаженство, когда мы поняли, какая красота будет сопровождать наше детство. В ту пору, когда детские учебные заведения в стане делились по половому признаку, от внешнего вида пионервожатой и пары – тройки учительниц зависело для нас, пацанов, очень многое. У нас ведь даже мам не было.
Да, наша новая пионервожатая была самим совершенством, и я хочу на этом остановиться поподробнее. Как описать подобное? В 1948 году я бы за это и не взялся, а теперь, пожалуй, попытаюсь. Видите ли, в каждом мужчине, когда он грезит о Женщине своей мечты, пробуждается художник, специалист по линиям и формам. В его голове полно эскизов, набросков, не знающих удержу, не стесненных реальностью. Если вы когда-нибудь видели рисунки, выполненные мастурбирующими юношами то, значит, представляете, о чем я толкую. Так вот, совершенство это то, что существуя реально, телесно, кровеносно-сосудисто, если угодно, способное превзойти красотой все эти тайные чертежи мужских фантазий. И не только потому, что мастурбирующие юноши, как правило, никудышные художники. Короче говоря, это было юное создание с прямыми льняными волосами до плеч и лицом ангела, но без поднебесной отрешенности во взоре. Ее точеная фигурка даже через лыжный костюм воспринималась не как сумма телесных прелестей, а как одно прекрасное целое. И похотливый взгляд кого бы то ни было не смог бы долго задержаться в одной точке. Это был конечный пункт назначения стремления природы к совершенству. По сравнению с ней все остальные женщины казались как бы слегка не в фокусе на любительской фотографии.
Почему я так долго треплюсь на эту тему, будто забыв поменять пластинку? Да потому, что это соответствовало моим тогдашним настроениям. Дело в том, что после моего лицезрения дебелых ляжек нашей нянечки, я в некотором роде потерял невинность. Почувствовал себя посвященным в мир взрослых. Я больше не мечтал стать военным летчиком. Мне бы вполне хватило вырасти во взрослого мужчину. И боюсь, нашу новую пионервожатую, я оглядывал из автобуса далеко не детским взглядом.
Горной козочкой она заскочила к нам в автобус и представилась – Нина Петровна. Занятно, но пока на ее совершенном личике вещал ее совершенный ротик (что-то там о распорядке дня), ее совершенные глазки со старательностью новичка отбили мой недетский взгляд на нее куда-то далеко под задние сидения.
Не забуду, как настороженным маленьким зверьком я впервые переступил порог прелюбовского интерната, прижимая к груди горшок с фикусом. Что это было за растение я, конечно, не знал, но сейчас мне было бы забавно думать, что это был именно фикус, из-за того детского стихотворения про старушку и фикус. Внутри уже царила собственная жизнь строения, заявленная просторным холлом с широченной лестницей в центре, которая мелкой рябью ступеней вздымалась к витражу в полукруглом окне. Оттуда лестница раздваивалась и, круто изогнувшись, уходила двумя рукавами на второй этаж. Это раздвоение на моем пути в «красный уголок» смутило меня. Я оказался на распутье и должен был выбирать. Я посчитал, что если в повседневной жизни все прилежные дети должны придерживаться правой стороны, то чувство стиля требовало от меня с фикусом в руках и мечтой о голой женщине воспользоваться левой стороной. Дабы не осквернять устои. Не осквернять носильщиком фикуса с пошленькой мечтой за пазухой благословенную правую сторону всех прилежных детей, которым предстояло в этих стен вызреть. В том числе и в квалифицированных строителей подобных хором. Я поднялся на второй этаж, прошел по коридору и оказался в просторной комнате. Сюда бесконечно складывались пионерские флаги, горны, барабаны вперемежку со стульями и глобусами. В комнате сквозняком витал счастливый дух предвкушения новой жизни. Это оттого, что двери, ведущие на балкон, были распахнуты навстречу весенним запахам, гулу оттаявших после зимы улиц, и радостью всего живого обновления пропитался сам воздух.
Поставив фикус на подоконник, я должен был возвращаться к грузовику за новой порцией всякой всячины. Но вместо этого со сладостным чувством греха я вышел на балкон. Еще в автобусе мне нестерпимо хотелось испытать под ногами опору прямоугольных колонн, бросить взгляд вниз из-за массивных перил на балясинах. Я положил локти на перила и стал наблюдать за перемещениями у крыльца. На какую-то секунду, там, на балконе, все наши мальчишки показались мне маленькими жрецами, приносящими дары в храм, а божеством в храме был я. Я был нешуточно заинтересован, когда разглядывал их – вот связки книг, вот планшеты, а вот цветы в горшках, а вот Мишка Разумовский понес стопку алюминиевых ведер. Мы встретились глазами и улыбнулись друг другу.
– Эй, ты там не заскучал? ~ услышал я. Хотите верьте, хотите нет, но первое куда я посмотрел, были облака надо мной. Я решил, что это бог приревновал меня и желает указать мне на мое место.
Это оказалась Нина Петровна. С воспитанниками она решила общаться в духе старшей сестры. Как я уже говорил, она была еще совсем юным созданием, и педагогический тон был ей не только недоступен, но и явно претил. А кто из наших пацанов не хотел бы иметь старшую сестру? Да еще такую. С балкона я видел, как добрые две трети из наших уже заделались ее преданными трубадурами. И я был бы совсем не прочь примкнуть к ним, не окажись она слишком красивой для старшей сестры.
Словом, по этому первому малозначительному эпизоду вы поняли, что мы с пионервожатой не поладили с самого начала. И если это так, то значит, вы освобождаете меня от труда привести вам целую кучу подобных примеров нашей взаимной неприязни, которые, конечно, имели место быть, в дальнейшем… Я был наказан за то, что с первого дня нарушил правила игры и полез не в свои сани.
Официальное открытие интерната с митингом и перерезанием красной ленточки было приурочено к началу учебного года, так что остаток весны и все лето наша жизнь напоминала жизнь в таборе. Еще не был полностью укомплектован штат учителей, и мы, мальчишки, частенько разглядывали с балкона, поднимавшихся на наше крыльцо незнакомых женщин, перешептываясь между собой. Приветствовались женщины молодые с ласковым взглядом, хотя бы чуточку модные, которых мы могли бы представлять нашими матерями или теми тетками, на которых мы обязательно женимся, когда вырастем. Возникшую однажды нервозную колченогую старушку в роговых очках, которая бросила на нас взгляд, полный ненависти, будто не только знала нас по именам, но и с легкостью готова привести полный список наших преступлений, мы с ходу окрестили Мамой Гитлера. Благо, больше она не появлялась.
Кстати, Дядечко – помните Дядечко? – переехал вместе с нами. В Прелюбов нас привезло несколько камнегорских воспитателей, но все они по приезде куда-то запропастились, а Дядечко остался, и никого это не удивило. В своем неизменном синем рабочем халате, с пальцем, перемотанным изолентой, со стремянкой и молотком, мы натыкались на него по сотне раз на дню, что в Камнегорске, что в Прелюбове. Я уже говорил, что у Дядечко не хватало по колено ноги, левой, но у него также не хватало двух пальцев на правой руке, и мне всегда чудилось, что недостававшие конечности нашего завхоза никуда не подевались, а просто стали невидимыми и каким-то непостижимым образом всегда держатся за наш новый дом, за нас и за наши судьбы в стенах этого дома.
Будь вы моим отыскавшимся отцом и спроси вы меня, как я там жил, я бы ответил, что не очень-то весело. Мы ведь там были вроде посылок от неизвестного отправителя, что по разным причинам копятся на почте. Положим, я не знал своей настоящей фамилии, но я чувствовал в себе кровь своего отца, своей неизвестной мне родни.. Возможно, во мне говорил кто-то из моих предков, какая-нибудь бабка, когда я в стенах интерната начинал тяготиться отсутствием всякой уединенности. И потом, наверное, это не очень правильно, когда сироты видят, как им налаживают быт. Не во что пустить корни. Впрочем, подобные мысли мне приходят только сейчас. Тогда мы были просто маленькими людьми в победившей стране, когда победа далась слишком тяжело. Теперь я пожилой человек и, по правде сказать, уже плохо помню прелюбовский детдом. Сон, приснившийся мне на прошлой неделе, для меня куда реальней, чем вся моя жизнь в далеком 1948 году. Все эти обрывки воспоминаний о том, чего не было, и о том, что могло быть, и все сожаления по этому поводу уже давно лежат в моей голове однородной массой, очень напоминающей остывшую глазунью.
Я изложу вам несколько эпизодов из той поры, которые, по моему мнению, важны для дальнейшей иллюстрации истории моей жизни. Хотя, в сущности, что такое история жизни отдельно взятого человека? Никто из нас не живет так, словно пишет о себе книгу – с интригующей завязкой, дальнейшим динамичным развитием, с кульминацией и поучительным финалом, и по тому историй своей жизни у нас всегда несколько.
Эти фрагменты, одни из множества других той поры помогут мне двигать историю дальше, раз уж я подвизался смастерить из них логическую цепочку. Нечто вроде кусочков прожаренной колбаски, если сравнение с глазуньей вас не вполне убедило с первого раза.
В детдоме у меня был единственный друг – Мишка Разумовский, мой верный товарищ еще с камнегорских времен. Кажется, пришло время его описать. Я не имею в виду всю эту лабуду про овал лица, форму носа, цвет глаз и длину волос. Только по такому типу описания вы никогда не сможете зрительно представить человека и уж тем более выхватить его взглядом в толпе. Чего вообще стоят такие описания про форму носа и цвет глаз, если все равно все китайцы для нас на одно лицо. Человек мыслит образами, а не монотонным перечислением вполне банальных характеристик. Зато, например, если про какого-то пацана сказать, что это был мальчик с лицом пожилого негодяя, он живо предстанет перед вашим мысленным взором. Однажды я такого видел и мне до сих пор тошно, как вспомню. Но, конечно, это был никак не Мишка Разумовский. Мой друг – философ, просветленный юный оракул. Крепко сбитый, надежный и славный. Такие обычно заканчивают школу в двенадцать лет, а потом о них пишут во всех газетах. Помню у него было две «макушки» и волосы на затылке норовили у шеи заплестись в косичку. Разумовский была его подлинной фамилией, он помнил своих родителей, но на все мои расспросы только крепче стискивал зубы. Наше местное хулиганье не наседало на него и вообще обходило стороной. Не в последнюю очередь из-за его больших кулаков, но еще и оттого, что он никак не раздражал их и казался органичной частью окружающего их мира, вроде куста шиповника перед нашим интернатом.
Олег Владимирович Захаров
Вот и для Валентина Окуня настал час Страшного суда. Пережив покушение на свою жизнь, Валентин оказывается в странном месте, напоминающем сюрреалистический взгляд на Вечность. И ему предстоит отчитаться о прожитой жизни беглеца, обвиненного в убийстве. Патологический эротоман, он искал свое пристанище, путешествуя от одной женщины к другой, борясь со своими внутренними демонами.
Метод ненаучного врачевания рыб
Олег Владимирович Захаров
© Олег Владимирович Захаров, 2021
ISBN 978-5-0053-8725-7
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Олег Захаров
Метод ненаучного врачевания рыб.
Роман.
Мы созданы из вещества того же,
Что наши сны, и сном окружена
Вся наша маленькая жизнь.
Шекспир «Буря»
Малек. Погружение в бездну
– Мало кто задумывается над тем, что камень, брошенный в воду с берега, сам по себе никуда не исчезает и становится потерянным навсегда только для нас. Относительно же себя самого он продолжает быть, как и был прежде, принадлежа другой стихии, – говоришь ты дознавателю.
Во всяком случае, ты думаешь, что этот тип в поношенном сером костюме -дознаватель. Тебе было объявлено, что ты здесь по делу некоего Лыховитого. Минуту назад ты признался, что понятия не имеешь, о ком идет речь, и дознаватель, словно не ожидая от тебя ничего другого, заявил, что рассчитывает услышать от тебя историю твоей жизни. Дескать, у следствия есть все основания предполагать, что ваши судьбы могут быть тесно переплетены. При этом сам имеет вид грызуна, готового схрумкать твою историю, как капустный лист. Ты уже знаешь, что про себя будешь называть его Оливковым Агути – те же маленькие цепкие лапки, остренькие зубки и вечноголодный взгляд. Вас разделяет письменный стол, в который Оливковый Агути (пусть так и будет) воткнул свои остренькие локотки.
Глядя через стол, ты думаешь о неком незнакомце, господине Большая Шишка, что заварил всю эту кашу. О том, кто свел в этой комнатушке двух незнакомых друг другу людей против их воли. Да-да, у вас обоих достаточно кислый вид, чтобы отрицать это. Под давлением множества неизвестных, ты обращаешься за ответом к портрету на стене за спиной дознавателя. Там в рамку помещена черно-белая фотография молодого широкоплечего мужчины, застенчиво улыбающегося тебе со стены, словно давнему знакомому. Он изображен почти в полный рост, в вечереющем городе, возле светящейся рекламы над входом в какой-то винный погребок. Будто бывшая спортивная знаменитость в момент, когда группа подростков, прослышав, где его можно увидеть своими глазами и взять автограф, не решаясь войти, попросила вышибалу позвать его наверх. Всякий раз, думая о таинственном кукловоде, ты натыкаешься глазами на эту фотографию на стене.
Интуитивно ты понимаешь, что без твоего присутствия в этом кабинете ничто бы не оправдывало своего предназначения. Все здесь сплошная декорация в театре одного актера, и актер этот – ты. В этом тебя лишний раз убеждает чудное устройство, справа от тебя, напоминающее граммофон. Узорчатая труба прибора глотает каждое твое слово, передавая вибрации голоса на скрипучую иглу. Даже твое сопение фиксируется штрихами на пожелтевшем картоне, и ты подозреваешь, что в прибор включена функция детектора лжи.
Твоей пожилой заднице неуютно на привинченном к полу табурете. Но ты вынужден продолжать: – Вот я вам сейчас рассказал о камне, брошенном в воду, а, между тем, фраза это не моя, как и сама мысль. А знаменита она тем, что с нее началась моя сознательная жизнь. Мало кто вот так совершенно отчетливо сможет обозначить границу между своей бессознательной и сознательной жизнью, а я могу и даже помню точную дату этому – пятнадцатого апреля сорок четвертого года. И вот как это получилось. Представьте, что это происходит с вами… Вам всего четыре с половиной года и, стало быть, в вашем сознании пока еще достаточно размытости и не хватает четких контуров. Вы еще не познали свою отдельность от окружающего мира, и поэтому чувствуете себя побратимом всему вокруг, будь то войско оловянных солдатиков, кошка на заборе или косой апрельский дождь. И вот однажды по весне вы оказываетесь у широкого оврага, затопленного водой от растаявшего снега. Вы здесь не впервые и каждый раз заняты одним и тем же: наблюдаете, как старшие мальчишки бороздят водоем на плотах. Вы смотрите на них, но почему-то думаете о рыбах, которых в этой воде нет. Рыбы внутри вас – их там целый аквариум. Все ваши мысли, чувства, все, что успела накопить память, плавно скользит внутри вас, то подплывая к стеклу, то прячась в глубине. Вы их почти что видите. И вдруг одна их них подплыла совсем близко и задержалась дольше других. Мысль – рыба, рыба – чувство. Наверное, все дело в колыхавшейся перед глазами воде, но только этой пучеглазой «рыбой» оказалась фраза о судьбе брошенного камня. Вы где-то слышали ее раньше и только сейчас уловили ее сокровенный смысл. И в ту же секунду все стало вокруг вас непривычно отчетливо и ясно, словно до этого вы смотрели на мир через аквариум. Например, сразу выяснился автор этой фразы – это ваш лучший друг, Мишка Разумовский. Вот он рядом с вами, метает монетками «блинчики». Раз – два – три -четыре… Неровными стежками пятак строчит по поверхности воды, то исчезая, то вновь появляясь. После вашего прозрения вы чувствуете себя этаким вновь прибывшим – не спрашивайте куда, или откуда – я и сам толком не знаю. И был славно, что первым, кто встретил вас, оказался Мишка со своей приветливой улыбкой. Со всем остальным тоже враз стало предельно ясно: вы маленький мальчик, воспитанник детского дома, идет война, и скоро мы побьем «фрицев». Вот это я называю пробуждением, господин дознаватель. И с того случая у воды и началась моя сознательная жизнь
– Отсюда, пожалуйста, поподробней, – подаёт голос Оливковый Агути.
Без этих четырех стен и низенького потолка голос дознавателя разлетелся бы как дым. Без них и тебя было бы здесь не удержать. Даже если в то время ты и не родился, эти стены все равно возводились с мыслью о таких, как ты. Каменщики на стенах стоящейся тюрьмы всегда кажутся предвестниками злого рока. Запахло фаталом. Обладая редкой способностью, находясь внутри здания, вычислять год его вероятной постройки, ты предполагаешь, что строительство велось уже полным ходом, когда ты, совсем ребенок, стоял у грязной воды, а Мишка Разумовский, указывая на «блинчики», говорил тебе: «Если бы на свете были водяные зайцы, то вот так бы они и скакали». Он был старше меня всего на полгода.
– Родителей своих я не помню, – вещаешь ты голосом сказочника. – И верно от того на протяжении всей жизни был склонен к мистицизму, легко брал на веру любую весть о потустороннем. Судите сами, с чего мне быть материалистом, если вначале меня не было, а потом я появился, и никаких посредников своего появления на свет я не знал. Свою фамилию и имя я получил в детдоме. Завхоз Дядечко приложил к этому руку. Это входило в его служебные обязанности, Этот одноногий ветеран финской компании был нам, ребятам, кем-то вроде крестного. Старшие пацаны рассказывали об общей тетрадке синего цвета в столе у нашего завхоза. Дядечко следил, чтобы имена у поступающих малюток часто не повторялись и сохраняли количественную пропорцию на предмет начальных букв алфавита. Я утверждаю вслед за даоскими мудрецами, что дать найденышу подходящее ему имя, задача под силу лишь избранным. Ведь тут необходимо проникнуть в строение духа малютки, а затем верно его озаглавить. Родителям здесь помогает родная кровь. Дядечко же на эти дела смотрел проще и в подобные дебри старался не влезать, и, честно говоря, крестный из него оказался никудышный. Бывало, видишь перед собой пацана и кожей чувствуешь, что пред тобой типичный Сашка, но в тетради завхоза парень числится Вениамином. Помню, в возрасте шести лет я попытался освободить подобного Сашку от «Вениамина». Вооружившись карандашом и стирательной резинкой, я прокрался в каморку завхоза, отыскал синюю тетрадь, раскрыл на нужной странице, в предвкушении доброго дела, и обнаружил, что имена воспитанников вписаны туда… чернилами. Так я впервые обнаружил тесные стены прозрачного колпака, который на каждом из нас.
С придумыванием фамилий у Дядечко было еще проще и интересней. Не мудрствуя от лукавого, наш завхоз присваивал воспитанникам фамилии известных русских писателей, а потом расширил список за счет известных ученых. А когда на нашей детской площадке стали резвиться рядом Вадик Толстой, Семка Менделеев, Никитка Гоголь и Павлик Достоевский, наш завхоз получил «по шапке» и с тех пор стал творить по наитию. Меня, например, он благословил на долгую жизнь под именем Валентин Окунь. Поэт, не правда ли? Занятно, но, став вполне зрелым мужчиной, я легко вычислял бывших детдомовцев и не в последнюю очередь по их вычурным именам и фамилиям, которые вязались с ними, как заплатка не в тон пиджаку.
И чтобы закрыть тему, присовокуплю, что до самых своих последних дней, разглядывая себя в зеркало, я не переставал гадать о своем подлинном имени. Николай? Сергей? Анатолий? Евгений? Сколько раз я, перебирая в голове различные имена, словно скользил пальцами по клавишам рояля, вслушиваясь в тембр и звук каждого. И сходил с ума оттого, что сердце оставалось глухим на каждый их них.
Что рассказать вам о своих детских годах, проведенных в детдоме, чтобы особенно не утомлять?
Пожалуй, это будет выглядеть так.
Когда мне исполнилось пять лет, самым значительным для меня событием стало выступление на очередном утреннике в костюме военного летчика. Из костюма военного летчика на мне был только летный шлем и планшетка, свисавшая до колена. Пока я читал стихи о Сталине, шлем то и дело сползал мне на глаза. И все равно это был полный восторг. Доказательством тому укоренившаяся с тех пор привычка поправлять на лбу воображаемый шлем из детства. Видите ли, я до сих пор ощущаю его на себе.
В шесть я случайно увидел, как мочится взрослая женщина, и это оказалось похлеще летного шлема. Этой женщиной была наша нянечка Зинаида Васильевна. Ее пышное тело грузно опало на сиденье, что вкупе со складками забранной одежды делало ее похожей на куклу на самоваре. Ее белые ляжки расплылись по стульчаку с контрабандистской зазывностью. Но главное, ее взгляд, который я успел перехватить… В нем не было ничего осмысленного, только покорное выжидание пышнотелой самки.
Чего бы захватывающего со мной не происходило в семилетнем возрасте, я этого все равно не запомнил, так как все еще не мог оправиться от Зинаиды Васильевны и полученных впечатлений.
А когда мне исполнилось восемь, я украл жизнь у близкого мне человека. Вы спрашиваете, возможно ли такое? Отвечу: вполне, если вы крадете не всю жизнь целиком. А только чужую судьбу, усмотрев в ней лучшую долю для себя любимого. Так сказать, масло с чужого бутерброда.
Это злодеяние я совершил в городе Прелюбове, куда в 1948 году был перевезен наш интернат.
На новое место жительства нас отправляли несколько дней небольшими партиями поездом «Камнегорск – Прелюбов». Я со своим другом Мишкой попал в первую партию. Представьте себе общий вагон, набитый до отказа воспитанниками. Кто-то из пацанов подслушал разговор воспитателей, и по вагону поползли невероятные истории о поджидавших нас сокровищах. Все говорили о нашем новом доме так, будто каждый там уже побывал. На вторые сутки в мальчишеских разговорах стали появляться описания бассейна, стрелкового тира и парашютной вышки, на которую уже стала заниматься очередь. Один я не верил в эти россказни. Я считал, что если Главный Волшебник, из замка которого дует северный ветер, так пронизывавший меня в Камнегорске, легко мог допустить, чтобы мальчишки вроде меня навсегда оставались без родителей, то с чего бы ему в дальнейшем напрягаться ради нас же на какие-то там стрелковые тиры и парашютные вышки. В Камнегорске я решил, что моя жизнь принадлежит чудовищу, ощерившемуся неровными зубами в виде двух цепочек, поставленных в ряд сандалий в детдомовском коридоре. У себя под ногами в мерно покачивающемся вагоне я слышал, как ритмично пощелкивает челюстями все та же злобная пасть. А вокруг меня, не унимаясь, фантазировали мальчишки, черт знает, до чего они могли бы еще договориться, если бы утром третьего дня наш поезд не прибыл в пункт своего назначения.
Была ранняя весна, вторая половина марта. Прелюбов встретил нас задавшимся солнечным деньком, ароматами приближающегося лета и несколькими автобусами на привокзальной площади. Город пережил оккупацию, и приметы этому были видны повсюду. Мы ехали по городским улицам, вдавливаясь лицами в окна. Вдоль полуразрушенных бомбардировками домов, в которых продолжали жить люди, брела на работу колонна военнопленных. Нашкодившие великовозрастные дети с лицами, вывернутыми вовнутрь, бесконечно чужие всему вокруг, будь то широколицые гиганты с киноафиш, люди со строительными тачками навстречу или бравурная музыка из громкоговорителей… И все равно людей вокруг было мало. После войны нас стало значительно меньше, может поэтому, люди так радовались нашему приезду.
Колонна сворачивает на тенистую улочку, съезжает по ней вниз, и автобусы один за другим притормаживают у главных ворот поджидающей нас новенькой крепости за высокой оградой. Мне восемь лет, я сижу у окна, и все, что происходит за стеклом, вызывает во мне чувство полного приятия. Внутренне я был согласен с крутым спуском улицы, с нашим новеньким ЗИСом, с выгоревшей пилоткой на голове шофера, с кажущейся воздушностью ограды, где свободное от кирпичей пространство занимали нацеленные в небо пики-прутья. С первого взгляда меня стал манить балкон на втором этаже, шириной почти во весь фасад, поддерживаемый короткими прямоугольными колоннами. Укромность места и защищенность крепости – будущее пристанище для сиротских упований и детских мечт.
Чуть поодаль от нас мужчины в гимнастерках снимали с грузовиков панцирные кровати и заносили их в наш новый дом. Их бушлаты лежали набросанными на скамейку перед крыльцом, и вспотевшие лица мужчин блестели под начинавшим припекать мартовским солнцем.
Завидев нас, от группки мужчин начальственного вида отделилась девушка лет восемнадцати в пионерском галстуке поверх лыжного костюма и заспешила к нам. Невероятно красивая, вчерашняя школьница, не далее как десять минут назад коронованная в этой самой группке на ближайшие лет пятнадцать повелевать сердцами мужчин. Она вся была в предвкушении своей новой, взрослой жизни, в которую была рада взять любого на правах веселого попутчика. Представьте, какое нас, мальчишек, охватило блаженство, когда мы поняли, какая красота будет сопровождать наше детство. В ту пору, когда детские учебные заведения в стане делились по половому признаку, от внешнего вида пионервожатой и пары – тройки учительниц зависело для нас, пацанов, очень многое. У нас ведь даже мам не было.
Да, наша новая пионервожатая была самим совершенством, и я хочу на этом остановиться поподробнее. Как описать подобное? В 1948 году я бы за это и не взялся, а теперь, пожалуй, попытаюсь. Видите ли, в каждом мужчине, когда он грезит о Женщине своей мечты, пробуждается художник, специалист по линиям и формам. В его голове полно эскизов, набросков, не знающих удержу, не стесненных реальностью. Если вы когда-нибудь видели рисунки, выполненные мастурбирующими юношами то, значит, представляете, о чем я толкую. Так вот, совершенство это то, что существуя реально, телесно, кровеносно-сосудисто, если угодно, способное превзойти красотой все эти тайные чертежи мужских фантазий. И не только потому, что мастурбирующие юноши, как правило, никудышные художники. Короче говоря, это было юное создание с прямыми льняными волосами до плеч и лицом ангела, но без поднебесной отрешенности во взоре. Ее точеная фигурка даже через лыжный костюм воспринималась не как сумма телесных прелестей, а как одно прекрасное целое. И похотливый взгляд кого бы то ни было не смог бы долго задержаться в одной точке. Это был конечный пункт назначения стремления природы к совершенству. По сравнению с ней все остальные женщины казались как бы слегка не в фокусе на любительской фотографии.
Почему я так долго треплюсь на эту тему, будто забыв поменять пластинку? Да потому, что это соответствовало моим тогдашним настроениям. Дело в том, что после моего лицезрения дебелых ляжек нашей нянечки, я в некотором роде потерял невинность. Почувствовал себя посвященным в мир взрослых. Я больше не мечтал стать военным летчиком. Мне бы вполне хватило вырасти во взрослого мужчину. И боюсь, нашу новую пионервожатую, я оглядывал из автобуса далеко не детским взглядом.
Горной козочкой она заскочила к нам в автобус и представилась – Нина Петровна. Занятно, но пока на ее совершенном личике вещал ее совершенный ротик (что-то там о распорядке дня), ее совершенные глазки со старательностью новичка отбили мой недетский взгляд на нее куда-то далеко под задние сидения.
Не забуду, как настороженным маленьким зверьком я впервые переступил порог прелюбовского интерната, прижимая к груди горшок с фикусом. Что это было за растение я, конечно, не знал, но сейчас мне было бы забавно думать, что это был именно фикус, из-за того детского стихотворения про старушку и фикус. Внутри уже царила собственная жизнь строения, заявленная просторным холлом с широченной лестницей в центре, которая мелкой рябью ступеней вздымалась к витражу в полукруглом окне. Оттуда лестница раздваивалась и, круто изогнувшись, уходила двумя рукавами на второй этаж. Это раздвоение на моем пути в «красный уголок» смутило меня. Я оказался на распутье и должен был выбирать. Я посчитал, что если в повседневной жизни все прилежные дети должны придерживаться правой стороны, то чувство стиля требовало от меня с фикусом в руках и мечтой о голой женщине воспользоваться левой стороной. Дабы не осквернять устои. Не осквернять носильщиком фикуса с пошленькой мечтой за пазухой благословенную правую сторону всех прилежных детей, которым предстояло в этих стен вызреть. В том числе и в квалифицированных строителей подобных хором. Я поднялся на второй этаж, прошел по коридору и оказался в просторной комнате. Сюда бесконечно складывались пионерские флаги, горны, барабаны вперемежку со стульями и глобусами. В комнате сквозняком витал счастливый дух предвкушения новой жизни. Это оттого, что двери, ведущие на балкон, были распахнуты навстречу весенним запахам, гулу оттаявших после зимы улиц, и радостью всего живого обновления пропитался сам воздух.
Поставив фикус на подоконник, я должен был возвращаться к грузовику за новой порцией всякой всячины. Но вместо этого со сладостным чувством греха я вышел на балкон. Еще в автобусе мне нестерпимо хотелось испытать под ногами опору прямоугольных колонн, бросить взгляд вниз из-за массивных перил на балясинах. Я положил локти на перила и стал наблюдать за перемещениями у крыльца. На какую-то секунду, там, на балконе, все наши мальчишки показались мне маленькими жрецами, приносящими дары в храм, а божеством в храме был я. Я был нешуточно заинтересован, когда разглядывал их – вот связки книг, вот планшеты, а вот цветы в горшках, а вот Мишка Разумовский понес стопку алюминиевых ведер. Мы встретились глазами и улыбнулись друг другу.
– Эй, ты там не заскучал? ~ услышал я. Хотите верьте, хотите нет, но первое куда я посмотрел, были облака надо мной. Я решил, что это бог приревновал меня и желает указать мне на мое место.
Это оказалась Нина Петровна. С воспитанниками она решила общаться в духе старшей сестры. Как я уже говорил, она была еще совсем юным созданием, и педагогический тон был ей не только недоступен, но и явно претил. А кто из наших пацанов не хотел бы иметь старшую сестру? Да еще такую. С балкона я видел, как добрые две трети из наших уже заделались ее преданными трубадурами. И я был бы совсем не прочь примкнуть к ним, не окажись она слишком красивой для старшей сестры.
Словом, по этому первому малозначительному эпизоду вы поняли, что мы с пионервожатой не поладили с самого начала. И если это так, то значит, вы освобождаете меня от труда привести вам целую кучу подобных примеров нашей взаимной неприязни, которые, конечно, имели место быть, в дальнейшем… Я был наказан за то, что с первого дня нарушил правила игры и полез не в свои сани.
Официальное открытие интерната с митингом и перерезанием красной ленточки было приурочено к началу учебного года, так что остаток весны и все лето наша жизнь напоминала жизнь в таборе. Еще не был полностью укомплектован штат учителей, и мы, мальчишки, частенько разглядывали с балкона, поднимавшихся на наше крыльцо незнакомых женщин, перешептываясь между собой. Приветствовались женщины молодые с ласковым взглядом, хотя бы чуточку модные, которых мы могли бы представлять нашими матерями или теми тетками, на которых мы обязательно женимся, когда вырастем. Возникшую однажды нервозную колченогую старушку в роговых очках, которая бросила на нас взгляд, полный ненависти, будто не только знала нас по именам, но и с легкостью готова привести полный список наших преступлений, мы с ходу окрестили Мамой Гитлера. Благо, больше она не появлялась.
Кстати, Дядечко – помните Дядечко? – переехал вместе с нами. В Прелюбов нас привезло несколько камнегорских воспитателей, но все они по приезде куда-то запропастились, а Дядечко остался, и никого это не удивило. В своем неизменном синем рабочем халате, с пальцем, перемотанным изолентой, со стремянкой и молотком, мы натыкались на него по сотне раз на дню, что в Камнегорске, что в Прелюбове. Я уже говорил, что у Дядечко не хватало по колено ноги, левой, но у него также не хватало двух пальцев на правой руке, и мне всегда чудилось, что недостававшие конечности нашего завхоза никуда не подевались, а просто стали невидимыми и каким-то непостижимым образом всегда держатся за наш новый дом, за нас и за наши судьбы в стенах этого дома.
Будь вы моим отыскавшимся отцом и спроси вы меня, как я там жил, я бы ответил, что не очень-то весело. Мы ведь там были вроде посылок от неизвестного отправителя, что по разным причинам копятся на почте. Положим, я не знал своей настоящей фамилии, но я чувствовал в себе кровь своего отца, своей неизвестной мне родни.. Возможно, во мне говорил кто-то из моих предков, какая-нибудь бабка, когда я в стенах интерната начинал тяготиться отсутствием всякой уединенности. И потом, наверное, это не очень правильно, когда сироты видят, как им налаживают быт. Не во что пустить корни. Впрочем, подобные мысли мне приходят только сейчас. Тогда мы были просто маленькими людьми в победившей стране, когда победа далась слишком тяжело. Теперь я пожилой человек и, по правде сказать, уже плохо помню прелюбовский детдом. Сон, приснившийся мне на прошлой неделе, для меня куда реальней, чем вся моя жизнь в далеком 1948 году. Все эти обрывки воспоминаний о том, чего не было, и о том, что могло быть, и все сожаления по этому поводу уже давно лежат в моей голове однородной массой, очень напоминающей остывшую глазунью.
Я изложу вам несколько эпизодов из той поры, которые, по моему мнению, важны для дальнейшей иллюстрации истории моей жизни. Хотя, в сущности, что такое история жизни отдельно взятого человека? Никто из нас не живет так, словно пишет о себе книгу – с интригующей завязкой, дальнейшим динамичным развитием, с кульминацией и поучительным финалом, и по тому историй своей жизни у нас всегда несколько.
Эти фрагменты, одни из множества других той поры помогут мне двигать историю дальше, раз уж я подвизался смастерить из них логическую цепочку. Нечто вроде кусочков прожаренной колбаски, если сравнение с глазуньей вас не вполне убедило с первого раза.
В детдоме у меня был единственный друг – Мишка Разумовский, мой верный товарищ еще с камнегорских времен. Кажется, пришло время его описать. Я не имею в виду всю эту лабуду про овал лица, форму носа, цвет глаз и длину волос. Только по такому типу описания вы никогда не сможете зрительно представить человека и уж тем более выхватить его взглядом в толпе. Чего вообще стоят такие описания про форму носа и цвет глаз, если все равно все китайцы для нас на одно лицо. Человек мыслит образами, а не монотонным перечислением вполне банальных характеристик. Зато, например, если про какого-то пацана сказать, что это был мальчик с лицом пожилого негодяя, он живо предстанет перед вашим мысленным взором. Однажды я такого видел и мне до сих пор тошно, как вспомню. Но, конечно, это был никак не Мишка Разумовский. Мой друг – философ, просветленный юный оракул. Крепко сбитый, надежный и славный. Такие обычно заканчивают школу в двенадцать лет, а потом о них пишут во всех газетах. Помню у него было две «макушки» и волосы на затылке норовили у шеи заплестись в косичку. Разумовский была его подлинной фамилией, он помнил своих родителей, но на все мои расспросы только крепче стискивал зубы. Наше местное хулиганье не наседало на него и вообще обходило стороной. Не в последнюю очередь из-за его больших кулаков, но еще и оттого, что он никак не раздражал их и казался органичной частью окружающего их мира, вроде куста шиповника перед нашим интернатом.