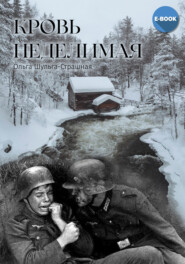По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Воробей на проводе
Год написания книги
2023
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Воробей на проводе
Ольга Григорьевна Шульга-Страшная
Эффект присутствия. Это восхитительное ощущение сопричастности к событиям в жизни героев не позволяет прервать чтение историй автора. Сказочная природа Алтая, чудеса счастливого детства, быстрое взросление, подпитанное неизбывным горем… все это захватывает читателя и не отпускает его до самой последней страницы.
Ольга Шульга-Страшная
Воробей на проводе
Семейный детектив
Труднее всего простить себя…
Автор
Моим детям посвящаю
Пролог
Я умирала дважды. Первый раз это случилось, когда мне было шесть лет. В тот день я поднялась на второй этаж нашего небольшого финского дома, верхние комнаты которого использовались семьей только в летнее время. И я сразу обратила внимание, что створка «запретного» правого окна колышется от сквозняка. Видимо, мама накануне мыла стекло и не смогла задвинуть старый погнутый шпингалет. Окно раньше всегда было закрыто, потому что в нескольких сантиметрах от него проходили два провода. Они были протянуты от высокого уличного столба к нашему дому. Мама всегда говорила, что провода трогать нельзя, иначе убьет током. Но сейчас я видела, что два воробья нахально сидели на наших проводах, а ток их и не думал убивать. Воробьи увлеченно чистили что-то под своими серенькими крылышками, цепко держась коготками за толстые проволочные тросики. На таких же тросиках висели мои качели. И они меня тоже не убивали. В моей шестилетней голове легко сложилась логическая цепь умозаключений, и я сделала единственно правильный и привычный вывод: взрослые опять солгали. Никакого тока нет, просто мама боится, что я вывалюсь из окна второго этажа. Но, прежде чем предъявлять маме претензии, нужны были доказательства. Я уже тогда любила действовать наверняка, припирая к стенке не только поколоченных моими крепкими кулачками сопливых соседских мальчишек, но и родителей вкупе со старшими сестрами, которые постоянно и любыми способами старались ограничить мою свободу. А свободу я ценила больше всего на свете. Итак, я подставила старую табуретку, в два приема вскарабкалась на нее и смело протянула свою загорелую ладошку к нижнему проводу. Ура! Доказательства были у меня в руке в буквальном смысле слова! Никакого тока нет! Отвоевав у воробьев первый провод, я решила освидетельствовать и второй. Моя левая рука, едва коснувшись почему-то колючего тросика, сразу замкнулась на нем крепкой хваткой. Я знала, что для такой хватки у меня не было сил, значит, это не моя сила, и она сомкнула не только мои ладошки, но и рот. Я даже успела удивиться этому. Мне не было больно, просто я не хотела подчиняться такому насилию. Кто, совсем невидимый, держал меня за руки и не давал мне и рта раскрыть?! Как бы ни так, я захотела закричать, но губы, как склеенные, не размыкались. Последнее, что я помнила, это мой громкий внутренний крик возмущения. Потом наступила теплая темнота и… ничего! Только ощущение полета вверх по спирали во что-то удивительно родное и почему-то давно забытое. Я не успела подумать, что же я успела забыть за свои короткие шесть лет жизни. Противный вкус холодной и ненавистной простокваши заполнил мой рот. Я закашлялась и сказала:
– Не буду! – в ответ послышались громкие мамины рыдания. Невидимые руки отца прижали меня и стали качать, как маленькую. А у меня почему-то впервые не было желания вырываться и доказывать свою полную самостоятельность. Я уснула, так до конца и не осознав, что побывала «там», за той самой чертой, к которой каждый человек идет с самого рождения. Или бежит. Оказалось, что я бежала. В тот первый раз меня спасло чудо. И звалось оно материнской любовью. Только мать могла услышать с расстояния почти пятидесяти метров тихое мычание сомкнутых губ ребенка, которому казалось, что он кричит. И только мать могла интуитивно поднять голову и увидеть маленькое тельце, которое уже наполовину высунулось из окна, притягиваемое невидимым электрическим током. У мамы на всю жизнь сохранились шрамы на коленях, которые она разбила в кровь, когда бежала по крутой и неудобной лестнице на второй этаж нашего дома. Она накрутила на руку подол моего новенького ситцевого платья и, что было сил, рванула на себя. Мы упали вместе. Мои руки оставались синими, а пальца скрюченными, как у тех самых воробышков, которые оказались победителями. Моя мама была обыкновенным фельдшером, но как каждый фельдшер довоенного выпуска, она умела многое. И она подарила мне жизнь второй раз. Мое сердце забилось, а в легкие хлынуло спасительное материнское дыхание. И никто в доме еще не знал, что я уже умерла и уже ожила, пока мама не спустилась со мной на руках. Она тихо сказала такими же синими, как и у меня тогда, губами:
– Дайте ей молока. Или простокваши. Что есть в доме….
Все это мне рассказали сестры много лет спустя, когда учинили разбор моих поступков. Они назидательно говорили, что я всегда жила с приключениями в голове, и мне нужно было родиться мальчишкой.
И вот теперь, когда я умирала второй и, наверное, последний раз, я понимала, что рядом уже нет ни материнских рук, ни ее дыхания. Нет, они еще существовали где-то далеко, в далеком и чужом городе, но я ни за что не хотела, чтобы мама оказалась сейчас здесь, в этой проклятой пещере, рядом с бездонной пропастью. Да, я, как самый настоящий сыщик, узнала, наконец-то, проклятую тайну, за которой гонялась все свои недолгие годы, и поняла, что цена этой тайны – моя жизнь. И не только моя. Я уже не понимала, стоило ли приобретать эти страшные знания и разгадывать гибель дорогих мне людей, если разгадка их смерти закончилась еще одной смертью.
Глава 1
Когда я почувствовала тупой обжигающий удар в спину, я не сразу поняла, что это был выстрел. Такой же, какой настиг много лет назад моего отца. И теперь, когда я, наконец, знала имя его убийцы и нашла, да, я нашла, это проклятое золото, которое от меня никто и не думал прятать, меня настигла смерть. Я думала, что я знаю всё…. В последнем усилии я смогла оглянуться и увидеть, наконец, лицо того, кто заставил пройти меня весь этот длинный путь, оставляя настоящую жизнь в стороне. Я поняла, что была слепой и глухой. Уже падая на мокрые острые камни, я успела взглянуть ему в глаза, но вместо ожидаемого и вычисленного моим терпением лица убийцы я увидела…, нет, я не хотела этого видеть. Губы бессильно, как когда-то в детстве, слипались, не желая произносить имя, я смогла только спросить, в последнем шепоте выдавая и горечь, и изумление:
– Ты? Почему ты…? – ответа я не услышала. А может, я его не поняла.
* * *
У моих родителей было много друзей. Друзей, так мне тогда казалось. Некоторые из них работали на предприятии, которым руководил мой отец, а другие занимали высокие должности в партийном руководстве города. И звали их, как большинство взрослых людей того времени, просто и незатейливо: Иванами, Степанами, Кузьмами и Федорами.
Самыми близкими нам были три семьи. Первые – Модины Иван Андреевич и Евдокия Дмитриевна. Иван Андреевич был первым секретарем горкома партии нашего большого промышленного города. Отец всегда говорил, что наши семьи похожи, как братья близнецы. Во-первых, мои родители были ровесниками Модиным-старшим, во-вторых, в их семье было тоже трое детей, только дети эти были мальчиками. Последний факт доставлял мне особенное удовольствие, потому что младший из них, Санька, был моим лучшим другом, а, следовательно, таким же сорвиголовой, как и я. Мы каждое лето собирались с ним проплыть от нашего города до самого Ледовитого океана. Сложив в сетчатую авоську яблоки, бутерброды с колбасой, связку баранок и большой закопченный чайник, мы трижды уплывали из дома. Бурная Ульба, щадя юные жизни, уносила черную плоскодонку совсем недалеко от последних грядок нашего огорода и выбрасывала на песчаный остров, поросший низким густым кустарником. Пережив несколько волнующих моментов во время первого заплыва, мы устало засыпали почти ввиду нашего дома и, конечно, ябедливых старших сестер и братьев. Вскоре за нами приплывали на большой и устойчивой лодке рассерженные отцы и доставляли нас в цепкие руки матерей. Мы с Санькой мужественно и терпеливо, по строгой предварительной договоренности, сносили наказание прутом по мягкому месту и долгое стояние в разных углах большого «зала». Эти побеги продолжались до тех пор, пока однажды, в восемь лет, Санька не разрушил нашу дружбу. Он признался мне в любви и обещал жениться, как только станет летчиком или капитаном, а сейчас он должен оберегать меня от неприятностей. Признание в любви я еще могла вынести, но предательское обзывание наших приключений неприятностями – ни за что.
Вторая семья, которая бывала у нас в доме почти каждые летние выходные дни, и все праздники круглый год – была семья главного инженера папиного предприятия. Основным занятием у них была зависть. Нет, не простая элементарная зависть, а Зависть с большой буквы. Они завидовали всем и по любому поводу. И завидовали чуть ли не с удовольствием. Бывают такие муки человеческие, которым люди отдаются с такой страстью и упоением, что забывают, что это – муки. Для них это становится любимым занятием, в котором они иногда достигают невероятного совершенства. Так вот этот случай как раз и был у Калашниковых. Папа не уважал своего главного инженера, но очень его жалел. Как мы привыкли жалеть тяжело больных людей. Поэтому на все семейные праздники они всегда приглашались. И Калашников искренне считал, что имеет право называться папиным другом. Степан Федорович и Варвара Ильинична Калашниковы были людьми с важной осанкой и важной внешностью. У этой семейной пары был единственный сын – Аркадий. Он был также и единственным героем всех их рассказов и застольных разговоров. Сам Аркадий, красивый двадцатилетний юноша, обычно сидел справа от своего отца, он всегда снисходительно морщился на всеобщее внимание и иногда нежно поглаживал свои тощенькие усы. Голоса его почти никто не слышал, всем было видно, что привезен был Аркадий только для того, чтобы засвидетельствовать почтение первым лицам города. И мысли и чувства его были всегда далеко, он часто прикрывал свои немыслимо синие глаза чудными пушистыми ресницами и оказывался, наверное, где-нибудь в волшебном месте с какой-нибудь неземной красавицей. Я всегда вздыхала, разглядывая из-за вышитой дверной шторы «взрослое» застолье. Красавец Аркадий казался мне иноземным принцем. Где он учился и кем собирался быть, я никогда не интересовалась. А вот мою старшую сестру Александру интересовало все, что хоть как-то касалось младшего Калашникова. Ей было уже семнадцать лет, и наш телефон знал наизусть голоса всех поклонников моей сестрицы. Но голоса Аркадия, насколько я знала, среди них не было.
Самыми таинственными и любимыми для меня гостями были Кукушкины. Дядя Петя редко надевал свой красивый мундир генерал-лейтенанта, но, увидев его однажды на трибуне под портретом Хрущева, я с удивлением вспомнила, что еще неделю назад сидела на его широких плечах, а он прыгал через гигантские скакалки. Мы с ним выиграли тогда междусемейное соревнование «скакалистов». Нам даже вручили по красивому и редкому в те времена апельсину.
Таинственное Управление из трех загадочных для меня букв КГБ, которое возглавлял мой любимый дядя Петя или Петр Кузьмич Кукушкин, часто упоминалось в разговорах наших знакомых. Но стоило зайти в комнату кому-нибудь из нас, детей, все сразу замолкали, и умело начинали разговор о чем-нибудь другом. Я не понимала, почему все так боятся дяди Петиной службы, да и его самого, кажется, тоже. Его жена, Раиса Ивановна, была существом добрейшим и совершенно безобидным. Она вся состояла из пухлостей, украшенных немыслимым количеством симпатичных ямочек, и мелкими завитками каштановых волос. Очень уютно было чувствовать себя прижатой к ее надушенной мягкой груди и слушать ее ласковый красивый голос. Детей у тети Раи не было, поэтому она тискала меня с такой нерастраченной нежностью и разрешала делать мне все-все-все, в отличие от моих родителей, что я иногда задумывалась, а не ответить ли согласием на ее шуточные предложения стать их доченькой. В угол меня там ставить наверняка не будут, да и зловредные старшие сестрицы оставят, наконец, свои педагогические опыты при себе. Но, взглянув на своих обожаемых родителей, я чувствовала такую гордость за них и за то, что я дочь этой красивой и веселой пары, что все мечты о безнаказанных поступках улетали прочь.
К той поре, когда я могла уже не только осознавать, но и анализировать поступки окружающих, мне исполнилось восемь лет. Природная наблюдательность и критическое отношение к своим и чужим поступкам делали мою детскую жизнь интересной и немного тревожной. Слишком рано стала я понимать, что думается не всегда то, что говорится. И я с детства знала, что почти все люди – природные актеры. Одни – по доброте душевной притворялись, что все у них гораздо лучше, чем обстоит на самом деле, что они довольны жизнью, и никому расстраиваться из-за них не нужно. А другие – и их было большинство, притворялись только в том, что было к их выгоде и удобному существованию. Первым, кто показал мне свой актерский талант, был Султан Ильясович Мухамбетов, новый начальник милиции. Этот вечно всем улыбающийся почти приторной улыбкой человек, сразу стремительно сощуривал глаза в спину уходящему собеседнику. И тогда на дне этих красивых восточных глаз рождалось что-то страшное и сильное. Как будто Мухамбетов одновременно испытывал самые черные человеческие чувства: и зависть, и злобу, и жажду мщения. Мне казалось, что я одна знаю – на самом деле Султан Ильясович совсем не тот, за кого он себя выдает. Мухамбетов, заметив мое пристальное к нему внимание, с недавних пор стал осторожничать при мне, почти не гася свою льстивую улыбку. Его кривые ноги, смешно упакованные в извечные мягкие кожаные сапожки, почти всегда следовали за моей матерью. Он, единственный из всех мужчин, умел целовать женщинам руки, но когда его губы касались тонкого запястья моей мамы, он не торопился отрываться от него. Мне казалось, что только я замечаю его влюбленность, но иногда досадливый жест выдавал мою мать, и вслед за этим она торопилась ласково улыбнуться Султану Ильясовичу, боясь обидеть его. Мухамбетовов был холост, и мне трудно было представить рядом с ним хоть какую-нибудь женщину. Тем более, такую красивую и такую любимую своим мужем, какой была моя мать.
Моя мать работала в областной больнице в должности совершенно рядовой – она была акушеркой родильного отделения. Я любила приходить к ней на работу, хотя дальше приемного покоя меня никогда не пускали. Лицо у мамы на работе было совсем другое, непохожее на домашнее. Оно казалось и старше и, одновременно, прекраснее. Ее изумительные карие глаза как будто видели гораздо больше, чем все окружающие. Там она никогда не досадовала на меня и не повышала голоса. Да и семейное имя мое не позволяло искажать его для строгих нотаций. Как вы думаете, можно ли отредактировать в суровую сторону имя Лёлька? При виде матери я всегда бросалась к ней навстречу, вдыхая привычный запах больницы и чудный аромат родного тела.
Мы шли домой, держа друг друга за руки, и все оглядывались нам в след. Конечно, все оглядывались вслед моей матери, но часть внимания и восхищения доставалась и мне.
Мать никогда не кичилась ни своей внешностью, ни высоким отцовским положением. Все знакомые сами стали называть ее за добрый и ласковый нрав Любашей Петровной. Мама сначала стеснительно улыбалась, но потом привыкла, и иногда представляясь новым знакомым ставшим привычным для всех именем. Отец, крупный и красивый мужчина, своим похожим на орла профилем возвышался над матерью, зорко оберегая ее от чужих взглядов. Он был страшно ревнив, но, сознавая это опасное и несправедливое для матери чувство, сдерживал его изо всех сил. Он настаивал, чтобы мама уволилась с работы и сидела дома, с нами, а, может, родила бы еще одного ребенка. Мама смеялась и говорила:
– Радов, дай мне передохнуть! Да и девчонки скоро по очереди начнут выходить замуж и рожать тебе внуков, – она прижималась к отцу, заглядывая ему в глаза. Он крепко обнимал ее, сдерживая силу своих рук. В глазах его рядом со счастливым блеском всегда проглядывала тревога за любимую женщину и за нас, трех разноликих его дочерей.
Вообще, нам не часто случалось проводить вечера, да и выходные, с отцом. Его «Промстрой» постоянно расширялся, требуя от него все больше сил и времени. Отстроившаяся после войны страна набирала мощные обороты, ей нужны были новые металлургические предприятия и, следовательно, работа моего отца. Каким человеком был мой отец? Наверное, замечательным. Я никогда не забуду ту бесконечно длинную и широкую вереницу людей, заполнивших главный проспект нашего города, которая молча и скорбно шла за гробом моего отца. Слово «осиротели» было самым частым из всех произносимых в тот день не только рядом с моей семьей, но и среди людей, нам совершенно незнакомых. В тот день сломались не только судьбы детей Кузьмы Сергеевича Радова, но и многих его соратников, подчиненных и даже жителей беззащитного отныне города. Уже через десяток лет красивая и бесконечно широкая Ульба окрасилась калейдоскопом мертвых сточных вод из многочисленных металлургических предприятий, кислотные дожди впервые пролились именно над нашим городом, и смерть от доныне неизвестных и оттого еще более страшных болезней, казалось, навеки поселилась в нашей долине. Я часто становилась свидетелем горьких заявлений, что «Сергеич бы не подписал, Радов бы не допустил, после Кузьмы Сергеевича все пошло прахом». Меня и радовали эти добрые слова об отце, и пугали своей тоской и грядущим ухудшением жизни нашего города. Уже через пятнадцать лет после смерти отца моим землякам среди самых первых стали выплачивать так называемые «гробовые», но разве этими деньгами можно было окупить и помельчавшую Ульбу, несущую свои грязные воды в чистый полноводный Иртыш, и нездоровье детей, уродливо лысеющих от ядовитых дождей?
Но пока еще отец был жив, и наша жизнь казалась нам незыблемо определенной, а мать была счастливой и спокойной женщиной.
* * *
Николенька Модин обещал стать замечательным художником. Не он сам, естественно, высказывал это пророчество, обещание это давали его многочисленные пейзажи и натюрморты. Он был средним среди сыновей Модных и, как на всякого среднего ребенка, на него приходилось наименьшее количество и заботы и внимательного родительского догляда. Николенька рос как будто сам по себе, он никогда не расставался со своими карандашами и красками, обращаясь к родителям только тогда, когда что-нибудь из его художественных принадлежностей заканчивалось. Но однажды его пейзажи среди прочих были отобраны для Московской выставки работ юных дарований. И уже через две недели к Модиным приехал важный бородатый дядька, который на долгие два часа заперся вместе с Николенькой в его отдельной комнате в мансарде большого модинского дома. Он вышел оттуда с просветленным лицом и сверкающими от счастья глазами. Он долго жал на прощанье руку Ивана Андреевича, а Евдокии Дмитриевне целовал руки и благодарил за рождение второго Левитана. Заручившись обещанием привезти Николеньку после окончания школы в Москву, он уехал, так и не стерев с лица счастливую улыбку. После этого к Николеньке стали относиться, как к дорогому хрустальному бокалу. Он совсем не рад был такому повышенному вниманию, стесняясь вслух высказываемым пророчествам о грядущей славе фамилии Модиных.
В тот год, через две недели после майских праздников, наша семья, как и другие общие знакомые, получили приглашение от Султана Ильясовича приехать к нему в летний дом на роскошный казахский бешбармак. Загородный дом его стоял в красивой расщелине недалеко от шумного ледяного водопада. Чистейшие струи его отчаянно падали с большой высоты. Прежде чем устремиться к Иртышу, горная река отдыхала в низовье водопада, образуя небольшое озеро, окаймленное фантастически красивыми искристыми камнями. Вода в озере была ледяная, больше минуты в ней высидеть было невозможно. Но мы, едва отогревшись, вновь и вновь прыгали в прозрачную пузырчатую пену, пытаясь проплыть хотя бы несколько метров.
На солнечном склоне ютился небольшой сарайчик в окружении двух десятков улей. Женщины, одетые в модные тогда льняные сарафаны с юбками «солнцеклеш», почти все в широкополых соломенных шляпах, расстилали на мягкой молодой траве яркие плюшевые скатерти, целую стопку которых вынес из дома Мухамбетов. Большой казан, как в гнезде сидящий в просторной летней печи, уже издавал аромат вкусного мяса. Рядом, в большой кастрюле варились в крепком мясном бульоне крупные лепестки нежнейшего теста. Старая казашка, то ли дальняя родственница, то ли прислуга Мухамбетова, резала тонкими кольцами огромный сладкий лук. Наконец, все расселись, привычно сложив под собой ноги калачиком. Достархан расцвел ранней зеленью и разноцветными пиалами с бульоном. В самый центр его поставили, наконец, огромное блюдо с горой мяса. Султан Ильясович стал одаривать гостей, по казахскому обычаю, кусками мяса, которые делились в строго иерархическом порядке. Я помню только, что самый большой кусок от бараньей или конской головы доставался всегда отцу. Он первый принимал его из рук Мухамбетова и что-то шутя говорил ему по-казахски. Потом уже одаривались остальные мужчины, которые, как мне казалось, с большим бы удовольствием съели какой-нибудь вполне обычный и привычный для русского вкуса кусок мяса. После мужского дележа женщинам и детям разрешалось брать, кто что хочет, и застолье продолжалось до самого заката.
Детям быстро надоедали долгие «взрослые» беседы родителей, и мы разбегались кто куда. Здесь, в предгорьях Алтая, нам предоставлялась такая свобода, которую мы потом долго не могли забыть в городе. Мы носились по откосам, как молодые архары и с визгом барахтались в ледяном озере. Самые отчаянные забирались на высокий выступ и ныряли в глубокую воронку в самом центре падения воды. И только один наш Николенька, опьяненный красотой гор и свежей зеленью листвы, торопился остановить в своих набросках весенний просыпающийся Алтай. Молодые кедры, рискнувшие спуститься в долину, как будто манили нас подняться повыше и спрятаться от жарких лучей солнца.
Отвергнув в очередной раз Санькино предложение стать его официальной невестой, я натянула старенькие потертые сандалии и решила отправиться в недалекое путешествие по окрестностям одна. Обидевшись на ехидный и немногословный отказ, мой верный друг ушел к водопаду, а я выпросила у Николеньки его ковбойскую шляпу и стала карабкаться по довольно крутому склону к ближайшему кедрачу. Солнечный свет и многоголосый шум отдалились в одно мгновенье, едва молодая крона деревьев сомкнулись над моей головой. Казалось, время остановилось, и я осталась под широкими ветвями кедров одна, как будто вокруг на сто верст не было ни души. Только пробное в этом году стрекотанье кузнечиков нарушало почти стерильную тишину, да еще время от времени раздавался дробный звук далекого дятла. Густая молодая трава, пряча шум моих шагов, удобно пружинила, не давая моим сандалиям соскальзывать по наклонной поверхности. Я уходила все дальше: сначала выше по склону, а потом вдоль высохшего русла весеннего ручья. Постепенно старые кедры пришли на смену молодым, кроны поднялись выше, но взамен их тени появилась тень от густого кустарника. Он маскировал многочисленные уступы в скалах, цепляясь жадными корнями за малейшие наносы почвы. Иногда каменистая осыпь прерывала удобную тропинку, добавляя на моих коленках ссадин и царапин. Я стала карабкаться еще выше, чтобы взглянуть на долину и дом Мухамбетова сверху. Острый выступ на скале, как балкон, предлагал постоять на себе и почувствовать себя выше, чем можно чувствовать себя в детстве. К этому балкону пришлось добираться в обход. Но когда я встала на его почти идеально ровную поверхность, я почувствовала себя счастливой. Расщелина, расширяясь к западной части долины, одновременно скатывалась вниз, даря картину, от которой даже мой неопытный взор был не в силах оторваться. Солнце золотило верхушки кедров, узкая речушка, рожденная нашим водопадом, извилистым серебром устремлялась вниз, к далекому и невидимому отсюда Иртышу. Воздух был так чист прозрачен, что видны были совсем далекие вершины, покрытые белоснежными вечными снегами. Огромное пушистое облако, зацепившееся за острую, как веретено, верхушку, готово было тонкой нитью пуха сорваться в полет в любую минуту. Нет, я не могла любоваться этой красотой одна, но и с Сашкой мириться мне тоже не хотелось. Только один Николенька достоин был сидеть здесь, рядом со мной, и рисовать эту сказочную картину. Я стала пробираться назад, к путеводному пересохшему руслу, но сандалии подвели меня, и я кубарем покатилась вниз, не успевая цепляться за многочисленные кустики земляники и дикой смородины. Мне повезло, что на моем пути почти не было камней, иначе бы я не отделалась только царапинами на ладонях и содранными локтями. Падение мое было остановлено на маленькой площадочке, обсаженной как оградой каким-то густым кустарником. В глубине этой площадки, прямо под моим балкончиком, зияло почти идеально круглое отверстие. Оттуда тянуло сухим сеном и мягкой прохладой. Я была бы не я, если б не захотела проникнуть внутрь. Но дневной свет уже через несколько шагов перестал освещать мой путь, я нерешительно постояла, потом присела и стала пробираться в глубь на ощупь. Через несколько метров пещера стала уходить вниз, стены уже излучали холод и влагу. Звонкая капель, рождаясь где-то в глубине скалы, становилась все ближе. Внезапно мне показалось, что впереди раздался шорох, я вдруг вспомнила о многочисленных змеях, гнездившихся в холодных и влажных пещерах, и повернула назад. Но я и не думала отказаться от затеи исследовать таинственную пещеру, мне просто нужен был помощник или хотя бы фонарик. Я знала, что если попрошу фонарик у взрослых, то они увяжутся следом за мной, значит, необходимо найти что-нибудь, что могло бы его заменить. Решив на следующий день помириться с Сашкой и, заодно, взять его в путешествие по таинственной пещере, я стала спускаться вниз. Уже через полчаса я вышла на поляну, где сидел Николенька. Только сейчас я заметила, что потеряла его ковбойскую шляпу. Наверное, она осталась недалеко от входа в пещеру. Я подумала, что завтра найду ее и отдам Николеньке, все равно мы пойдем туда с Санькой. «Так и быть, покажу ему сегодня вид с балкона, чтобы не сердился за шляпу», – с этой успокаивающей мыслью я помчалась к Николеньке. Он выслушал мой восторженный рассказ об удивительном виде на долину, и через десять минут мы уже карабкались обратно к тому самому козырьку, который просто создан был для работы художника. Николенька, как завороженный, распахнул глаза и все смотрел и смотрел на простирающуюся долину, на дальние леса в предзакатной дымке и, казалось, боялся вздохнуть. Я поняла, что он застрял здесь надолго. По крайней мере, до самой темноты.
– Ты иди, Лелька, иди. Я поработаю пока, – рука Николеньки поднялась и замерла на мгновенье, прежде чем начать блаженную и сладостную работу. Я махнула ему рукой, но он уже не видел меня.
В озере уже купались взрослые, а Саньки нигде не было видно. Одна Александра сидела на камне, примагничивая взглядом Аркашино внимание. Аркадий, томно прикрывая глаза, нежился на мягкой траве, потом он подошел к Александре, коротко сказал ей что-то, и они пошли в сторону водопада.
Мама сердито выговорила мне за долгое отсутствие и отослала спать в просторную палатку, которую к тому времени уже разбили рядом с домом.
Спали допоздна, пока солнце и голод окончательно не разбудили всех гостей. Мама воткнула в мой сонный кулачок зубную щетку и тюбик с пастой и отправила умываться к водопаду. Я медленно шла, стараясь сохранить последние мгновенья сладостной утренней дремы, но глаза щурились от уже высокого солнца. Я чувствовала себя бесконечно счастливой и бесконечно беззаботной. Я улыбалась на ходу и совсем не чувствовала, что через миг закончится и моя беззаботность и мое детство…!
В нескольких шагах впереди меня шла моя средняя сестра, тихоня Зиночка. Она, по-видимому, плохо чувствовала себя в эти дни, впервые познакомившись с женскими недомоганиями. Я молча сочувствовала ей, с любопытством разглядывая ее изменившуюся фигуру. С грустью, опустив глаза на свою плоскую девчачью грудь, я медленно переставляла ноги и едва не споткнулась о тело своей сестры, внезапно комом упавшее на траву у самого края водопадного озерца. Я растерялась и уже готова была звать на помощь. Но то, что я увидела, повергло меня в такой шок, что губы мои второй раз в жизни не смогли разомкнуться и позвать на помощь: у самого начала русла бурливой реки, вытекающей из каменного лона озера, почти обнимая широко раскинутыми руками два выступающих из воды валуна, плавало мертвое тело Николеньки. То, что оно было мертвым, я поняла сразу, хотя до сих пор не видела ни одного покойника. Лицо Николеньки, выстуженное ледяной горной водой, стало белоснежным, а бледно лиловые губы носили следы мучительной гримасы, как будто Николенька сопротивлялся в последнем усилии сделать что-то для своего спасения. Неподвижные глаза, широко распахнутые навстречу солнцу, отражали и зеленую кайму нашей долины, и плывущее в далеком небе легкое кучерявое облако. Не знаю, сколько я стояла, скованная ужасом первого свидетельства смерти, и только низкий, ужасающий своей болью крик, вывел меня из оцепенения. Я знала, что этот голос принадлежит тете Дуне, но боялась заглянуть в её лицо больше, чем в мертвое лицо Николеньки.
Дальнейшие события превратились в какой-то жуткий калейдоскоп криков и беготни. Зиночкин мучительный стон, плачь женщин, встревоженные голоса мужчин. Отец вместе с Султаном Ильясовичем подплыли к Николеньке, подхватили тело юноши подмышки, и через пару минут он уже лежал на молодой майской траве, все так же раскинув в стороны свои застывшие руки. То, что Николенька сорвался с камня, не думая купаться, было ясно по его одежде. На нем были даже кеды, зашнурованные с присущей ему аккуратностью. Но вот оторванные на рубашке пуговицы и свисающий клок нагрудного кармана, который мой отец разгладил на Николенькиной груди, сразу навели меня на мысль, что Николенька погиб от чьих-то жестоких рук. Взрослые отнесли Николеньку в тень сарая, положили его на бархатную скатерть, и лицо его скрылось под мягкой тканью. Мужчины молча курили в ожидании машин, не решаясь отходить от тела, женщины ушли в дом, и там установилась страшная тишина.
Отец, отведя Мухамбетова в сторону, что-то горячо говорил ему. Султан Ильясович, бледный и растерянный, отвечал ему, от волнения смешивая русские и казахские слова. Я расслышала только несколько слов, которые Мухамбетов почти крикнул в лицо моему отцу:
– Никто здесь ночью не бродил, и ко мне никто не приходил. Мальчишка сам свалился в воду, да кому он нужен, Радов?! – отец собрал в кулак рубаху на груди Мухамбетова и почти поднял его кривоногое тело над землей. Он стоял ко мне спиной, и я не слышала его слов, но по растекшейся по щекам и плоскому лбу Султана Ильясовича желтизне, по его растерянному и испуганному взгляду, я поняла, что отец чем-то здорово напугал нашего начальника милиции. И только потом я увидела в руке Мухамбетова Николенькину шляпу, которую сама и потеряла вчера возле маленькой пещерки. Послышался гул, и машины, появившиеся из-за западного склона, заставили отца поставить Мухамбетова на землю. Тот сразу же пришел в себя, заправил под ремень свою рубашку, поправил пятерней черные густые волосы и почти бегом направился к сараю, в тени которого еще лежало тело Николеньки. Я подбежала к отцу, чтобы спросить его о Николенькиной шляпе, которая неожиданно очутилась здесь, вдали от того места, где я вчера ее потеряла. Но отец, устало погладив меня по голове теплой тяжелой рукой, сказал:
– Погоди, Лёлька, не до тебя сейчас, видишь, беда какая, – он таким же жестом, как и Мухамбетов, провел по своим темно-русым волосам и решительно направился в сторону Николенькиного тела. Там, присев возле изголовья юноши, сидел дядя Петя Кукушкин. Он что-то внимательно рассматривал на правом виске Николеньки, откинув в сторону его волнистые и уже просохшее волосы. Отец присел рядом, и они тихо стали о чем-то говорить. Потом дядя Петя откинул в сторону скатерть, укрывавшую тело Николеньки, и показал отцу скрюченные пальцы правой руки, ногти которых были обломаны так сильно, что под ногтями, несмотря на ледяную воду, в которой нашли тело юноши, были лиловые разводы кровоподтеков. Мухамбетов, неслышно возникнув за моей спиной, почти застонал, когда дядя Петя взял в свою большую руку тонкую изуродованную кисть Николеньки. Все оглянулись на этот мучительный приглушенный звук, но Султан Ильясович, круто развернувшись, ушел в сторону машин.
Я не помню, чтобы я плакала в тот день. Помню неподвижность своих мыслей, которые способны были только откладывать в памяти все события, слова, взгляды, но все это оставалось как-то в стороне от привычных моих поисков правых и виноватых. Слишком неожиданным и сильным был удар, который нанесла судьба семье Модиных и всем нам. Всё вокруг как будто в один миг изменилось, приобрело более четкие и, одновременно, более мрачные очертания. Я, как деревянная, сидела на солнцепеке, мне уже некуда и незачем было идти. После обеда пришла большая темная машина, которая увезла, наконец, мертвое тело Николеньки. Затем детей вместе с женщинами усадили в машины и отправили в город. Мужчины остались там, где погиб Николенька, радом с ними собралось несколько человек в милицейских погонах, но мне не удалось больше услышать ни одного слова, которое бы заинтересовало меня в те минуты. Отец вернулся домой затемно, непривычно громко хлопнув дверью. Он закрылся с матерью в своем кабинете и долго о чем-то говорил с ней. Я уснула, так и не дождавшись привычного поцелуя на ночь, а утром отца уже не было дома: он выехал ночью к месту аварии на очистных сооружениях титаномагниевого комбината. Я не знала, с кем мне делиться сомнениям о смерти Николеньки: мама с утра уехала к тете Дуне, оставив нас с Зиночкой на Александру, а отец даже ни разу не позвонил, как он обычно делал, если не видел нас с утра. Даже верный друг Сашка сейчас был от меня дальше, чем еще день назад. Я решила молчать до поры, сохранив в памяти и страх в глазах Мухамбетова после каких-то слов отца, и Николенькину шляпу в его руке.
После похорон, на которых мы стояли возле мамы, держась за её руки и прижимаясь к теплому и надежному её боку, боясь и больше всего желая оторвать глаза от выбеленного лица Николеньки, мы не стали долго задерживаться у Модиных. Зиночка, дважды теряя сознание, совсем расстроила родителей. Они были напуганы ее внезапным нездоровьем. На все расспросы Зиночка тихо плакала, потом, свернувшись тугим клубочком, ненадолго засыпала, даже во сне поскуливая, как брошенный маленький щеночек. Рядом с ней неотлучно находилась молчаливая, как никогда, Александра.
Прошло два дня после похорон, и ко мне приехал Санька. Он больше не признавался мне в любви, растерянно блуждая своими выпуклыми серыми глазами, не останавливаясь ни на чем. Мама вздыхала, гладя Саньку по светлому ежику волос, а он инстинктивно прижимался к ее груди, пряча от меня слезы.
Вечером к нам неожиданно приехал дядя Петя Кукушкин. Перед этим я рассказала, наконец, отцу, где и как я потеряла Николенькину ковбойскую шляпу. Отец заставил меня подробно повторить рассказ еще раз, потом велел никому больше об этом не говорить и выпроводил меня из кабинета. Уже закрывая дверь, я услышала, как он говорил по телефону с Кукушкиным:
– Завтра все расскажу, будут тебе и доказательства, и свидетель. Правда, несовершеннолетний. Завтра, все завтра. Будь здоров, – отец повесил трубку и стал мерить кабинет шагами. Я стояла возле едва прикрытой двери, вместе с ним мысленно анализируя все события того дня, когда погиб Николенька. Если только дня…. Мне почему-то казалось, что Сашкин брат погиб не днем, когда проснувшиеся взрослые стали будить нас, детвору, а ранним утром, когда только такой сумасшедший романтик, каким был Николенька, мог встать, чтобы увидеть первый луч солнца или еще какую-нибудь художественную прекрасность. Перед моим внутренним взором вдруг возникла поляна вокруг мухамбетовского дома, многочисленные гости того злополучного дня, но что-то не давало мне покоя, заставляя вновь и вновь прокручивать последовательность всех перемещений взрослых и детей. Стоп! Кого-то не хватало в тот день, когда мы с Зиночкой нашли мертвого Николеньку…! Конечно! Я, наконец, поняла, что ни утром, ни днем перед отъездом не видела старую казашку, которая накануне помогала Мухамбетову принимать гостей. Не могла же она куда-нибудь уехать, оставив на гостей гору немытой посуды. Да и кормить нас нужно было еще целый день, до следующего утра, когда машины должны были приехать за всеми нами. Если Николенька, борясь за свою жизнь, смог оставить следы от своих ногтей, то это вполне могло быть лицо той самой старухи! Только зачем ей было убивать его? Причина могла быть только одна: Николенька увидел что-то, чего видеть не должен был! Я даже радостно крутанулась на одной ноге, готовая рассказать отцу о своих наблюдениях. Но раздался звонок в дверь, и вскоре мама ввела в гостиную моего любимого дядю Петю. Он непривычно не заметил меня, на ходу пожимая отцу протянутую руку. Я обиженно спряталась за шторой, украшающей дверь в кабинет отца. То, что я услышала, заставило мою кожу покрыться мурашками страха:
Ольга Григорьевна Шульга-Страшная
Эффект присутствия. Это восхитительное ощущение сопричастности к событиям в жизни героев не позволяет прервать чтение историй автора. Сказочная природа Алтая, чудеса счастливого детства, быстрое взросление, подпитанное неизбывным горем… все это захватывает читателя и не отпускает его до самой последней страницы.
Ольга Шульга-Страшная
Воробей на проводе
Семейный детектив
Труднее всего простить себя…
Автор
Моим детям посвящаю
Пролог
Я умирала дважды. Первый раз это случилось, когда мне было шесть лет. В тот день я поднялась на второй этаж нашего небольшого финского дома, верхние комнаты которого использовались семьей только в летнее время. И я сразу обратила внимание, что створка «запретного» правого окна колышется от сквозняка. Видимо, мама накануне мыла стекло и не смогла задвинуть старый погнутый шпингалет. Окно раньше всегда было закрыто, потому что в нескольких сантиметрах от него проходили два провода. Они были протянуты от высокого уличного столба к нашему дому. Мама всегда говорила, что провода трогать нельзя, иначе убьет током. Но сейчас я видела, что два воробья нахально сидели на наших проводах, а ток их и не думал убивать. Воробьи увлеченно чистили что-то под своими серенькими крылышками, цепко держась коготками за толстые проволочные тросики. На таких же тросиках висели мои качели. И они меня тоже не убивали. В моей шестилетней голове легко сложилась логическая цепь умозаключений, и я сделала единственно правильный и привычный вывод: взрослые опять солгали. Никакого тока нет, просто мама боится, что я вывалюсь из окна второго этажа. Но, прежде чем предъявлять маме претензии, нужны были доказательства. Я уже тогда любила действовать наверняка, припирая к стенке не только поколоченных моими крепкими кулачками сопливых соседских мальчишек, но и родителей вкупе со старшими сестрами, которые постоянно и любыми способами старались ограничить мою свободу. А свободу я ценила больше всего на свете. Итак, я подставила старую табуретку, в два приема вскарабкалась на нее и смело протянула свою загорелую ладошку к нижнему проводу. Ура! Доказательства были у меня в руке в буквальном смысле слова! Никакого тока нет! Отвоевав у воробьев первый провод, я решила освидетельствовать и второй. Моя левая рука, едва коснувшись почему-то колючего тросика, сразу замкнулась на нем крепкой хваткой. Я знала, что для такой хватки у меня не было сил, значит, это не моя сила, и она сомкнула не только мои ладошки, но и рот. Я даже успела удивиться этому. Мне не было больно, просто я не хотела подчиняться такому насилию. Кто, совсем невидимый, держал меня за руки и не давал мне и рта раскрыть?! Как бы ни так, я захотела закричать, но губы, как склеенные, не размыкались. Последнее, что я помнила, это мой громкий внутренний крик возмущения. Потом наступила теплая темнота и… ничего! Только ощущение полета вверх по спирали во что-то удивительно родное и почему-то давно забытое. Я не успела подумать, что же я успела забыть за свои короткие шесть лет жизни. Противный вкус холодной и ненавистной простокваши заполнил мой рот. Я закашлялась и сказала:
– Не буду! – в ответ послышались громкие мамины рыдания. Невидимые руки отца прижали меня и стали качать, как маленькую. А у меня почему-то впервые не было желания вырываться и доказывать свою полную самостоятельность. Я уснула, так до конца и не осознав, что побывала «там», за той самой чертой, к которой каждый человек идет с самого рождения. Или бежит. Оказалось, что я бежала. В тот первый раз меня спасло чудо. И звалось оно материнской любовью. Только мать могла услышать с расстояния почти пятидесяти метров тихое мычание сомкнутых губ ребенка, которому казалось, что он кричит. И только мать могла интуитивно поднять голову и увидеть маленькое тельце, которое уже наполовину высунулось из окна, притягиваемое невидимым электрическим током. У мамы на всю жизнь сохранились шрамы на коленях, которые она разбила в кровь, когда бежала по крутой и неудобной лестнице на второй этаж нашего дома. Она накрутила на руку подол моего новенького ситцевого платья и, что было сил, рванула на себя. Мы упали вместе. Мои руки оставались синими, а пальца скрюченными, как у тех самых воробышков, которые оказались победителями. Моя мама была обыкновенным фельдшером, но как каждый фельдшер довоенного выпуска, она умела многое. И она подарила мне жизнь второй раз. Мое сердце забилось, а в легкие хлынуло спасительное материнское дыхание. И никто в доме еще не знал, что я уже умерла и уже ожила, пока мама не спустилась со мной на руках. Она тихо сказала такими же синими, как и у меня тогда, губами:
– Дайте ей молока. Или простокваши. Что есть в доме….
Все это мне рассказали сестры много лет спустя, когда учинили разбор моих поступков. Они назидательно говорили, что я всегда жила с приключениями в голове, и мне нужно было родиться мальчишкой.
И вот теперь, когда я умирала второй и, наверное, последний раз, я понимала, что рядом уже нет ни материнских рук, ни ее дыхания. Нет, они еще существовали где-то далеко, в далеком и чужом городе, но я ни за что не хотела, чтобы мама оказалась сейчас здесь, в этой проклятой пещере, рядом с бездонной пропастью. Да, я, как самый настоящий сыщик, узнала, наконец-то, проклятую тайну, за которой гонялась все свои недолгие годы, и поняла, что цена этой тайны – моя жизнь. И не только моя. Я уже не понимала, стоило ли приобретать эти страшные знания и разгадывать гибель дорогих мне людей, если разгадка их смерти закончилась еще одной смертью.
Глава 1
Когда я почувствовала тупой обжигающий удар в спину, я не сразу поняла, что это был выстрел. Такой же, какой настиг много лет назад моего отца. И теперь, когда я, наконец, знала имя его убийцы и нашла, да, я нашла, это проклятое золото, которое от меня никто и не думал прятать, меня настигла смерть. Я думала, что я знаю всё…. В последнем усилии я смогла оглянуться и увидеть, наконец, лицо того, кто заставил пройти меня весь этот длинный путь, оставляя настоящую жизнь в стороне. Я поняла, что была слепой и глухой. Уже падая на мокрые острые камни, я успела взглянуть ему в глаза, но вместо ожидаемого и вычисленного моим терпением лица убийцы я увидела…, нет, я не хотела этого видеть. Губы бессильно, как когда-то в детстве, слипались, не желая произносить имя, я смогла только спросить, в последнем шепоте выдавая и горечь, и изумление:
– Ты? Почему ты…? – ответа я не услышала. А может, я его не поняла.
* * *
У моих родителей было много друзей. Друзей, так мне тогда казалось. Некоторые из них работали на предприятии, которым руководил мой отец, а другие занимали высокие должности в партийном руководстве города. И звали их, как большинство взрослых людей того времени, просто и незатейливо: Иванами, Степанами, Кузьмами и Федорами.
Самыми близкими нам были три семьи. Первые – Модины Иван Андреевич и Евдокия Дмитриевна. Иван Андреевич был первым секретарем горкома партии нашего большого промышленного города. Отец всегда говорил, что наши семьи похожи, как братья близнецы. Во-первых, мои родители были ровесниками Модиным-старшим, во-вторых, в их семье было тоже трое детей, только дети эти были мальчиками. Последний факт доставлял мне особенное удовольствие, потому что младший из них, Санька, был моим лучшим другом, а, следовательно, таким же сорвиголовой, как и я. Мы каждое лето собирались с ним проплыть от нашего города до самого Ледовитого океана. Сложив в сетчатую авоську яблоки, бутерброды с колбасой, связку баранок и большой закопченный чайник, мы трижды уплывали из дома. Бурная Ульба, щадя юные жизни, уносила черную плоскодонку совсем недалеко от последних грядок нашего огорода и выбрасывала на песчаный остров, поросший низким густым кустарником. Пережив несколько волнующих моментов во время первого заплыва, мы устало засыпали почти ввиду нашего дома и, конечно, ябедливых старших сестер и братьев. Вскоре за нами приплывали на большой и устойчивой лодке рассерженные отцы и доставляли нас в цепкие руки матерей. Мы с Санькой мужественно и терпеливо, по строгой предварительной договоренности, сносили наказание прутом по мягкому месту и долгое стояние в разных углах большого «зала». Эти побеги продолжались до тех пор, пока однажды, в восемь лет, Санька не разрушил нашу дружбу. Он признался мне в любви и обещал жениться, как только станет летчиком или капитаном, а сейчас он должен оберегать меня от неприятностей. Признание в любви я еще могла вынести, но предательское обзывание наших приключений неприятностями – ни за что.
Вторая семья, которая бывала у нас в доме почти каждые летние выходные дни, и все праздники круглый год – была семья главного инженера папиного предприятия. Основным занятием у них была зависть. Нет, не простая элементарная зависть, а Зависть с большой буквы. Они завидовали всем и по любому поводу. И завидовали чуть ли не с удовольствием. Бывают такие муки человеческие, которым люди отдаются с такой страстью и упоением, что забывают, что это – муки. Для них это становится любимым занятием, в котором они иногда достигают невероятного совершенства. Так вот этот случай как раз и был у Калашниковых. Папа не уважал своего главного инженера, но очень его жалел. Как мы привыкли жалеть тяжело больных людей. Поэтому на все семейные праздники они всегда приглашались. И Калашников искренне считал, что имеет право называться папиным другом. Степан Федорович и Варвара Ильинична Калашниковы были людьми с важной осанкой и важной внешностью. У этой семейной пары был единственный сын – Аркадий. Он был также и единственным героем всех их рассказов и застольных разговоров. Сам Аркадий, красивый двадцатилетний юноша, обычно сидел справа от своего отца, он всегда снисходительно морщился на всеобщее внимание и иногда нежно поглаживал свои тощенькие усы. Голоса его почти никто не слышал, всем было видно, что привезен был Аркадий только для того, чтобы засвидетельствовать почтение первым лицам города. И мысли и чувства его были всегда далеко, он часто прикрывал свои немыслимо синие глаза чудными пушистыми ресницами и оказывался, наверное, где-нибудь в волшебном месте с какой-нибудь неземной красавицей. Я всегда вздыхала, разглядывая из-за вышитой дверной шторы «взрослое» застолье. Красавец Аркадий казался мне иноземным принцем. Где он учился и кем собирался быть, я никогда не интересовалась. А вот мою старшую сестру Александру интересовало все, что хоть как-то касалось младшего Калашникова. Ей было уже семнадцать лет, и наш телефон знал наизусть голоса всех поклонников моей сестрицы. Но голоса Аркадия, насколько я знала, среди них не было.
Самыми таинственными и любимыми для меня гостями были Кукушкины. Дядя Петя редко надевал свой красивый мундир генерал-лейтенанта, но, увидев его однажды на трибуне под портретом Хрущева, я с удивлением вспомнила, что еще неделю назад сидела на его широких плечах, а он прыгал через гигантские скакалки. Мы с ним выиграли тогда междусемейное соревнование «скакалистов». Нам даже вручили по красивому и редкому в те времена апельсину.
Таинственное Управление из трех загадочных для меня букв КГБ, которое возглавлял мой любимый дядя Петя или Петр Кузьмич Кукушкин, часто упоминалось в разговорах наших знакомых. Но стоило зайти в комнату кому-нибудь из нас, детей, все сразу замолкали, и умело начинали разговор о чем-нибудь другом. Я не понимала, почему все так боятся дяди Петиной службы, да и его самого, кажется, тоже. Его жена, Раиса Ивановна, была существом добрейшим и совершенно безобидным. Она вся состояла из пухлостей, украшенных немыслимым количеством симпатичных ямочек, и мелкими завитками каштановых волос. Очень уютно было чувствовать себя прижатой к ее надушенной мягкой груди и слушать ее ласковый красивый голос. Детей у тети Раи не было, поэтому она тискала меня с такой нерастраченной нежностью и разрешала делать мне все-все-все, в отличие от моих родителей, что я иногда задумывалась, а не ответить ли согласием на ее шуточные предложения стать их доченькой. В угол меня там ставить наверняка не будут, да и зловредные старшие сестрицы оставят, наконец, свои педагогические опыты при себе. Но, взглянув на своих обожаемых родителей, я чувствовала такую гордость за них и за то, что я дочь этой красивой и веселой пары, что все мечты о безнаказанных поступках улетали прочь.
К той поре, когда я могла уже не только осознавать, но и анализировать поступки окружающих, мне исполнилось восемь лет. Природная наблюдательность и критическое отношение к своим и чужим поступкам делали мою детскую жизнь интересной и немного тревожной. Слишком рано стала я понимать, что думается не всегда то, что говорится. И я с детства знала, что почти все люди – природные актеры. Одни – по доброте душевной притворялись, что все у них гораздо лучше, чем обстоит на самом деле, что они довольны жизнью, и никому расстраиваться из-за них не нужно. А другие – и их было большинство, притворялись только в том, что было к их выгоде и удобному существованию. Первым, кто показал мне свой актерский талант, был Султан Ильясович Мухамбетов, новый начальник милиции. Этот вечно всем улыбающийся почти приторной улыбкой человек, сразу стремительно сощуривал глаза в спину уходящему собеседнику. И тогда на дне этих красивых восточных глаз рождалось что-то страшное и сильное. Как будто Мухамбетов одновременно испытывал самые черные человеческие чувства: и зависть, и злобу, и жажду мщения. Мне казалось, что я одна знаю – на самом деле Султан Ильясович совсем не тот, за кого он себя выдает. Мухамбетов, заметив мое пристальное к нему внимание, с недавних пор стал осторожничать при мне, почти не гася свою льстивую улыбку. Его кривые ноги, смешно упакованные в извечные мягкие кожаные сапожки, почти всегда следовали за моей матерью. Он, единственный из всех мужчин, умел целовать женщинам руки, но когда его губы касались тонкого запястья моей мамы, он не торопился отрываться от него. Мне казалось, что только я замечаю его влюбленность, но иногда досадливый жест выдавал мою мать, и вслед за этим она торопилась ласково улыбнуться Султану Ильясовичу, боясь обидеть его. Мухамбетовов был холост, и мне трудно было представить рядом с ним хоть какую-нибудь женщину. Тем более, такую красивую и такую любимую своим мужем, какой была моя мать.
Моя мать работала в областной больнице в должности совершенно рядовой – она была акушеркой родильного отделения. Я любила приходить к ней на работу, хотя дальше приемного покоя меня никогда не пускали. Лицо у мамы на работе было совсем другое, непохожее на домашнее. Оно казалось и старше и, одновременно, прекраснее. Ее изумительные карие глаза как будто видели гораздо больше, чем все окружающие. Там она никогда не досадовала на меня и не повышала голоса. Да и семейное имя мое не позволяло искажать его для строгих нотаций. Как вы думаете, можно ли отредактировать в суровую сторону имя Лёлька? При виде матери я всегда бросалась к ней навстречу, вдыхая привычный запах больницы и чудный аромат родного тела.
Мы шли домой, держа друг друга за руки, и все оглядывались нам в след. Конечно, все оглядывались вслед моей матери, но часть внимания и восхищения доставалась и мне.
Мать никогда не кичилась ни своей внешностью, ни высоким отцовским положением. Все знакомые сами стали называть ее за добрый и ласковый нрав Любашей Петровной. Мама сначала стеснительно улыбалась, но потом привыкла, и иногда представляясь новым знакомым ставшим привычным для всех именем. Отец, крупный и красивый мужчина, своим похожим на орла профилем возвышался над матерью, зорко оберегая ее от чужих взглядов. Он был страшно ревнив, но, сознавая это опасное и несправедливое для матери чувство, сдерживал его изо всех сил. Он настаивал, чтобы мама уволилась с работы и сидела дома, с нами, а, может, родила бы еще одного ребенка. Мама смеялась и говорила:
– Радов, дай мне передохнуть! Да и девчонки скоро по очереди начнут выходить замуж и рожать тебе внуков, – она прижималась к отцу, заглядывая ему в глаза. Он крепко обнимал ее, сдерживая силу своих рук. В глазах его рядом со счастливым блеском всегда проглядывала тревога за любимую женщину и за нас, трех разноликих его дочерей.
Вообще, нам не часто случалось проводить вечера, да и выходные, с отцом. Его «Промстрой» постоянно расширялся, требуя от него все больше сил и времени. Отстроившаяся после войны страна набирала мощные обороты, ей нужны были новые металлургические предприятия и, следовательно, работа моего отца. Каким человеком был мой отец? Наверное, замечательным. Я никогда не забуду ту бесконечно длинную и широкую вереницу людей, заполнивших главный проспект нашего города, которая молча и скорбно шла за гробом моего отца. Слово «осиротели» было самым частым из всех произносимых в тот день не только рядом с моей семьей, но и среди людей, нам совершенно незнакомых. В тот день сломались не только судьбы детей Кузьмы Сергеевича Радова, но и многих его соратников, подчиненных и даже жителей беззащитного отныне города. Уже через десяток лет красивая и бесконечно широкая Ульба окрасилась калейдоскопом мертвых сточных вод из многочисленных металлургических предприятий, кислотные дожди впервые пролились именно над нашим городом, и смерть от доныне неизвестных и оттого еще более страшных болезней, казалось, навеки поселилась в нашей долине. Я часто становилась свидетелем горьких заявлений, что «Сергеич бы не подписал, Радов бы не допустил, после Кузьмы Сергеевича все пошло прахом». Меня и радовали эти добрые слова об отце, и пугали своей тоской и грядущим ухудшением жизни нашего города. Уже через пятнадцать лет после смерти отца моим землякам среди самых первых стали выплачивать так называемые «гробовые», но разве этими деньгами можно было окупить и помельчавшую Ульбу, несущую свои грязные воды в чистый полноводный Иртыш, и нездоровье детей, уродливо лысеющих от ядовитых дождей?
Но пока еще отец был жив, и наша жизнь казалась нам незыблемо определенной, а мать была счастливой и спокойной женщиной.
* * *
Николенька Модин обещал стать замечательным художником. Не он сам, естественно, высказывал это пророчество, обещание это давали его многочисленные пейзажи и натюрморты. Он был средним среди сыновей Модных и, как на всякого среднего ребенка, на него приходилось наименьшее количество и заботы и внимательного родительского догляда. Николенька рос как будто сам по себе, он никогда не расставался со своими карандашами и красками, обращаясь к родителям только тогда, когда что-нибудь из его художественных принадлежностей заканчивалось. Но однажды его пейзажи среди прочих были отобраны для Московской выставки работ юных дарований. И уже через две недели к Модиным приехал важный бородатый дядька, который на долгие два часа заперся вместе с Николенькой в его отдельной комнате в мансарде большого модинского дома. Он вышел оттуда с просветленным лицом и сверкающими от счастья глазами. Он долго жал на прощанье руку Ивана Андреевича, а Евдокии Дмитриевне целовал руки и благодарил за рождение второго Левитана. Заручившись обещанием привезти Николеньку после окончания школы в Москву, он уехал, так и не стерев с лица счастливую улыбку. После этого к Николеньке стали относиться, как к дорогому хрустальному бокалу. Он совсем не рад был такому повышенному вниманию, стесняясь вслух высказываемым пророчествам о грядущей славе фамилии Модиных.
В тот год, через две недели после майских праздников, наша семья, как и другие общие знакомые, получили приглашение от Султана Ильясовича приехать к нему в летний дом на роскошный казахский бешбармак. Загородный дом его стоял в красивой расщелине недалеко от шумного ледяного водопада. Чистейшие струи его отчаянно падали с большой высоты. Прежде чем устремиться к Иртышу, горная река отдыхала в низовье водопада, образуя небольшое озеро, окаймленное фантастически красивыми искристыми камнями. Вода в озере была ледяная, больше минуты в ней высидеть было невозможно. Но мы, едва отогревшись, вновь и вновь прыгали в прозрачную пузырчатую пену, пытаясь проплыть хотя бы несколько метров.
На солнечном склоне ютился небольшой сарайчик в окружении двух десятков улей. Женщины, одетые в модные тогда льняные сарафаны с юбками «солнцеклеш», почти все в широкополых соломенных шляпах, расстилали на мягкой молодой траве яркие плюшевые скатерти, целую стопку которых вынес из дома Мухамбетов. Большой казан, как в гнезде сидящий в просторной летней печи, уже издавал аромат вкусного мяса. Рядом, в большой кастрюле варились в крепком мясном бульоне крупные лепестки нежнейшего теста. Старая казашка, то ли дальняя родственница, то ли прислуга Мухамбетова, резала тонкими кольцами огромный сладкий лук. Наконец, все расселись, привычно сложив под собой ноги калачиком. Достархан расцвел ранней зеленью и разноцветными пиалами с бульоном. В самый центр его поставили, наконец, огромное блюдо с горой мяса. Султан Ильясович стал одаривать гостей, по казахскому обычаю, кусками мяса, которые делились в строго иерархическом порядке. Я помню только, что самый большой кусок от бараньей или конской головы доставался всегда отцу. Он первый принимал его из рук Мухамбетова и что-то шутя говорил ему по-казахски. Потом уже одаривались остальные мужчины, которые, как мне казалось, с большим бы удовольствием съели какой-нибудь вполне обычный и привычный для русского вкуса кусок мяса. После мужского дележа женщинам и детям разрешалось брать, кто что хочет, и застолье продолжалось до самого заката.
Детям быстро надоедали долгие «взрослые» беседы родителей, и мы разбегались кто куда. Здесь, в предгорьях Алтая, нам предоставлялась такая свобода, которую мы потом долго не могли забыть в городе. Мы носились по откосам, как молодые архары и с визгом барахтались в ледяном озере. Самые отчаянные забирались на высокий выступ и ныряли в глубокую воронку в самом центре падения воды. И только один наш Николенька, опьяненный красотой гор и свежей зеленью листвы, торопился остановить в своих набросках весенний просыпающийся Алтай. Молодые кедры, рискнувшие спуститься в долину, как будто манили нас подняться повыше и спрятаться от жарких лучей солнца.
Отвергнув в очередной раз Санькино предложение стать его официальной невестой, я натянула старенькие потертые сандалии и решила отправиться в недалекое путешествие по окрестностям одна. Обидевшись на ехидный и немногословный отказ, мой верный друг ушел к водопаду, а я выпросила у Николеньки его ковбойскую шляпу и стала карабкаться по довольно крутому склону к ближайшему кедрачу. Солнечный свет и многоголосый шум отдалились в одно мгновенье, едва молодая крона деревьев сомкнулись над моей головой. Казалось, время остановилось, и я осталась под широкими ветвями кедров одна, как будто вокруг на сто верст не было ни души. Только пробное в этом году стрекотанье кузнечиков нарушало почти стерильную тишину, да еще время от времени раздавался дробный звук далекого дятла. Густая молодая трава, пряча шум моих шагов, удобно пружинила, не давая моим сандалиям соскальзывать по наклонной поверхности. Я уходила все дальше: сначала выше по склону, а потом вдоль высохшего русла весеннего ручья. Постепенно старые кедры пришли на смену молодым, кроны поднялись выше, но взамен их тени появилась тень от густого кустарника. Он маскировал многочисленные уступы в скалах, цепляясь жадными корнями за малейшие наносы почвы. Иногда каменистая осыпь прерывала удобную тропинку, добавляя на моих коленках ссадин и царапин. Я стала карабкаться еще выше, чтобы взглянуть на долину и дом Мухамбетова сверху. Острый выступ на скале, как балкон, предлагал постоять на себе и почувствовать себя выше, чем можно чувствовать себя в детстве. К этому балкону пришлось добираться в обход. Но когда я встала на его почти идеально ровную поверхность, я почувствовала себя счастливой. Расщелина, расширяясь к западной части долины, одновременно скатывалась вниз, даря картину, от которой даже мой неопытный взор был не в силах оторваться. Солнце золотило верхушки кедров, узкая речушка, рожденная нашим водопадом, извилистым серебром устремлялась вниз, к далекому и невидимому отсюда Иртышу. Воздух был так чист прозрачен, что видны были совсем далекие вершины, покрытые белоснежными вечными снегами. Огромное пушистое облако, зацепившееся за острую, как веретено, верхушку, готово было тонкой нитью пуха сорваться в полет в любую минуту. Нет, я не могла любоваться этой красотой одна, но и с Сашкой мириться мне тоже не хотелось. Только один Николенька достоин был сидеть здесь, рядом со мной, и рисовать эту сказочную картину. Я стала пробираться назад, к путеводному пересохшему руслу, но сандалии подвели меня, и я кубарем покатилась вниз, не успевая цепляться за многочисленные кустики земляники и дикой смородины. Мне повезло, что на моем пути почти не было камней, иначе бы я не отделалась только царапинами на ладонях и содранными локтями. Падение мое было остановлено на маленькой площадочке, обсаженной как оградой каким-то густым кустарником. В глубине этой площадки, прямо под моим балкончиком, зияло почти идеально круглое отверстие. Оттуда тянуло сухим сеном и мягкой прохладой. Я была бы не я, если б не захотела проникнуть внутрь. Но дневной свет уже через несколько шагов перестал освещать мой путь, я нерешительно постояла, потом присела и стала пробираться в глубь на ощупь. Через несколько метров пещера стала уходить вниз, стены уже излучали холод и влагу. Звонкая капель, рождаясь где-то в глубине скалы, становилась все ближе. Внезапно мне показалось, что впереди раздался шорох, я вдруг вспомнила о многочисленных змеях, гнездившихся в холодных и влажных пещерах, и повернула назад. Но я и не думала отказаться от затеи исследовать таинственную пещеру, мне просто нужен был помощник или хотя бы фонарик. Я знала, что если попрошу фонарик у взрослых, то они увяжутся следом за мной, значит, необходимо найти что-нибудь, что могло бы его заменить. Решив на следующий день помириться с Сашкой и, заодно, взять его в путешествие по таинственной пещере, я стала спускаться вниз. Уже через полчаса я вышла на поляну, где сидел Николенька. Только сейчас я заметила, что потеряла его ковбойскую шляпу. Наверное, она осталась недалеко от входа в пещеру. Я подумала, что завтра найду ее и отдам Николеньке, все равно мы пойдем туда с Санькой. «Так и быть, покажу ему сегодня вид с балкона, чтобы не сердился за шляпу», – с этой успокаивающей мыслью я помчалась к Николеньке. Он выслушал мой восторженный рассказ об удивительном виде на долину, и через десять минут мы уже карабкались обратно к тому самому козырьку, который просто создан был для работы художника. Николенька, как завороженный, распахнул глаза и все смотрел и смотрел на простирающуюся долину, на дальние леса в предзакатной дымке и, казалось, боялся вздохнуть. Я поняла, что он застрял здесь надолго. По крайней мере, до самой темноты.
– Ты иди, Лелька, иди. Я поработаю пока, – рука Николеньки поднялась и замерла на мгновенье, прежде чем начать блаженную и сладостную работу. Я махнула ему рукой, но он уже не видел меня.
В озере уже купались взрослые, а Саньки нигде не было видно. Одна Александра сидела на камне, примагничивая взглядом Аркашино внимание. Аркадий, томно прикрывая глаза, нежился на мягкой траве, потом он подошел к Александре, коротко сказал ей что-то, и они пошли в сторону водопада.
Мама сердито выговорила мне за долгое отсутствие и отослала спать в просторную палатку, которую к тому времени уже разбили рядом с домом.
Спали допоздна, пока солнце и голод окончательно не разбудили всех гостей. Мама воткнула в мой сонный кулачок зубную щетку и тюбик с пастой и отправила умываться к водопаду. Я медленно шла, стараясь сохранить последние мгновенья сладостной утренней дремы, но глаза щурились от уже высокого солнца. Я чувствовала себя бесконечно счастливой и бесконечно беззаботной. Я улыбалась на ходу и совсем не чувствовала, что через миг закончится и моя беззаботность и мое детство…!
В нескольких шагах впереди меня шла моя средняя сестра, тихоня Зиночка. Она, по-видимому, плохо чувствовала себя в эти дни, впервые познакомившись с женскими недомоганиями. Я молча сочувствовала ей, с любопытством разглядывая ее изменившуюся фигуру. С грустью, опустив глаза на свою плоскую девчачью грудь, я медленно переставляла ноги и едва не споткнулась о тело своей сестры, внезапно комом упавшее на траву у самого края водопадного озерца. Я растерялась и уже готова была звать на помощь. Но то, что я увидела, повергло меня в такой шок, что губы мои второй раз в жизни не смогли разомкнуться и позвать на помощь: у самого начала русла бурливой реки, вытекающей из каменного лона озера, почти обнимая широко раскинутыми руками два выступающих из воды валуна, плавало мертвое тело Николеньки. То, что оно было мертвым, я поняла сразу, хотя до сих пор не видела ни одного покойника. Лицо Николеньки, выстуженное ледяной горной водой, стало белоснежным, а бледно лиловые губы носили следы мучительной гримасы, как будто Николенька сопротивлялся в последнем усилии сделать что-то для своего спасения. Неподвижные глаза, широко распахнутые навстречу солнцу, отражали и зеленую кайму нашей долины, и плывущее в далеком небе легкое кучерявое облако. Не знаю, сколько я стояла, скованная ужасом первого свидетельства смерти, и только низкий, ужасающий своей болью крик, вывел меня из оцепенения. Я знала, что этот голос принадлежит тете Дуне, но боялась заглянуть в её лицо больше, чем в мертвое лицо Николеньки.
Дальнейшие события превратились в какой-то жуткий калейдоскоп криков и беготни. Зиночкин мучительный стон, плачь женщин, встревоженные голоса мужчин. Отец вместе с Султаном Ильясовичем подплыли к Николеньке, подхватили тело юноши подмышки, и через пару минут он уже лежал на молодой майской траве, все так же раскинув в стороны свои застывшие руки. То, что Николенька сорвался с камня, не думая купаться, было ясно по его одежде. На нем были даже кеды, зашнурованные с присущей ему аккуратностью. Но вот оторванные на рубашке пуговицы и свисающий клок нагрудного кармана, который мой отец разгладил на Николенькиной груди, сразу навели меня на мысль, что Николенька погиб от чьих-то жестоких рук. Взрослые отнесли Николеньку в тень сарая, положили его на бархатную скатерть, и лицо его скрылось под мягкой тканью. Мужчины молча курили в ожидании машин, не решаясь отходить от тела, женщины ушли в дом, и там установилась страшная тишина.
Отец, отведя Мухамбетова в сторону, что-то горячо говорил ему. Султан Ильясович, бледный и растерянный, отвечал ему, от волнения смешивая русские и казахские слова. Я расслышала только несколько слов, которые Мухамбетов почти крикнул в лицо моему отцу:
– Никто здесь ночью не бродил, и ко мне никто не приходил. Мальчишка сам свалился в воду, да кому он нужен, Радов?! – отец собрал в кулак рубаху на груди Мухамбетова и почти поднял его кривоногое тело над землей. Он стоял ко мне спиной, и я не слышала его слов, но по растекшейся по щекам и плоскому лбу Султана Ильясовича желтизне, по его растерянному и испуганному взгляду, я поняла, что отец чем-то здорово напугал нашего начальника милиции. И только потом я увидела в руке Мухамбетова Николенькину шляпу, которую сама и потеряла вчера возле маленькой пещерки. Послышался гул, и машины, появившиеся из-за западного склона, заставили отца поставить Мухамбетова на землю. Тот сразу же пришел в себя, заправил под ремень свою рубашку, поправил пятерней черные густые волосы и почти бегом направился к сараю, в тени которого еще лежало тело Николеньки. Я подбежала к отцу, чтобы спросить его о Николенькиной шляпе, которая неожиданно очутилась здесь, вдали от того места, где я вчера ее потеряла. Но отец, устало погладив меня по голове теплой тяжелой рукой, сказал:
– Погоди, Лёлька, не до тебя сейчас, видишь, беда какая, – он таким же жестом, как и Мухамбетов, провел по своим темно-русым волосам и решительно направился в сторону Николенькиного тела. Там, присев возле изголовья юноши, сидел дядя Петя Кукушкин. Он что-то внимательно рассматривал на правом виске Николеньки, откинув в сторону его волнистые и уже просохшее волосы. Отец присел рядом, и они тихо стали о чем-то говорить. Потом дядя Петя откинул в сторону скатерть, укрывавшую тело Николеньки, и показал отцу скрюченные пальцы правой руки, ногти которых были обломаны так сильно, что под ногтями, несмотря на ледяную воду, в которой нашли тело юноши, были лиловые разводы кровоподтеков. Мухамбетов, неслышно возникнув за моей спиной, почти застонал, когда дядя Петя взял в свою большую руку тонкую изуродованную кисть Николеньки. Все оглянулись на этот мучительный приглушенный звук, но Султан Ильясович, круто развернувшись, ушел в сторону машин.
Я не помню, чтобы я плакала в тот день. Помню неподвижность своих мыслей, которые способны были только откладывать в памяти все события, слова, взгляды, но все это оставалось как-то в стороне от привычных моих поисков правых и виноватых. Слишком неожиданным и сильным был удар, который нанесла судьба семье Модиных и всем нам. Всё вокруг как будто в один миг изменилось, приобрело более четкие и, одновременно, более мрачные очертания. Я, как деревянная, сидела на солнцепеке, мне уже некуда и незачем было идти. После обеда пришла большая темная машина, которая увезла, наконец, мертвое тело Николеньки. Затем детей вместе с женщинами усадили в машины и отправили в город. Мужчины остались там, где погиб Николенька, радом с ними собралось несколько человек в милицейских погонах, но мне не удалось больше услышать ни одного слова, которое бы заинтересовало меня в те минуты. Отец вернулся домой затемно, непривычно громко хлопнув дверью. Он закрылся с матерью в своем кабинете и долго о чем-то говорил с ней. Я уснула, так и не дождавшись привычного поцелуя на ночь, а утром отца уже не было дома: он выехал ночью к месту аварии на очистных сооружениях титаномагниевого комбината. Я не знала, с кем мне делиться сомнениям о смерти Николеньки: мама с утра уехала к тете Дуне, оставив нас с Зиночкой на Александру, а отец даже ни разу не позвонил, как он обычно делал, если не видел нас с утра. Даже верный друг Сашка сейчас был от меня дальше, чем еще день назад. Я решила молчать до поры, сохранив в памяти и страх в глазах Мухамбетова после каких-то слов отца, и Николенькину шляпу в его руке.
После похорон, на которых мы стояли возле мамы, держась за её руки и прижимаясь к теплому и надежному её боку, боясь и больше всего желая оторвать глаза от выбеленного лица Николеньки, мы не стали долго задерживаться у Модиных. Зиночка, дважды теряя сознание, совсем расстроила родителей. Они были напуганы ее внезапным нездоровьем. На все расспросы Зиночка тихо плакала, потом, свернувшись тугим клубочком, ненадолго засыпала, даже во сне поскуливая, как брошенный маленький щеночек. Рядом с ней неотлучно находилась молчаливая, как никогда, Александра.
Прошло два дня после похорон, и ко мне приехал Санька. Он больше не признавался мне в любви, растерянно блуждая своими выпуклыми серыми глазами, не останавливаясь ни на чем. Мама вздыхала, гладя Саньку по светлому ежику волос, а он инстинктивно прижимался к ее груди, пряча от меня слезы.
Вечером к нам неожиданно приехал дядя Петя Кукушкин. Перед этим я рассказала, наконец, отцу, где и как я потеряла Николенькину ковбойскую шляпу. Отец заставил меня подробно повторить рассказ еще раз, потом велел никому больше об этом не говорить и выпроводил меня из кабинета. Уже закрывая дверь, я услышала, как он говорил по телефону с Кукушкиным:
– Завтра все расскажу, будут тебе и доказательства, и свидетель. Правда, несовершеннолетний. Завтра, все завтра. Будь здоров, – отец повесил трубку и стал мерить кабинет шагами. Я стояла возле едва прикрытой двери, вместе с ним мысленно анализируя все события того дня, когда погиб Николенька. Если только дня…. Мне почему-то казалось, что Сашкин брат погиб не днем, когда проснувшиеся взрослые стали будить нас, детвору, а ранним утром, когда только такой сумасшедший романтик, каким был Николенька, мог встать, чтобы увидеть первый луч солнца или еще какую-нибудь художественную прекрасность. Перед моим внутренним взором вдруг возникла поляна вокруг мухамбетовского дома, многочисленные гости того злополучного дня, но что-то не давало мне покоя, заставляя вновь и вновь прокручивать последовательность всех перемещений взрослых и детей. Стоп! Кого-то не хватало в тот день, когда мы с Зиночкой нашли мертвого Николеньку…! Конечно! Я, наконец, поняла, что ни утром, ни днем перед отъездом не видела старую казашку, которая накануне помогала Мухамбетову принимать гостей. Не могла же она куда-нибудь уехать, оставив на гостей гору немытой посуды. Да и кормить нас нужно было еще целый день, до следующего утра, когда машины должны были приехать за всеми нами. Если Николенька, борясь за свою жизнь, смог оставить следы от своих ногтей, то это вполне могло быть лицо той самой старухи! Только зачем ей было убивать его? Причина могла быть только одна: Николенька увидел что-то, чего видеть не должен был! Я даже радостно крутанулась на одной ноге, готовая рассказать отцу о своих наблюдениях. Но раздался звонок в дверь, и вскоре мама ввела в гостиную моего любимого дядю Петю. Он непривычно не заметил меня, на ходу пожимая отцу протянутую руку. Я обиженно спряталась за шторой, украшающей дверь в кабинет отца. То, что я услышала, заставило мою кожу покрыться мурашками страха: