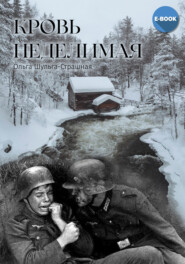По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Лабиринты времен
Год написания книги
2016
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Игорь крепился, хоть по родной стороне и скучал, а жена его, совсем еще молоденькая, слез не лила. Давно ей пора было замуж выходить, чуть не состарилась под отцовским доглядом; еще бы год – и уже семнадцать, а там кто перестарку замуж возьмет? Но молодое дело – быстрое. Сладились – слюбились. И сразу не страшно стало молодой жене. Так же, как когда-то свекровь, держалась поначалу за мужнину рубаху. Подержалась, подержалась да некогда стало. Бабьих-то дел в избе, поди ж, переделай-тка! А страхи… Страхи были только, когда рожать пора было – оно, конечно, страшновато поначалу. Да еще когда лиходеи наскакивали. А осаждали они крепостцу не единожды. Даже имени того народа, на суетливых мохноногих лошадках, Игорь никогда не слыхивал. Но – выстояли, отбились. Хотя и своего народу положили немало. А тут и весть из родной стороны: собирал Киевский князь всех воевод земли русской. Собирал на совет. Мнилось Ярославу, что не крепостями сильна Русь, а воеводским племенем. И сыновей после его смертушки вразумить да поддержать в трудную годину кто сможет? То-то: воеводы да воеводины дети. По тем временам многие бояре были на службе у князей. Все мыслили себя воеводами, да не каждому по чести это было, да по уму, да по характеру. Вот так и замыслил Ярослав объединить мысли и долги воеводские перед ним… да нет, неправильно сказано, – перед Русью. Объединить самых сильных да умных, чтобы сами вместе держались, чтобы как нить канатная сплетался каждый воеводский род, держа в связке всех защитников и опорников земной власти на Руси. А если дело благое получится, значит – Та Власть, Верхняя, за них, за дело их правое.
Воеводы съехались к началу лета. Все съехались, кого позвал. Были и молодые, задиристые, были усыпанные серебром седины, а были совсем как лунь – выбеленные годами и ратным трудом. И говорил с ними Киевский князь всю вечернюю зарю да всю ночь. Говорил о Руси, об обычаях дедов и прадедов. Говорил о том, что так богата земля русская, что века и века будет дразнить это ворогов и заставлять завидовать русскому народу. И чернить будут этот народ, чтобы собственный стыд да совесть свою залеплять обзывными словами, что, дескать, недостойны русичи богатства такого. Ленивы да глупы, да зачем им столько, распоряжаться, де, не умеют. Надо, де, их учить, как жить да как богатство тратить. И власти будущей не мог угадать даже премудрый Ярослав. Власть власти рознь. Времена уйдут, князья уйдут, все переменится. Только русская земля останется на века такой, какой она сейчас у каждого пред глазами в пути-дороги пролегла. И сохранять эту землю вместе с ее людьми да богатствами щедрыми надлежит племени воеводскому. И еще сказал Ярослав:
– И должны вы семя свое сберегать да не распылять. И связь через времена сохранять. Книжники чтобы ваши вели родовую нить, родовую честь. И чтобы потомки ваши через века могли заглянуть и в нашу глубь. Кто от своих корней далеко не уходит, крепче на земле держится. А не сбережете Русь… Нет, такое даже помыслить не могу! Божий мы народ, и Господь наш Спаситель в веках поможет оградить нам Русь и с Запада, и с Востока. Но было мне, воеводы, видение большое да страшное: открылось мне, что самая главная и противная нам сила еще не народилась. А будет она таиться и наливаться злом против Руси далеко от наших краев. Великое противостояние грядет на нашу землю. И ничего мы не можем сделать для наших потомков, кроме оставления им памяти да крепости духа. А ведь виделось мне и то, что никто, кроме русичей, не сможет устоять против власти той темной да хитрой. Власти, что поперед Божьей воли захочет бежать. Но виделось мне, братия, и то, что внуки наши далекие осилят и эту беду. Виделось мне однажды, что смог я заглянуть в те времена далекие. И видел я, что жива Русь, и жив русский народ. И потомки наши живы, хотя многие из них не удержали нить рода, упустили, рассеялись… Так подмогнем же, воеводы, далеким нашим сынам созданием крепкого Братства и единства нашего! Будем начеку стоять на страже Руси нашей светлой, чтобы знала она только одну волю – Господа нашего!
Ярослав говорил долго, не позволяя перебивать себя ни словом, ни вздохом. Но и воеводы, слушая князя, каждый видел за собой тот клочок малой родины, что обязан был оберегать от напасти. И гордился, что причислен к великому племени воеводскому. Молодые радовались, что принадлежат теперь к Братству сильному и тайному, а старшие все больше горбились под гнетом ответственности. Ответ-то держать перед нерожденным народом ой как строже да тяжельше, чем перед тем, который по улицам ходит. Ходит такой привычный: хлеб жует, медовуху пьет, баб забижает али любит, детишек родит, стариков хоронит, на торгу горло дерет да в церкви поклоны бьет. Вроде обычный народ. А тот, что после них будет, какой он родится? Страшно все это и весело. Ой, как весело…
Задумывались мужики, а Ярослав все говорил и говорил… Потом подозвал к себе своего друга, забеленного уже сединой не меньшей, чем Киевский князь.
– Вот вам первый князь Ярый. Слушайтесь его. Он вам строгий отец. И заботный. Меня не станет, он вам вместо меня указы давать будет. А его не станет, новый Ярый у вас будет. Ваш Совет Братства его и изберет. И никто над вами больше не стоит. Только Бог, а до него – господин князь Ярый. Власть мирская меняться будет, а ваша – никогда. Сами решайте, кого поддерживать, кого осаждать. Одна у вас задача на века – беречь Русь от ворога и от глупого правленья. Не теряйте свою нить. Нельзя вам теряться. Ни во времени, ни в краях наших просторных. А чтобы сила у вас была не только в Божьем, но и в земном, надлежит учредить казну особую. Для затрат на Братство Своих. Чтобы у потомков ваших черного дня не наступило. И для того назначаю князя Обережного, который за казну головой и честию отвечать будет. И первым Обережным воеводой будет… – Ярослав обвел глазами всех собравшихся и неожиданно произнес, тыкая сухим пальцем в юного сына друга своего: – Воевода Игорь. Отныне он – первый князь Обережнов. И власть, и ответ за казну будет передаваться по его родовой нити. Тяжкий труд, но верю, что всё вынесете и исполните.
Все замолчали, обдумывая столь долгую княжью речь. И каждый взвешивал: а стоит ли столько трудов и столько сил тратить на будущие времена, на не рожденных сопливых мальцов и девок? И всех своих сыновей и внуков своих до немыслимого колена обрекать на тяжкий ратный труд? Но вспоминалась всем земля родная и ответ за нее, о котором не каждый-то день и задумывалось… Да, стоит! И вслед своим расчетливым думам, задиристо – мысли о ворогах: а не замай на наш каравай! Знал, знал Ярослав, чем распалить да утвердить в своих задумках мужиков.
И под утреннюю зорьку, под едва слышные петушиные всполошные крики поклялись полета воевод клятвою нерушимой верности Руси, клятвой молчания и сохранения тайны единства и подчинения, обета сохранять семя свое, не распыляя, и научая сыновей своих и внуков. И целовали на том крест святой да Первую книгу Братства Своих, собранную меж золотых листов. Книгу еще чистую, отмеченную едино их именами. И каждый гордо целовал золотой оклад, который будет века хранить их целовальную запись.
– Потрудимся, братия! А там – как Господь даст. В путь и – с Богом!
И странно было Игорю обниматься с отцом и знать, что он теперь не просто отец – князь Ярый. А сам Игорь теперь – князь Обережнов. А братья-то как же… ах да, они по-прежнему все восьмеро – Пересветы. И знал Игорь, догадывался, что неспроста рассчитывал Киевский князь на молодую поросль. И грамоту знали почти все молодые дружинники да воеводские дети, и молодого задора не жалели для нового дела. Кто ж не захочет оставить свой след для далеких потомков? Чай, в Книгах-то родовых их по именам величать будут. И все твои подвиги не забудут перечесть. Вот уж стыдно будет в поле спину ворогу показывать! Книжники ведь пощады не дадут – распишут так, что красной макушкой стыда покроются еще не названные и не задуманные никем внуки… Знал, знал Великий князь, чем взять молодую воеводину поросль…
Ехал Игорь домой, думы думал да земли русские рассматривал как никогда раньше. А в висках стучало: Обережнов он теперь. И казалось ему, что не только тайную казну собирать да оберегать ему доверили, а весь этот широкий да светлый простор. От края и до края! И такая гордость и радость подымалась в его груди! Ох ты, мать честная, а ведь не случайно и не на пустое дело он, видать, родился! Ах как весело, ах как славно-то жить на белом свете!
* * *
Минул год, минуло еще два, а по воеводину терему Пересветов бегали уже два одинаковых, как грибы-боровички, мальца. Оба чернявые да черноглазые – в мать, в Елену, – по крещеному имени. А третий, богатырского сложения белокурый малец, уже пробовал сам на ножки вставать да за братьями топать. И видела мать, что сильно мужнино семя: одного роста со старшими был Димитрий, год-два пройдет, поборет, пожалуй, боровичков-то.
А Игорь сам смеется, да каждую ночку все ласкается да ласкается… Давай-де, мать, еще зачнем, смотри, мол, каки славные мужики у нас замешиваются. Можа, еще тройку-другую наделаем, пока снег за оконцем? А то и девок маненько, тожа ведь люди. Рожать-то кто будет-ча?
Смеялась Елена. Смеялась да к мужу ластилась. Ой и короток век бабий, ой успеть надот-ка нарожать заботников да защитников. А и доченьку тоже хотца. Таку беленьку да синеглазеньку, как ее муж.
Годы шли, а девоньки все не было и не было, уже и старшие боровички обучены письму да ратному делу, и младший – осьмой – уже от сиськи отвыкает. Можа, в последний разок чёй-то другое родится? Вздыхает уже Елена, а схватки-то так уж больно толкаются! Так уж замучили, сердешные… Елена уже и не ойкает и не плачет, сама повитуху-то позвала, и сама сказала девкам баньку-то истопить. Как жа! Там не каждое дитя зачинается, да каждое родится.
Отстонала Елена, откричала осторожно так… Стыдно сильно-то кричать – ведь не молода уже, чай, двадцать осемь, какие ужо тут крики-та! Вот уж и головка маленька показалася. Беленька кака! А волосики-то каки длинные, так и вьются по мокрой спинке. Вот и последнее усилие, и – выскользнул из утробы дитенок, да чей-то не кричит.
Елена испуганно смотрит на повитуху, а та знать – улыбается. Пуповину-то ловко так перевязала, обрезала и дает Елене скользкое да теплое тельце. Волосенки-то у ребеночка уже просохли, золотыми кольцами блестят, на глаза налезли. Елена-то отодвинула волосы, а под ними… глаза открыты, да таки бездонны, таки…! Показалось Елене, что из другого мира кто-то на нее глянул. Да так хорошо и ласково глянул, что зашлось в любви ее сердце, и прижала она ребенка к груди, как самое драгоценное да самое разлюбимое. И забыла посмотреть, что там – под мягким розовым животиком? А там девонька – вот что! И девонькино лоно новое. И подарит оно своему будущему мужу, воеводе Новгородскому, Алексею Севрюкову, по пять сыновей да по пять дочерей. А сейчас забыла, видать, плакать-то. Знай, сосет свой кулачок да таращит на свет Божьи глаза.
А будущий ее суженый уже уздечку в кулачке своем зажал да пяточками в бока коня тыкает, строжится: «Тпру!» да «Тпру!». Шапочка соболья на бровки наползла, мешает свет белый видеть. Пар валит из ноздрей коня, снег искрится, скрипит. Мороз тоже строжится, заставляет рукавицы до самых локотков натянуть. А нянька-то, нянька! Приседает от страха на крылечке: упаси Господь, свалится княжич, покалечится дитятко. А дядька при маленьком воеводе Алексее посмеивается, коня под уздцы все шибче и шибче ведет. Эх, хорошо! Эх, весело на родимой стороне жить!
2002 год
Сергей долго не мог уснуть. Дед, так неожиданно возникший в его жизни, занял много места и в мыслях, и в душе. Эх, отца бы сейчас сюда! Он бы помог разобраться, разложить все по полочкам. Да где он сейчас, его отец-молчун? Наверное, впервые в жизни Сергей почувствовал себя частью чего-то могучего и единого. И только малой частицы этого крепкого круга не хватало – отца. Сергей ворочался на своей узкой лежанке, не замечая ни сбившегося одеяла, ни смятой в маленький комок подушки. Уже и свет за окном забрезжил, а он все смаргивал ресницами набегающие ночные мысли. Ох, как интересно. Как интересно да как радостно-то! Сергей чувствовал себя гордым и счастливым, как будто только сейчас осознав, что не просто так на земле он рожден, что прежде его рождения была уже задача и для него, малого зернышка большого воеводского племени! Ах как весело-то жить на белом свете!
Солнце, блеснув приветным лучом, вдруг смогло бесшумно открыть дверь. Ан нет, там чья-то рука показалась, почти невидимая в утреннем золотом свете.
– Батя! – Сергей подскочил и повис на шее отца. – Как же так, батя, я ведь только о тебе сейчас и думал, а тут – ты. Чудеса!
Владимир Ярославич обнимал сына за широкие и все равно еще такие мальчишечьи плечи. Он тосковал по тем годам, когда маленький Сережа жил вместе с ними, и видеть, обнимать его можно было по сто раз на дню. А теперь! Что – теперь? Сын мужает, у него началась своя собственная жизнь, подчиненная уже не родителям, а, как и у него самого, и у всех его предков, князю Ярому. А хорошего молодца вырастили они с Василисой, будет чем погордиться перед новым Ярым!
– А мама? – Сергей как будто угадал мысли отца о матери. Надо сказать, это свое семейное наследное качество все Пересветовы знали. Их интуиция, почти чувственное чтение чужих мыслей поражали даже близких. Владимир Ярославич знакомым с детства движением взъерошил волосы на голове сына:
– Мама? А маму новый Ярый вызвал… – Он и сам удивился, почему первой позвали Василису. Ведь «Витязя» доработал и уберег он. И это он один может работать с ним. Он и Ирочка. Правда, опыт был всего один. Но удачный опыт. А то, что после него голова побелела… Что ж, от того, что он увидел, голова побелела бы даже у Сергея! Хотя, молодежь такая сейчас… ничем их не удивишь.
Сергей смотрел в глаза отцу и понимал: тот еще не знает, что новый Ярый – отец матери. И почему-то решил ничего не говорить. Да, сдержанность всегда оправдывается. Негоже мужчине торопиться и с суждениями, и со словами. А он уже мужчина!
На тихий стук в дверь они обернулись разом, повторив какое-то одно им присущее движение головой. Знакомый старик коротко поклонился и пригласил их за собой. И длинный путь они прошли так же молча, как вчера прошел один Сергей. Только на этот раз в самом извилистом изгибе лабиринта навстречу им попался книжник. Видимо, Ярый закончил утреннюю работу над летописью, которая вот уже одиннадцатое столетие непрерывно велась за этими толстыми стенами. Только трижды прерывалось писание: в первый раз едва успели укрыться от монгольских войск, нежданно набежавших на их отдаленные северные края. Так и сидели книжники в подземелье, замурованные вместе с книгами, целых пять месяцев. Второй раз – в девятнадцатом году прошедшего столетия, когда только одни книги замуровали на долгие десять лет, а казалось – на века. И в третий раз, когда немцы в сорок втором спалили все деревянные постройки, но найти лабиринт так и не смогли. Но что-то они знали о монастыре, что-то знали…
Да, последнее столетие ой как отличалось от предыдущих. И если б в хорошую сторону… Владимир Ярославич шел по давно нехоженым коридорам, его плечи привычно не помещались в нескольких узких местах. И он так же привычно бочился, почти протискиваясь все дальше и дальше, к той заветной келье, за дверью которой вершилась судьба каждого воеводы и, может быть, России.
Дверь отворилась на звук их шагов, и кто-то басистый, оборвавший речь на полуслове, ждал их там, за низкой дверью. И сердце у Владимира Ярославича почему-то подскочило высоко к горлу. Уже склоняясь в привычном поклоне, он увидел носки туфелек жены, а рядом – босые ступни, с наслаждением распластавшиеся по домотканому половичку. И сердце догадливо откликнулось:
– Неужели?! – На него действительно смотрели глаза, виденные им только однажды – на маленькой фотографии, хранимой только здесь, за высокими стенами.
Мужчины молча обнялись, как будто не раз виделись раньше, и судьба просто надолго разлучила их дружбу и их родство. Им не нужно было ничего объяснять, они знали друг о друге пусть и не все, да главное.
Владимир Ярославич отстранился, с гордостью протягивая руку в направлении сына. Ярый рассмеялся и обхватил правой рукой внука:
– Что, не проговорился отцу? Удержал язык? Молодца! – Он с силой, необычной для такого старика, обнимал зятя и внука, а Василиса прижалась лбом к его спине и только молча всхлипывала, выплакивая свою детскую, а потом и взрослую тоску по отцу.
– Вы простите меня, родные, что встречу пришлось здесь вот, за стенами… – Ярый явно не находил слов. – Но нельзя нам пока на людях. Я ведь умер для всех давно. И здесь теперь новый человек, незнакомый никому. Вот, два месяца бороду растил, и не знал, что так долго… – Он вдруг смутился и сказал: – Вы еще немного потерпите… Соня, Сонечка сейчас…
А в ответ тихий и спокойный голос:
– Я уже пришла, Иван. Здесь я, с тобой. – Софья Михайловна стояла, белее беленых стен. И яркие глаза ее были сухи. Видно было, что им сначала не позволяли плакать, а потом они просто отвыкли. И больше не смогут, наверное, никогда…
Иван Львович тихо и покорно опустился перед женой на колени и вложил свою голову в ее протянутые ладони:
– Прости, Софьюшка, прости любая… – А голова уже упиралась в женину грудь, потому что Софья Михайловна опускалась на колени рядом с мужем, и ростом была почти вровень с ним.
Василиса отвернулась к окну и плакала и за мать, и за отца. Она бы уже и вышла, чтобы не мешать их встрече, но отсюда, она знала, без разрешения не выходят…
Слезами, как и сказками, гостей не кормят. Прошло немного времени, и вся семья сидела позади резной перегородки, уместившись за простым столом с крепкой, но, видимо, очень старой кедровой столешницей. Прислуживал все тот же старик, который всегда казался безучастным, но сейчас даже его глаза плескали радость и сочувствие.
Угощение было по обычаю простым и сытным: отварная молодая говядина, рассыпчатый картофель, квашеная капуста прошлогоднего уже засола, парниковые огурцы и маленькие беломорские селедки. Запивали все старым яблочным квасом. За столом была тишина. Хватало чувств и взглядов. И если б мысли могли звучать, то над столом стоял бы сплошной серебряный перезвон.
– Только бабушки с дедом не хватает… и Мити, – неожиданно произнес Сергей и тут же смутился. Имя брата старались произносить как можно реже, чтобы не ранить мать. Все носили тоску по нему глубоко в сердце. И каждый надеялся, что увидится с ним еще в этой, земной жизни… И Василиса надеялась. Надеялась, но всегда помнила судьбу своей матери.
– Увидеть его хотя бы на минутку… Каким он стал? – Василиса вздохнула. Владимир Ярославич погладил ее руку, устало лежавшую на столешнице.
– Ну, с Ярославом мы сегодня увидимся. Летит уже. А вот Митю… – Иван Львович внимательно осмотрел всех своих родных, поднялся и принес кассету. Обычную кассету к видеомагнитофону. На яркой этикетке – «made in USA». Тут же была включена, наверное, приготовленная заранее, маленькая видеодвойка. Щелчок, и на весь экран – океан. И близко – два маленьких черноволосых близнеца, плещутся, смеются. Потом, испугавшись неожиданно высокой набежавшей волны, отбегают. Навстречу – чьи-то протянутые руки. Как спасенье… Смех, и, наконец, в кадре – Митины глаза. Он обнимает малышей, поддаваясь им в смешной борьбе. Но мальчики хотят утвердиться в победе и шлепаются мокрыми, испачканными в песке телами на широкую грудь Мити. Грудь отца. И вдруг за кадром чужой голос:
– Майкл, Майкл! – Митя оглядывается на камеру, смеется и машет кому-то рукой. И его английская речь… она безупречна, его понимают все сидящие за столом. Но это – чужая речь, чужой язык.
Темнота экрана настигла, как гранитная плита. Все растерянно смотрели друг на друга, потрясенные нечаянной встречей с далеким сыном и братом.
– Плохо одно… плохо – дети Митины на чужбине растут! – Ярый, полыхая глазами, сцепил пальцы рук. – Это слишком большая жертва. И мы не можем позволить её себе.
Он поднялся и прошелся по длинному половичку туда и обратно, и опять – туда и обратно. Внезапно остановился и рубанул воздух рукой:
– Дети должны расти в России! – Он не спрашивал, он просто рассуждал вслух. Все молчали.