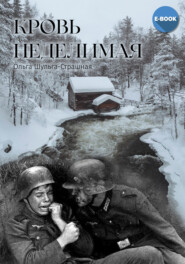По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Лабиринты времен
Год написания книги
2016
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И, как в битве с Бегичем, вся лавина Орды, вылившись из-за холма, на миг остановилась. Огромным орлом раскинулось на поле Куликовом сверкающее воинство русичей. Тяжелые, шитые золотыми крестами знамена колыхались на слабом ветерке. Золоченые шеломы воевод и князей сверкали островками то тут, то там… Непривычно страшно и зябко стало многим татарам и наймитным воинам, как будто предчувствие смерти пробежало между лопатками и ударило ледяной стрелой в затылок. Но у каждого еще теплилась жадная мысль о добыче и надежда, что только сосед справа и слева, спереди и сзади падет от жгучей стрелы, и не твоё плечо развалится от сверкающего меча. И каждый народ молился при этом своему богу. Но Спас, Животворный и Верный Спас был только у русичей. И этим был определен исход битвы и исход истории.
Многозычный рев русских труб смешивался с криками мамаевых воинов. Привыкшие задолго до битвы пугать врага своими голосами, ордынцы и сейчас привычно раздирали рты в диких криках, устрашающих едва ли не более чем их нескончаемое – до горизонта – войско.
Две лавины стали медленно сближаться, мощными плотными рядами надвигаясь друг на друга и мечтая раздавить и навеки смять ворогов. Но внезапно и трубы и крики смолкли: могучий, как молодой бык, Челубей, – Мамаев любимчик и гордец, – выехал на своем немыслимо огромном коне. Его безволосая грудь, прикрытая звенящей кольчугой, дыбилась под ней, без страха показывая себя русским мечам и копьям. Подхватив у кого-то на ходу длинное копье, он проехал перед застывшим строем русичей, гневно вращая черными, как сама ночь, глазами. И столько злобы и презрения к врагу исторгалось из тех глазниц, что, казалось, смерть от них могла настичь любого, слабого духом. И слова, дерзко и презрительно бросаемые Челубеем русскому воинству, вызывали на смертный бой любого, кто посчитает свои силы равными его, Челубеевым силам. На страшные мгновенья, как тяжелые капли стекавшие сквозь лабиринты времен, замерло все войско московское. Не страшно умереть вместе со всеми на поле битвы, но страшно пасть первым. Однако недаром говорят, что на миру и смерть красна. Да что – красна! Не за смертью должен был идти воин навстречу Челубею. Не за смертью, но за победою! Не должны были ордынцы осилить русичей в этом поединке. Иначе падет дух воинский еще до начала сечи. И в тишине, как уже на мертвом поле, вдруг зацокали копыта тяжелого коня. Сергиевский инок, охранник и защитник старца, Александр Пересвет подъехал к Димитрию и с поклоном попросил:
– Дозволь, княже, мне поднять против ворога копье. Спаситель поможет мне одолеть его силу и вдохнуть дух победный в наше воинство. Есть на то для меня благословение отца Сергия.
Димитрий, глянув на распахнутый ворот простой рубахи, увидел грудь, такую же могутную, как и Челубеевскую, и увидел, что разнятся эти два богатыря только оберегами: на Челубее – кольчуга, сотканная умелыми ордынскими кузнецами, а на Александре Пересвете – большой нательный крест:
– Не забоишься смерти-то?
– Смерти-то? – озорно ответил Александр. – А от смерти я, княже, отрекаюсь!
– С Господом! – воскликнул князь.
Инок обернулся, ища глазами своего молочного брата – Ивана Рокота, тот в поддержку брату лишь слегка шевельнул могучими плечами.
– Эгей, братушко, пособишь, ежели что?
– Пособлю, – басовито прогудел Рокот, наверное, и прозвание своё получивший за зычный голос.
И узкая щель между войсками превратилась в арену. Замерли воины с одной и с другой стороны, на миг забыв сверлить друг друга грозными очами. Каждый видел только тех двоих, которые должны были показать противнику силу свою и вознести силу духа своего войска. И высились эти всадники, видимые далеко вокруг. И все знали и чувствовали, что вот сейчас будет знак свыше. Знак, чей верх будет в этой страшной сече. И разошлись в разные стороны всадники, а потом, застыв на мгновенье, как смерчи понесли друг ко другу. И грудь Челубея, высоко вздыбившаяся вместе с красивой и крепкой кольчугой, разорвалась под острием русского копья. И хруст костей его слышен был далеко, а алая струя крови, фонтаном брызнувшая и вперед и в стороны на воинов, была той первой кровью, которой суждено было сегодня досыта напоить донские земли. Но только на миг дрогнула Челубеева рука, и уже мертвый, вдохновленный только ненавистью и презрением к никчемному лапотному народу, он, что есть силы, вонзил свое копье в открытую грудь Пересвета. Челубей не увидел и не успел осознать ни своей смерти, ни раны своего противника. Упав с коня, он скоро оказался растоптанным почти без следа на земле русской, отдав ей всю свою кровь и плоть, которая без остатка впиталась в чернозем, чтобы еще долгие века кормить добрым русским хлебушком русских же добрых мальцов и девчонок. А Пересвет, подхваченный руками брата своего, Рокота, и единоверцев своих, с единым прозванием на все века – Христовы, был отнесен далеко назад, за плотный строй одноземельцев своих. Еще долгий час умирал Пересвет, слушая страшные звуки битвы. И рядом с ним стоял на коленях Рокот, закрывая последние минуты жизни своего молочного брата. Закрывая от неосторожных копыт, от яростного движения битвы. И знал Пересвет, что все войско русское надеется и верит, что он остался жив, и что жизнь его послужит залогом грядущей победы. И он очень старался не умереть, и в какой-то миг ему даже почудилось, как он несется вихрем в далекую и незнакомую ему жизнь. Но это действительно была она, его жизнь, которую он должен был прожить, и которая обещала ему все сразу: и любовь, и детей, и счастье, и гордость за землю русскую, сбереженную и его каплей страданий.
И уже не слышал Пересвет, как лава на лаву вскинулись воины, сминая на своем пути все живое, давя и рассекая теплую плоть, вминая копыта в мягкие незащищенные животы упавших и пеших. Трава, устав впитывать густую кровь, слипалась и истекала темными ручейками, соединявшимися в кипящие ручьи, падавшие затем с крутых берегов в Дон. Крик и ор стоял такой, что душу захлестывал ужас. Чужая боль чувствовалась как своя – так много было этой боли, и так мала была надежда остаться в живых. Скоро кони уже не могли передвигаться, скользя копытами по окровавленным кучам тел и ранясь о торчащие осколки костей да о мечи, накрепко зажатые в мертвых уже руках. Русичи дрались с отчаянием последней надежды, зная, что иначе не выживет на Руси никто – ни малый ребенок, ни древняя старуха, ни красивая молодка, ни нищий на паперти. За всех за них билась дружина, выставляя щитом живые тела свои. И ханское войско, движимое одной только жаждой наживы, жаждой власти над чужими жизнями и чужим добром, остановилось в какой-то миг, остановилось… и жизнь дала каждому последнюю возможность взвесить цену этой своей жажды и понять, что выше и жарче жажды жизни нет ничего. Нет и, может статься, больше не будет. Не будет, если не повернуть назад и не скрыться от светлых взглядов русичей. И этот миг, в котором, кажется, замерли даже птицы в небе, дано было уловить Ярому. И кинул он всю свою конницу в самую гущу битвы. И ярости их не было предела, каждый из воинов уложил вокруг себя вдесятеро и вдесятеро больше ворогов, чем простые, необученные ратному делу мужики. Но это была их доля, их работа, их долг. И многие из них полегли в той битве, не успев увидеть, как дрогнувшая конница Мамая откатила и понеслась по холмам, обтекая и тот взгорок, где стоял сам хан, недоуменно и гневно смотря на крупы коней своих воинов. И только некоторое время спустя, увидев развевающееся знамя русичей, вскинулся Мамай на коня и помчался вослед своей коннице. А испуганные кони, завертясь в окружении русских войск, ринулись с берега в Непрядву. И опять кипела над головами ворогов чистая вода, принимая их жизни, смывая даже след их, как будто и не было их никогда. Но число ордынцев было так велико, что и Непрядва захлебнулась и стала выплевывать чужие тела наверх, выстилая ими дорогу на другой берег. И последним, кто должен был проскакать по самой страшной из всех дорог, был Мамай. Но он все еще не верил, что это все, конец, что надежды на победу нет. И конь его, чувствуя неуверенность седока, не стлался, чтобы уйти от погони. И настиг меч Ярого Мамаеву круглую голову и ссек ее с плеч. И в пылу битвы даже не успел осознать, что скатилась сейчас в бурую воду последняя голова некогда непобедимой Орды.
Но битва еще продолжалась, и было еще много врагов, злоба которых захлестнула их желание выжить. Захлестнула так же, как вода русской реки захлестнула отрубленную голову их хана. И был страшный миг, когда Ярый остался один на один с тремя всадниками, которые смертельным хороводом кружились вокруг князя, пытаясь достать его своими сверкающими мечами. Солнце отблескивало от стали, мешая Ярому. Наконец он смог извернуться и отсечь руку самому юркому, брызгавшему в лицо князя вонючей слюной вместе с непонятными злобными криками. Второй всадник, искрутившись вокруг князя на своем черном, как ворон, коне, вдруг застыл на миг, оскалив молодые и крепкие зубы, и упал на гриву коня, подставив закатному солнцу узкую спину с высоко торчащей между лопатками стрелой. И совсем уж облегченно передохнул Ярый, мысля отбиться от последнего ворога, но страшная боль, разрывая тело и разрубая кости от плеча, красным светом застила ему глаза. Ярый знал, что он почти мертв, и больше всего на свете ему хотелось видеть сейчас на прощанье глаза жены и детей, а не этот страшный и яркий красный свет. Он моргнул глазами, голова его зашумела, как от доброго меда, и внезапно Ярый смог оглянуться и упредить удар кривой сабли, занесенной над его плечом. Он рассек ворога надвое, как никогда радуясь наручной тяжести своего меча. Воевода отдышался и приготовился принять свой смертный час. Но тело его не болело и слушалось, как будто и не было ни боли, ни хруста костей, ни горячего тока крови под кольчугой. Ярый глянул себе на плечо и с удивлением увидел разрубленную до пояса кольчугу, под которой ровным рассеченным лоскутом алела окровавленная домотканая рубаха. Но тело… тело под ней было розовым и целым. Князь почти с отчаяние и страхом дотронулся до собственной груди, и ладонь его окрасилась свежей кровью. И крови этой было так много, так много! Но Ярый уже знал, что он жив, что тело его цело, и что с ним случилось чудо. Он растерянно огляделся вокруг себя и услышал, как кто-то позвал его издалека:
– Воевода, княже! – слова дробились и проникали под шлем. И Ярый понял, что всё – одолели!
Поле битвы было покрыто низким и розовым от крови туманом. Густая эта кровь, последний раз пузырясь, вытекала из страшных ран и испарялась, возносясь к небу. И только Сам Спаситель мог разобрать, чья кровь пролилась во славу Его, а чья должна была черным ручьем просочиться в землю и растаять там без следа. И слабые крики, и громкие стоны разносились по полю, прося последнего прощения у Господа и еще жаждая помощи от своих земных собратьев. И Ярый, скользя блестевшими от крови сапогами, ходил по полю, окликая родными именами погибших. И некоторые из них отзывались – кто в надежде исцелиться, а кто в надежде последнего прощения. И каждому Ярый находил слова утешения и гордости за свершенный ратный подвиг. Он всех утешал мыслью, что Спас, благословивший их тайное Братство, примет их с любовью, исцелит и телесные раны, и душевные.
И никак не мог забыть Ярый тот миг, когда кто-то побудил его в разгаре битвы оглянуться и отбить смертельный удар чужого меча. Как будто упредив его, кто-то внутри воскликнул: «Оглянись!». И так это было страшно и сверхъестественно, что Ярый не сразу решился рассказывать об этом. И спасение его было не единственным чудом, случившимся в день Куликовской битвы. Много свидетельств делали потом христианские воины, спасенные и от меча ворога и от жгучей его стрелы. Все восхваляли Господа и Его руку, спасительно вознесенную над Своими детьми. А тем, кому выпали судьбы лечь в этой битве, было подарено прощение и всё, что Иисус обещал, придя на землю. И не знал Ярый, что он был единственным, кого коснулось не небесное чудо, но рукотворное, земное спасение. А за каждый излом судьбы, свершенный не по воле Господней, следовала целая цепь новых поворотов, которым было суждено обратить вспять вмешательство по воле только человечьей. И иногда на это уходило много лет и даже столетий…
Долгие земные лета позволено было прожить Ярому, ему довелось пережить даже многих своих внуков. И каждым он мог гордиться, каждому дана была полная чаша воинского умения и полноты души. И не дано было узнать Ярому только одной горькой правды: из всех его далеких потомков выжили только те, кто был рожден от первых двух детей, зачатых еще до Куликовского сражения. А остальные, рожденные после… Всем им суждено было погибнуть в далекие от жизни Ярого годы. Погибнуть и унести с собой многие семена чужих родов, связавших свои судьбы с рожденными не по воле Божьей потомками Бобрина Юрия.
Но Бог сжалился – не дал узнать этой горькой правды ни самому Юрию, ни Владимиру Ярославичу.
2003 год
– Я хотел рассказать про кошку.
Брови у Ярого поползли вверх.
– Про кого? – Князь с трудом выкроил время для встречи с зятем и теперь, услышав слово «кошка», едва не рассмеялся. Хотя события, стремительно развивающиеся со дня последнего Совета Братства, вызывали мало радости.
– Иван Львович, вы помните кадры, когда Баська вернулась из прошлого?
– Да, конечно. Хотя, я думаю, больше всех это наша Ирочка запомнила.
Владимир Ярославич постарался не обращать внимания на иронию, прозвучавшую в голосе тестя.
– Понимаете, Баська всегда была добрейшим существом, ее практически невозможно было вывести из себя. И то, как она себя повела, натолкнуло меня на мысль, что не только Баська путешествовала во времени, но и тот ее предок, в канале которого она застряла. Конечно, сыграло значение и то, что ее освободили от пут раньше, чем выключили тумблер. Но видно было, что это не Баськино сознание руководило ею в эти секунды.
Владимир Ярославич в волнении поднялся и стал ходить взад и вперед по кабинету Ярого. Он энергично жестикулировал руками и так же энергично рассуждал. Казалось, он говорит сам с собой, и видно было, что выводы, к которым вели его рассуждения, были не только смелы, но и неожиданны для него самого.
– Я уверен, происходит не только путешествие во времени, но и обмен сознаниями. Я понял, что невозможно в одной личности, даже если эта личность – маленькое животное, удерживаться вдвоем. Поэтому, пока наша кошка охотилась в диких лесах, ее пращур и напал на Ирочку! – Пересветов остановился напротив князя и дрожащим от волнения голосом продолжил: – Я хорошо помню тот миг, когда меня рассекли надвое там, в той, не моей, жизни. И сейчас я думаю, что сознание моего прапрадеда несколько мгновений было в моем теле. Он никак, в отличие от кошки, не проявил себя здесь только потому, что в те секунды умирал. Вы помните, Иван Львович, посмертное выражение на моем лице? Ведь это было его выражение, не мое.
Владимир Ярославич устало сел на стул и с силой сжал кисти рук. Он волновался, потому что знал – скажет сейчас вещь невероятную и почти фантастическую:
– Я уверен, что мы можем говорить со своими предками здесь и сейчас, на какое-то время меняясь с ними сознанием. Конечно, при этом там, в далеких веках, мы не должны предпринимать сколь-нибудь энергичных поступков, чтобы не навредить ни себе, ни им.
– Да, ты удивил меня, Володя… Признаюсь, эта мысль занимала и меня! – Теперь уже князь мерил энергичными шагами свой кабинет. – И больше всего при этом меня тревожил факт невмешательства в события. Мне до сих пор не дает покоя то, что ты своею волею помог выжить своему предку в тот миг, когда, может быть, ему предначертано было умереть. Хотя, кто знает… Теперь мы, наверное, не узнаем истины никогда. Но самое удивительное – это то, что твой «Витязь», работа которого основана на биологических принципах генной памяти, точь в точь повторяет обмен сознания с помощью нейропульсара. И обмен этот осуществляется с совершенно посторонними людьми, но только с живущими в нашем времени. Ты об этом знаешь?
Владимир Ярославич кивнул головой:
– Знаю. Но нейропульсар – это же просто средство связи. И электроника, с помощью которой производится обмен сознаниями, может когда-нибудь подвести. Я бы никогда не согласился на такой обмен во второй раз. Вот так из-за какого-нибудь сбоя в компьютере располовинишься в ком-нибудь… Часть сознания – здесь, а часть – в его теле. И ты тоже – ни там и ни сям. Нет, это жутко.
– Да? А застрять в теле далекого предка – это не жутко? – Ярый был явно разочарован. Видимо, у него были свои планы на этот счет. – Ну что ж, Владимир Ярославич, давай поговорим о твоем «Витязе».
Еще два часа Ярый и Пересветов обсуждали возможность путешествия по лабиринтам генной памяти. И даже наметили первого кандидата для встречи. Конечно, им хотелось, чтобы это был воевода Ярослав Пересвет, – первый Ярый.
– Хорошо бы научиться сразу попадать именно в то время, которое планируешь. И в том возрасте… – Владимир Ярославич вдруг рассмеялся. – А то окажешься в нужном сознании в тот миг, когда сидишь на детском горшке или получаешь подзатыльник от учителя. Или еще хуже… хотя… – Видно было, что Пересветов и сам смутился от своих мыслей. – В общем, как мне показалось, нужно четко держать в сознании ту дату, которую ты выбрал во времени. И тогда сознание не пропустит ни пращура, ни момент остановки. Ведь попал же я дважды в один и тот же промежуток времени? И еще! Необходимо учитывать, что путешествие может ответвиться на сознание по женской линии. Об этом тоже нужно помнить… – Он опять улыбнулся. – Господи, как же все это интересно!
– Вот-вот. На последнем Совете Братства как раз и говорили о возможности превращения путешествия с помощью твоего «Витязя» в аттракцион! – Ярый недовольно смотрел на зятя. – Ты развеселился, как мальчишка.
Владимир сразу посуровел, боясь неосторожным словом разгневать своего высокоставленного тестя.
– Ладно, на сегодня закончим наш разговор. Я должен переговорить о твоих выводах с некоторыми из членов Совета. А пока – будешь готовить к путешествию Сергея.
– Сергея? Почему Сергея? А я?
– А ты, Володя, нужен мне здесь. Здесь, а не в прошлых веках. И работа тебе предстоит серьезная и опасная.
– Нейропульсар?
Ярый кивнул головой:
– Нейропульсар. Очень меня, Володя, тревожит один человек. Сердцем чувствую: он опасен не только для нас, но и для нынешнего президента. И задание это настолько опасно, что я не могу поручить его никому, кроме своих близких. Ты знаешь наш закон: свои сыновья во всем – первые. А ты мне как сын.
Он обнял зятя и слегка подтолкнул его к дверям.
– Иди, я позову.
Пересветов надел фуражку и, отдав честь, как будто Ярый был в форме офицера Российской Армии, вышел из кабинета.
Ярый остался один и с тревогой поднял глаза на портрет нынешнего президента. Ему вдруг вспомнились слова его любимого писателя Анатолия Рыбакова: страну подвел к пропасти Горбачев, а уронил – Ельцин. И всегда, вглядываясь в серьезное и даже суровое лицо молодого президента, Ярый мысленно спрашивал его: «Вытянешь Россию? Выдержишь? Не поддашься? Выдержи, парень, а мы подмогаем!». Интуиция подсказывала Ивану Львовичу, что он может доверять президенту, что этот человек – без двойного дна. И крепостью духа он похож на многих Своих. И недаром президент делал не раз и не два попытки связаться с их Братством. Уже то, что он знал об их существовании, говорило о многом. Видимо, его источники тоже имели свои корни и свои большие возможности.
– А решать все-таки нужно! – Ярый произнес эти слова вслух, как будто утверждая себя в мысли, что он должен встретиться с президентом один на один, без присутствия каких-либо сторонних наблюдателей. Итак, он должен сделать немыслимое. Еще каких-нибудь десять-пятнадцать лет назад об этом и речи не могло быть.