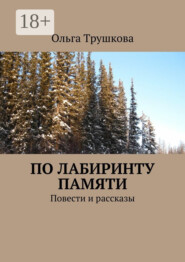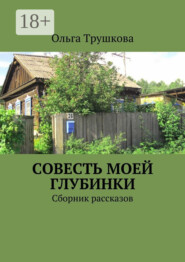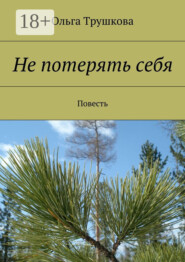По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
В плену у одиночества. Сборник рассказов
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Завершив субботние хлопоты выпечкой плюшек и хлеба, подруги отправятся смывать с себя грехи недельные, а Фёдор поедет на своей «Лайбе-копейке» в соседнее село за продуктами. Село недалеко, всего в семи километрах, дорога всегда хорошая – «чёрные» лесорубы постоянно мимо их домов ездят, утрамбовывают.
Потом и он пойдёт мыться-париться. «Девкам» -то пар вреден, потому как у одной – радикулит, а у другой – давление. Они только моются.
После бани – корпоративчик, коллективное чаепитие с домашней выпечкой и вареньем. Чай у них настоян на мяте и кипрее, невероятно вкусен и ароматен. Магазинскую заварку они считают вредной пылью.
– Ох, и мастерица же ты, Танька, плюшки печь! – зажмурившись от удовольствия, басит Фёдор.
Татьяна бросает на Петровну торжествующий взгляд.
– А мой хлеб чего не хвалишь? – встрепенулась Петровна. – Или он после Танькиных плюшек нехорош стал?
И обиженно пробурчала:
– Кстати, не забудь свою буханку забрать.
– Валька, не бузи, твой хлеб хоть сейчас на выставку. Сама ведь знаешь, – примирил подруг «секс-символ». – Дай-ка, лучше Колькину гитару.
Николай, муж Петровны, умер одиннадцать лет назад, через пять лет после того, как Игорька, сына их единственного, в цинковом гробу привезли из Чечни. Не смог он смириться с этим, тосковал-тосковал, да и зачах. Так и лежат они теперь рядышком.
Фёдор проверяет настрой, подтягивает чуть ослабевшую третью струну, потом бьёт «восьмёркой» по всем семи и запевает:
Журавли улетели, журавли улетели,
Опустели, умолкли и затихли поля.
Лишь оставила стая им среди бурь и метелей
Одного с перебитым крылом журавля.
Татьяна вытирает набежавшую слезу. Она вспоминает своего Сергея, вспоминает, как эту песню он, Николай и Фёдор пели втроём под аккомпанемент двух гитар. Сергей не умел играть на этом инструменте. Он вообще ни на чём не играл. Он только пел.
А теперь вот их половинки ушли на тот свет, дети разъехались и остались в забытой людьми и Богом деревушке только три человека: она, Валюха да Фёдька.
Петровна, облокотившись о край стола, тоже вспоминает то время, когда они были молоды и дружили семьями. Сына вспоминает. Мужа.
***
Хорошо, что Таньку в город не увезли, хорошо, что Федька тоже здесь остался, размышляла Петровна, проводив друзей.
Да и что им в городе делать, если для него они – обыкновенные старики? Кто их там молодыми-то знавал? Как нас отделить друг от дружки, ведь мы же за семьдесят лет почти срослись? И потом, если дети да внуки сами к ним летом наведываются, тогда за каким лешим Таньке и Федьке куда-то уезжать? Им и здесь хорошо.
Электричество есть? Есть. Сотовая связь – тоже. А телевизор столько каналов показывает, что и дня не хватит, все перещёлкать. Даже интернет работает лучше, чем в соседнем селе. Федька ноутбук купил, сказал, что будет на сайте знакомств женихов своим «девкам» подыскивать…
Вспомнив про ноутбук, Петровна улыбнулась, но тут же сдвинула брови, увидев на столе забытый Фёдором свежеиспечённый хлеб.
«Вот пень старый, голова, как дуршлаг. Ладно, завтра занесу, когда пойдём с Танькой к нему в лото играть. Заодно наказ дам дрожжей купить, а то всё из памяти вылетает. С хлебом-то в руках про дрожжи, поди, не забуду…»
Ты уж прости…
Она сняла со сковородки последний блинчик, сложила треугольником и накрыла им стакан с киселём. Стакан поставила в центр стола. Так она делает каждое утро тридцать первого июля. Сегодняшнее не было исключением, просто оно по счёту стало уже шестнадцатым. Сегодня её Ильичу исполнился бы шестьдесят один год. Не исполнится. Ильич навсегда останется сорокапятилетним. Он умер в марте пятнадцать лет назад.
В марте она делает то же самое, только в центр стола ставит два одинаково накрытых блинчиками стакана с киселём. Второй – это поминовение её прошлой жизни, вторым она поминает себя, прежнюю. Всё правильно, потому что после похорон возвратилась в опустевший дом с такой же опустевшей душой и остывшим сердцем. В ней постоянно звучит какой-то голос. Это её голос, подсознательный… обреченный:
Я прежних песен больше не спою,
Как дождь в песок, мои уходят силы.
Осталась я на зыбком на краю
Для мужа свежевырытой могилы…
Только вот оставаться на том зыбком краю она не имела права, как не имела права и силы свои бездумно расходовать: на её руках оставался одиннадцатилетний сын, у которого кроме матери и старшей сестры никого не было. Но дочь-студентка была далеко, ей и своих проблем хватало, так что горе страшной потери переживали порознь: дочь – в большом городе, они – в глухой деревеньке.
***
Говорят, время лечит. Нет, время только притупляет боль, примиряет с утратой. Она тоже примирилась.
Дочь вышла замуж и навещает мать теперь уже с мужем. Правда, очень редко. Мать не обижается. Раньше, правда, как-то горько становилось, когда видела, как приезжают дети её знакомых – часто… и не на два-три дня.
Но это было раньше. Теперь уже нет, не горько. Привыкла, наверное, или потому что сама почти никуда не ходит и не видит чужой радости. Затворницей стала. Среди людей своё одиночество ещё острее чувствует, хотя для всех окружающих она по-прежнему общительный человек, любящий хорошую музыку и классическую литературу, незлобивую шутку и острое словцо, уверенная в себе самодостаточная женщина. Незачем им, окружающим-то, знать, что это всё не так, что всё это – только оболочка, а она, настоящая, так и «осталась… на зыбком на краю…»
Справилась, одолела все беды. Сына на ноги поставила. Выучила, в Армию проводила, встретила из Армии. Одна. Всё одна. Помощи ждать неокуда – родни у неё в Сибири нет, с этим ничего не поделаешь. У сына тоже родни тогда ещё не было.
Порой охватывало отчаяние: денег нет, опять им, бюджетникам, «заморозили» зарплату; цены растут, как на дрожжах… дефолт… нужны дрова…
Если бы у неё осталась хотя бы та старая бензопила, проблема дров решилась бы куда проще. Купила бы она бензина и спирта, наняла бичей, те и напилили бы, и раскололи, а уж сложить поленницу как-нибудь и сама бы сумела. Да вот только у той пилы неожиданно объявился новый хозяин и забрал её на третий день после похорон Ильича. Ковал, так сказать, железо, пока горячо. Это потом узнает она, что по поверью нельзя ничего отдавать из дома до сорокового дня, а тогда безропотно, не вникая в суть, отдала вещь, столь ей необходимую. Не поняла, что забирают пилу вовсе не для того, чтобы починить или отрегулировать, как она думала – забирают пилу как вещь, ей не принадлежащую.
Может, действительно, принадлежала она тому новому хозяину, а покойному мужу дана была во временное пользование, только почему-то вспомнил хозяин об этом лет этак через пять-шесть и как нельзя кстати. В самое удобное время. Ладно бы чужой кто поступил так, а то ведь…
Эх, люди, люди!
Нет, она его не судит. Бог ему судья! Просто тогда вдруг отчетливо пришло понимание, что родни нет не только у неё, но и у её сына. Во всяком случае, сейчас, когда он «помочи може возжелати».
Не «возжелает»! Она не позволит! Спите спокойно!
Через год вырастила бычка и свинью, сдала мясо заготовителю, и тот привёз ей новую пилу «Урал». На оставшиеся деньги сына в школу обрядила – одет-обут он всегда был не хуже других.
А новая пила «Урал» сколь уж лет в кладовке без дела стоит: сын после службы в Армии купил «Штиль»… маленькую, лёгкую, удобную. Жаль, Ильич не дожил до сегодняшних дней. Жаль, не было в их время этих «Штилей», поэтому приходилось ему по лесу этакую тяжесть на плече таскать, «Урал» или «Дружбу».
Выживали тогда они с сыном исключительно за счет хозяйства. Держали корову, свиней и овец. Телёнка продадут – сена купят. Двух свиней сдадут – в школу соберутся. Только вот для того, чтобы сдать-продать телёнка и свиней, их целый год кормить-поить надо.
Правда, питались они с сыном, нормально: молоко, творог, сметана – своё, картошка, капуста и прочая огородная мелочь – тоже не из магазина. Хлеб она сама стряпала. Можно было, конечно, излишки молочного и продавать, только торговать она не умела. Вышла как-то на рынок со сметаной и творогом, присмотрелась, как торговки покупателей зазывают, произнесла сдавленным голосом: «Кому творожок? Кому сметанка?» – и сразу же рот ладонью зажала. Оглядываться начала – не услышал бы кто из знакомых.
Картошку, правда, продавала. Оптом. По самой низкой цене. А всё остальное: свёклу, морковь, капусту и ту же самую молОчку – раздавала соседям за просто так. Даром. Брали охотно, даже зазывать не нужно было.
Зимой она пряла овечью шерсть, вязала детям и себе носки, варежки и свитера, получалось дёшево и сердито. Вязала и на «бартер» – меняла на комбикорм.
Всё бы ничего, только вот от домашней работы продыху не знали ни она сама, ни её малый сын. Да и с деньгами туговато приходилось, не платили ей заработанного.
В двухтысячном стало чуток полегче: начали регулярно выплачивать пенсии, и раз в месяц, когда она их получала (свою, по выслуге лет, и сынову, по потере кормильца), они устраивали пир: покупали колбасу, яйца, жарили яичницу. А иногда могли себе позволить потратиться даже на фрукты, сладости и порошок какао в красивых баночках.
Разведёт она на завтрак этот порошок свежим молоком, сын выпьет его с домашними булочками – сыт до обеда. Очень удобно. В общем, слава Богу, не голодали.
Гораздо большей бедой, нежели хроническое безденежье и тяжелый крестьянский труд, считала она то, что не на кого было её сыну опереться ни в отрочестве, ни в юности. Советчика не было. С матерью-то подросток не поделится тем, чем мог бы поделиться с отцом или с родным дядькой. Мать, она ведь женщина.
Потом и он пойдёт мыться-париться. «Девкам» -то пар вреден, потому как у одной – радикулит, а у другой – давление. Они только моются.
После бани – корпоративчик, коллективное чаепитие с домашней выпечкой и вареньем. Чай у них настоян на мяте и кипрее, невероятно вкусен и ароматен. Магазинскую заварку они считают вредной пылью.
– Ох, и мастерица же ты, Танька, плюшки печь! – зажмурившись от удовольствия, басит Фёдор.
Татьяна бросает на Петровну торжествующий взгляд.
– А мой хлеб чего не хвалишь? – встрепенулась Петровна. – Или он после Танькиных плюшек нехорош стал?
И обиженно пробурчала:
– Кстати, не забудь свою буханку забрать.
– Валька, не бузи, твой хлеб хоть сейчас на выставку. Сама ведь знаешь, – примирил подруг «секс-символ». – Дай-ка, лучше Колькину гитару.
Николай, муж Петровны, умер одиннадцать лет назад, через пять лет после того, как Игорька, сына их единственного, в цинковом гробу привезли из Чечни. Не смог он смириться с этим, тосковал-тосковал, да и зачах. Так и лежат они теперь рядышком.
Фёдор проверяет настрой, подтягивает чуть ослабевшую третью струну, потом бьёт «восьмёркой» по всем семи и запевает:
Журавли улетели, журавли улетели,
Опустели, умолкли и затихли поля.
Лишь оставила стая им среди бурь и метелей
Одного с перебитым крылом журавля.
Татьяна вытирает набежавшую слезу. Она вспоминает своего Сергея, вспоминает, как эту песню он, Николай и Фёдор пели втроём под аккомпанемент двух гитар. Сергей не умел играть на этом инструменте. Он вообще ни на чём не играл. Он только пел.
А теперь вот их половинки ушли на тот свет, дети разъехались и остались в забытой людьми и Богом деревушке только три человека: она, Валюха да Фёдька.
Петровна, облокотившись о край стола, тоже вспоминает то время, когда они были молоды и дружили семьями. Сына вспоминает. Мужа.
***
Хорошо, что Таньку в город не увезли, хорошо, что Федька тоже здесь остался, размышляла Петровна, проводив друзей.
Да и что им в городе делать, если для него они – обыкновенные старики? Кто их там молодыми-то знавал? Как нас отделить друг от дружки, ведь мы же за семьдесят лет почти срослись? И потом, если дети да внуки сами к ним летом наведываются, тогда за каким лешим Таньке и Федьке куда-то уезжать? Им и здесь хорошо.
Электричество есть? Есть. Сотовая связь – тоже. А телевизор столько каналов показывает, что и дня не хватит, все перещёлкать. Даже интернет работает лучше, чем в соседнем селе. Федька ноутбук купил, сказал, что будет на сайте знакомств женихов своим «девкам» подыскивать…
Вспомнив про ноутбук, Петровна улыбнулась, но тут же сдвинула брови, увидев на столе забытый Фёдором свежеиспечённый хлеб.
«Вот пень старый, голова, как дуршлаг. Ладно, завтра занесу, когда пойдём с Танькой к нему в лото играть. Заодно наказ дам дрожжей купить, а то всё из памяти вылетает. С хлебом-то в руках про дрожжи, поди, не забуду…»
Ты уж прости…
Она сняла со сковородки последний блинчик, сложила треугольником и накрыла им стакан с киселём. Стакан поставила в центр стола. Так она делает каждое утро тридцать первого июля. Сегодняшнее не было исключением, просто оно по счёту стало уже шестнадцатым. Сегодня её Ильичу исполнился бы шестьдесят один год. Не исполнится. Ильич навсегда останется сорокапятилетним. Он умер в марте пятнадцать лет назад.
В марте она делает то же самое, только в центр стола ставит два одинаково накрытых блинчиками стакана с киселём. Второй – это поминовение её прошлой жизни, вторым она поминает себя, прежнюю. Всё правильно, потому что после похорон возвратилась в опустевший дом с такой же опустевшей душой и остывшим сердцем. В ней постоянно звучит какой-то голос. Это её голос, подсознательный… обреченный:
Я прежних песен больше не спою,
Как дождь в песок, мои уходят силы.
Осталась я на зыбком на краю
Для мужа свежевырытой могилы…
Только вот оставаться на том зыбком краю она не имела права, как не имела права и силы свои бездумно расходовать: на её руках оставался одиннадцатилетний сын, у которого кроме матери и старшей сестры никого не было. Но дочь-студентка была далеко, ей и своих проблем хватало, так что горе страшной потери переживали порознь: дочь – в большом городе, они – в глухой деревеньке.
***
Говорят, время лечит. Нет, время только притупляет боль, примиряет с утратой. Она тоже примирилась.
Дочь вышла замуж и навещает мать теперь уже с мужем. Правда, очень редко. Мать не обижается. Раньше, правда, как-то горько становилось, когда видела, как приезжают дети её знакомых – часто… и не на два-три дня.
Но это было раньше. Теперь уже нет, не горько. Привыкла, наверное, или потому что сама почти никуда не ходит и не видит чужой радости. Затворницей стала. Среди людей своё одиночество ещё острее чувствует, хотя для всех окружающих она по-прежнему общительный человек, любящий хорошую музыку и классическую литературу, незлобивую шутку и острое словцо, уверенная в себе самодостаточная женщина. Незачем им, окружающим-то, знать, что это всё не так, что всё это – только оболочка, а она, настоящая, так и «осталась… на зыбком на краю…»
Справилась, одолела все беды. Сына на ноги поставила. Выучила, в Армию проводила, встретила из Армии. Одна. Всё одна. Помощи ждать неокуда – родни у неё в Сибири нет, с этим ничего не поделаешь. У сына тоже родни тогда ещё не было.
Порой охватывало отчаяние: денег нет, опять им, бюджетникам, «заморозили» зарплату; цены растут, как на дрожжах… дефолт… нужны дрова…
Если бы у неё осталась хотя бы та старая бензопила, проблема дров решилась бы куда проще. Купила бы она бензина и спирта, наняла бичей, те и напилили бы, и раскололи, а уж сложить поленницу как-нибудь и сама бы сумела. Да вот только у той пилы неожиданно объявился новый хозяин и забрал её на третий день после похорон Ильича. Ковал, так сказать, железо, пока горячо. Это потом узнает она, что по поверью нельзя ничего отдавать из дома до сорокового дня, а тогда безропотно, не вникая в суть, отдала вещь, столь ей необходимую. Не поняла, что забирают пилу вовсе не для того, чтобы починить или отрегулировать, как она думала – забирают пилу как вещь, ей не принадлежащую.
Может, действительно, принадлежала она тому новому хозяину, а покойному мужу дана была во временное пользование, только почему-то вспомнил хозяин об этом лет этак через пять-шесть и как нельзя кстати. В самое удобное время. Ладно бы чужой кто поступил так, а то ведь…
Эх, люди, люди!
Нет, она его не судит. Бог ему судья! Просто тогда вдруг отчетливо пришло понимание, что родни нет не только у неё, но и у её сына. Во всяком случае, сейчас, когда он «помочи може возжелати».
Не «возжелает»! Она не позволит! Спите спокойно!
Через год вырастила бычка и свинью, сдала мясо заготовителю, и тот привёз ей новую пилу «Урал». На оставшиеся деньги сына в школу обрядила – одет-обут он всегда был не хуже других.
А новая пила «Урал» сколь уж лет в кладовке без дела стоит: сын после службы в Армии купил «Штиль»… маленькую, лёгкую, удобную. Жаль, Ильич не дожил до сегодняшних дней. Жаль, не было в их время этих «Штилей», поэтому приходилось ему по лесу этакую тяжесть на плече таскать, «Урал» или «Дружбу».
Выживали тогда они с сыном исключительно за счет хозяйства. Держали корову, свиней и овец. Телёнка продадут – сена купят. Двух свиней сдадут – в школу соберутся. Только вот для того, чтобы сдать-продать телёнка и свиней, их целый год кормить-поить надо.
Правда, питались они с сыном, нормально: молоко, творог, сметана – своё, картошка, капуста и прочая огородная мелочь – тоже не из магазина. Хлеб она сама стряпала. Можно было, конечно, излишки молочного и продавать, только торговать она не умела. Вышла как-то на рынок со сметаной и творогом, присмотрелась, как торговки покупателей зазывают, произнесла сдавленным голосом: «Кому творожок? Кому сметанка?» – и сразу же рот ладонью зажала. Оглядываться начала – не услышал бы кто из знакомых.
Картошку, правда, продавала. Оптом. По самой низкой цене. А всё остальное: свёклу, морковь, капусту и ту же самую молОчку – раздавала соседям за просто так. Даром. Брали охотно, даже зазывать не нужно было.
Зимой она пряла овечью шерсть, вязала детям и себе носки, варежки и свитера, получалось дёшево и сердито. Вязала и на «бартер» – меняла на комбикорм.
Всё бы ничего, только вот от домашней работы продыху не знали ни она сама, ни её малый сын. Да и с деньгами туговато приходилось, не платили ей заработанного.
В двухтысячном стало чуток полегче: начали регулярно выплачивать пенсии, и раз в месяц, когда она их получала (свою, по выслуге лет, и сынову, по потере кормильца), они устраивали пир: покупали колбасу, яйца, жарили яичницу. А иногда могли себе позволить потратиться даже на фрукты, сладости и порошок какао в красивых баночках.
Разведёт она на завтрак этот порошок свежим молоком, сын выпьет его с домашними булочками – сыт до обеда. Очень удобно. В общем, слава Богу, не голодали.
Гораздо большей бедой, нежели хроническое безденежье и тяжелый крестьянский труд, считала она то, что не на кого было её сыну опереться ни в отрочестве, ни в юности. Советчика не было. С матерью-то подросток не поделится тем, чем мог бы поделиться с отцом или с родным дядькой. Мать, она ведь женщина.