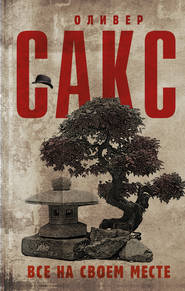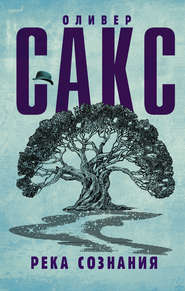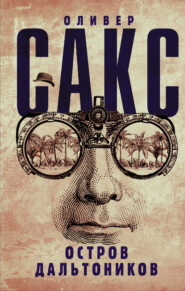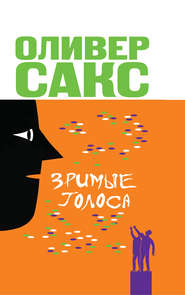По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Антрополог на Марсе
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Я впервые повстречался с Франко Маньяни летом 1988 года в сан-францисском Эксплораториуме[132 - Эксплораториум – музей человеческого восприятия в Сан-Франциско, экспонирующий различного рода диковинки. – Примеч. перев.] на выставке его необычных картин, написанных лишь по памяти. Все пятьдесят выставленных полотен изображали виды Понтито, небольшого тосканского городка, где Маньяни родился и в котором не был более тридцати лет. В тех же залах, где были выставлены картины, демонстрировались и фотографии тех видов Понтито, которые были изображены на полотнах художника. Эти фотографии изготовила Сьюзен Шварценберг, состоявшая в штате музея. Она специально выезжала в Понтито, где фотографировала нужные виды, стараясь всякий раз расположиться в том месте, где мог бы быть установлен мольберт для написания соответствующей картины. К ее сожалению, это было не всегда выполнимо, ибо Маньяни нередко писал картины с некой воображаемой высоты, достигавшей в отдельных случаях, по предположению Сьюзен, пятисот футов. Она старалась изо всех сил, нередко подымая камеру на шесте, и даже подумывала о том, чтобы подняться в воздух на вертолете.
Маньяни считался художником, рисующим лишь по памяти, и достаточно было посетить его выставку, чтобы убедиться в его уникальных способностях: рисовать лишь по памяти с фотографической точностью – правда, только виды Понтито. Казалось, он держит в мыслях трехмерный макет этого городка, который может поворачивать так и сяк и, выбрав привлекательный вид, переносить его на картину с поразительной точностью, что подтверждалось развешанными рядом с картинами фотографиями. Я было решил, что Маньяни – художник-эйдетик[133 - Эйдетик – лицо, обладающее эйдетизмом. Эйдетизм – явление, близкое к яркой образной памяти, заключающееся в сохранении образа предмета долгое время спустя после его исчезновения из поля зрения. – Примеч. перев.], человек, способный сохранять долгое время в памяти образ однажды увиденного предмета, но художник-эйдетик не стал бы ограничивать свое творчество видами одной-единственной местности, пусть и привлекательной для него. Скорее наоборот, художник с такими удивительными способностями постарался бы с выгодой воспользоваться своим необыкновенным талантом и расширил бы, насколько возможно, рамки своего творчества. Маньяни же рисовал только виды Понтито. Это его пристрастие я расценил не только как проявление удивительной памяти, но и как выражение ностальгии, тоски по местам, где он провел детство, а также как проявление компульсивности.
Я познакомился с Франко, и он пригласил меня в гости. Франко жил в небольшом городке в нескольких милях от Сан-Франциско. Его дом я нашел без труда. Перед ним находился садик, огороженный невысокой стеной, напоминавшей стены, обрамлявшие улицы, которые я видел на картинах Маньяни. Перед домом стоял видавший виды автомобиль с номерным знаком «Понтито»[134 - Речь идет о номерном знаке автомобиля, в котором набор цифр и букв за особую плату подобран в соответствии с амбициями владельца автомобиля. – Примеч. перев.]. Рядом находился гараж, превращенный, как я вскоре выяснил, в студию. Увидев меня, Франко вышел из гаража.
Это был высокий стройный мужчина. Хотя ему было за пятьдесят, он выглядел энергичным, подтянутым человеком моложе своего возраста. Он носил очки в роговой оправе, за которыми поблескивали большие внимательные глаза. Волосы его были расчесаны на пробор. Франко пригласил меня в дом. Стены всех комнат были завешаны картинами и рисунками, однако стен не хватало, и работами Франко были забиты все ящики письменного стола и даже платяной шкаф. Дом походил на музей с немалым запасником, и все это собрание живописи было посвящено одной-единственной теме – видам Понтито.
Франко повел меня по дому, показывая картины, что вылилось у него в поток, несомненно, приятных воспоминаний. О каждой картине было что рассказать. «На этой стене вокруг церковного садика, – рассказывал Франко, – меня и моих приятелей застукал священник. Пришлось давать деру. Мы еле унесли ноги. Этот священник был прытким малым: преследовал нас даже на улице». Одно воспоминание тянуло за собой следующее, и вскоре я узнал немало подробностей из жизни Франко в Понтито, где он провел детство. Правда, его рассказ носил сумбурный характер, один эпизод не увязывался с другим. Зато говорил он с нескрываемым увлечением, даже с одержимостью в голосе, и можно было понять, что все его мысли занимает Понтито, о котором он может рассказывать бесконечно.
Слушая Франко, у меня создалось впечатление, что воспоминания подавляют, захлестывают его, являя собой мощную неудержимую силу, которая вызывает бурю эмоций. Он не только говорил с выразительной, яркой мимикой, но и бурно жестикулировал, чтобы, сделав небольшой перерыв в излиянии бурных чувств и смущенно сказав: «Вот так это было», продолжить свою страстную речь, сопровождавшую демонстрацию видов Понтито.
Закончив знакомить меня со своими картинами, Франко признался, что рад моему визиту, который помог ему погрузиться в воспоминания. По его словам, находясь в одиночестве, он тоже поглощен мыслями о Понтито, но только не ворошит старое, а представляет себе Понтито без жителей, без мирской суеты, – Понтито, погруженный в безвременье, что открывает простор для аллегории и фантазии. Но теперь ему было с кем поделиться воспоминаниями, и рассказ о Понтито полился дальше. Признаться, мое внимание ослабело, рассказ Франко показался мне несколько надоедливым, излишне затянутым, и я предался раздумью, что побуждает Франко использовать свою феноменальную память для одного-единственного занятия – писать виды Понтито, что, впрочем, он делал с подлинным мастерством. В конце концов мне пришла в голову мысль, что не только феноменальная память и страстная одержимость побуждают его предаваться навязчивому занятию, но и нечто более сложное и глубокое.
Франко родился в Понтито в 1934 году. Этот маленький городок расположен в Пистойе[135 - Пистойя – одна из итальянских провинций. – Примеч. перев.], среди холмов Кастельвеккьо[136 - Кастельвеккьо – небольшая возвышенность в Пистойе. – Примеч. перев.], в сорока милях западнее Флоренции. В стародавние времена эту местность населяли этруски, их захоронения сохранились и по сей день. Понтито, как и многие тосканские городки, походил на древние этрусские поселения с домами, разбросанными по покатым холмам, спускавшимся террасами к центральной площади городка, от которой расходились крутые узкие улочки – дороги для людей и ослов. На самом высоком холме находилась церквушка, рядом с которой и ютился небольшой дом, в котором Франко провел детские годы. Жители городка, как прежде этруски, занимались сельским хозяйством, культивируя оливковые деревья и разводя виноградники. По существу, все они составляли одну большую семью: Маньяни, Папи, Ванукки, Тамбури, Сарпи давно находились в родственных отношениях. Наиболее известным их земляком был Лаццаро Папи[137 - Папи, Лаццаро (1763–1834) – итальянский писатель. – Примеч. перев.], летописец Французской революции, памятник которому установлен на центральной площади городка.
Время не меняло Понтито, не менялась и размеренная жизнь его обитателей. Фермы и сады, разбитые на плодородной земле, приносили необходимый достаток. В благополучии и достатке жила и семья Франко. Все изменилось после начала войны. В 1942 году в результате несчастного случая погиб отец Франко, а в 1943 году в городок вошли немцы, вынудив жителей покинуть свои дома. Когда они вернулись в Понтито, то с ужасом увидали, что половина домов разрушена, а поля, виноградники и сады пришли в запустение. Вернуть утраченное быстро не удалось, и трудоспособное население покинуло родные места в поисках заработка. До войны в городке насчитывалось около пятисот человек, после войны он почти опустел – в нем остались одни старики. Когда-то процветавший, не знавший особых бед городок стал медленно умирать.
Виды Понтито, которые рисовал Франко, относились ко времени его детства. Когда ему было двенадцать, он отправился в Лукку продолжить образование, а в 1949 году перебрался в Монтельпучано, где стал учиться на мебельщика. Уникальной, «фотографической» памятью Франко обладал с детства (этим же даром, но только менее развитым, также обладали его сестры и мать). Прочитав текст в учебнике, он мог повторить его без запинки, ему хватало одного взгляда, чтобы запомнить длинный ряд цифр. Он даже мог похвастаться тем, что, бывая на местном кладбище, выучил наизусть, не прилагая к тому усилий, надписи на всех существовавших тогда надгробиях.
Но только в Лукке, вдали от дома, по которому он тосковал, у него объявилась память иного рода – не механическая, а образная, выражавшаяся в ярких отчетливых представлениях, неожиданно появлявшихся перед его мысленным взором, причем каждый из этих образов был связан с его жизнью в Понтито, с пережитыми радостями и горестями. «Тогда он очень скучал по Понтито, – сказала мне сестра Франко. – Не мудрено, что ему вспоминались улицы нашего городка, поля, виноградники, церковь возле нашего дома. Но в то время у него не было потребности рисовать».
Франко вернулся домой в 1953 году, потратив в Монтельпучано четыре года на обучение ремеслу, но в Понтито, пришедшем в упадок и запустение, мебельщики не требовались. Убедившись, что в Понтито не заработаешь, Франко перебрался в Рапалло, где поступил на работу поваром. Однако такая работа, размеренная и скучная, не удовлетворяла его, он искал другой образ жизни, и в 1960 году (к тому времени ему исполнилось двадцать пять) отчасти обдуманно и отчасти по побуждению он устроился коком на судно дальнего плавания, решив повидать мир, хотя и тосковал по Понтито. Его судно курсировало между Европой и портами Карибского моря. Гаити, Антильские и Багамские острова произвели на Франко отрадное впечатление, и он четырнадцать месяцев прожил в Нассау. В этот период времени, по словам Франко, он почти не вспоминал о Понтито.
В 1965 году, когда ему было тридцать один, Франко принял неожиданное решение: перебраться в Америку, в Сан-Франциско. Это решение далось ему нелегко: переехать в Соединенные Штаты значило разлучиться – и, может быть, навсегда – со своей страной, со своим городком, с родным языком, с семьей, со своими привычками и знакомым укладом жизни. Однако переезд обещал – или казалось, что обещал – новую жизнь и материальную независимость (отец Франко, будучи молодым человеком, тоже уехал в Америку и прожил там в течение нескольких лет, но затем, заскучав по родным местам, вернулся в Понтито).
Однако едва Франко принял это непростое решение, сопровождавшееся страхами и надеждой, он заболел и попал в больницу. Его лихорадило, он терял в весе; врачи находили у него симптомы делирия, но точный диагноз поставить не удалось, и чрезмерное возбуждение пациента приписали психическому расстройству. Болезнь обернулась неожиданным проявлением. Франко из ночи в ночь стал видеть странные сны. Ему неизменно снился Понтито – но только не эпизоды и сценки из прежней жизни, а дома и улицы городка, причем картины эти рисовались во всех подробностях, и, если, к примеру, ему снился какой-то дом, то этот дом представлялся во всех мельчайших деталях, которые, казалось, в свою бытность в Понтито он запомнить не мог. Эти сны сопровождались странными ощущениями: безотчетной тревогой, предчувствием близкой беды и в то же время щемящей тоской по родным местам. Когда он просыпался, ночные видения сразу не пропадали. Увиденные ночью картины теперь рисовались Франко на потолке, на стенах, а иногда, приобретя конструктивный вид, располагались на полу комнаты, удивляя совершенными формами. Хотя Франко никогда не страдал от недостатка воображения, эти видения поработили его, в то же время мобилизуя на свое воссоздание в реальных, «жизненных» формах. Казалось, они говорили: «Нарисуй нас, придай нам жизнь».
Что же случилось с Франко в ту пору? Стало ли причиной его психического расстройства принятое им «сомнительное» решение, возможно, вызвавшее расщепление его эго, что привело к истерии? Тогда отделившаяся часть эго могла вызвать воспоминания, вылившиеся в необычные сновидения («Истерию часто вызывают воспоминания», – писал Фрейд). Но были ли эти сны вызваны эмоциональной потребностью? Ведь видения могли проистекать и от физиологической нагрузки на мозг, став результатом процесса, к которому Франко (как индивидуум) прямого отношения не имел.
Сам Франко уже в то время пришел к заключению, что причиной его видений является не болезнь, не психическое расстройство, а «духовное божественное начало», дар, ниспосланный ему свыше, и потому его прямая обязанность не задаваться вопросами, а принять этот дар и найти ему применение[138 - Художник Джорджо де Кирико, страдавший приступами сильной мигрени, когда испытывал головные боли, нередко видел перед глазами геометрические фигуры, зигзагообразные линии, яркие вспышки света, сменявшиеся угольной темнотой. Увиденное де Кирико переносил на картины (этот случай детально описали Г. Н. Фуллер и М. В. Гейл в «Британском медицинском журнале»). Де Кирико также не признавал, что причина его видений имеет медицинскую подоплеку, настаивая на том, что они являются проявлением «божественного начала». В конце концов он пришел к компромиссу, назвав свои видения «духовной лихорадкой». – Примеч. авт.]. Придя к такой мысли, Франко смирился со своими видениями и решил придать им некоторую реальность.
Хотя Франко почти никогда раньше не рисовал, он почувствовал, что сможет изобразить на бумаге или холсте, по крайней мере в общих чертах, то, что являлось ему во сне или представало передним утром на потолке и стенах, словно на киноэкране. Его решимости помогло новое сновидение: Франко увидел во сне свой дом, вызвавший прилив ностальгии. Его собственный дом и стал первым рисунком Франко. Несмотря на то, что это был его первый «настоящий» рисунок, он получился, на удивление, точным и выразительным и имел странную зловещую привлекательность. Франко был поражен: таланта художника он никогда не замечал за собой, и даже теперь – через двадцать пять лет после своего первого опыта – Франко не переставал удивляться своему дару. «Фантастично, – сказал он мне, – я чуть ли не впервые взял в руки кисть и нарисовал замечательную картину. Как я мог не знать раньше, что у меня способности к рисованию?» Как я выяснил из дальнейшего разговора, Франко в детстве мечтал стать художником, но то были наивные, простодушные помыслы, и все его упражнения не отличались от обычных детских рисунков. Теперь же, по словам Франко, его тянет к мольберту неведомая, внушающая страх сила, которая поработила его и с помощью его кисти заявляет о себе во весь голос. Этот «голос» звучал особенно громко, когда Франко только начинал рисовать, побужденный к тому своими видениями. «Манера и стиль исполнения у Франко за годы не изменились, – сказал мне его приятель Боб Миллер. – Но сначала его работы были более выразительными. Особенно первые две картины. От них не оторвешь взгляда. В них что-то магнетическое, даже зловещее».
Насколько я понял, необычные видения, связанные с Понтито, стали впервые являться Франко во время болезни. До этого он не вспоминал о Понтито, а если и вспоминал, то это были обычные воспоминания человека о городе, где он родился и провел детство. Его зять сказал мне: «Мы не виделись с Франко с 1961 по 1987 год. В 1961 году он был нормальным человеком, а когда мы встретились с ним после долгого перерыва, с ним невозможно стало поговорить. Он разглагольствовал лишь о Понтито, описывая свои бесчисленные видения».
Характеристику Франко продолжил Боб Миллер:
Франко начал рисовать в госпитале. Вероятно, занятие живописью стало для него своего рода лекарством. Временами он говорил: «Меня преследуют сновидения, воспоминания о Понтито. Эти мысли не дают мне покоя, у меня все валится из рук». Однако на убогого он похож не был. А вот разговаривать с ним было действительно тяжело. Он с удовольствием говорил лишь о Понтито. Казалось, он держит в мыслях макет этого городка и находит объекты для детального описания, поворачивая этот макет в разные стороны. Но самым удивительным и, пожалуй, непостижимым являлось то, что он мог в мельчайших деталях описать, а затем и нарисовать каждую улочку, каждый дом. Тому подтверждение я, правда, получил лишь в семидесятые годы, когда Джиджи, приятель Франко, привез из Понтито фотографии городка. Мы сравнили картины Франко с этими фотографиями и пришли в изумление. Точность воспроизведения видов Понтито была ошеломляющей, фантастической. Казалось, он рисовал с натуры, а ведь он не был в Понтито с детства. У него феноменальная, ничем не объяснимая память.
Как мне удалось выяснить из дальнейшего общения с Франко, в последнее время его видения участились и стали являться ему даже днем (за обеденным столом, на прогулке, а то и вовсе в неподходящее время, когда он моется в ванне). По его словам, эти видения появляются неожиданно, даже когда он с кем-нибудь разговаривает, и, естественно, каждый раз перед его мысленным взором возникает образ очередного уголка Понтито, и чаще всего пространственный.
Майкл Пирс в журнале «Эксплораториум Куотерли», рецензируя выставку картин Франко, пишет:
Каждой картине Франко предшествует неожиданный всплеск его удивительной памяти, принимающий форму очередного видения. Такие видения Франко старается как можно быстрее «перенести» на бумагу и оставляет ради этого даже рюмку, если всплеск памяти случается в баре. Обычно его видения принимают пространственную, трехмерную форму, и в этом случае Франко поворачивается то влево, то право, чтобы обозреть всю картину, являющуюся новым видом Понтито. При этом ему удается увидеть каждый арочный свод, каждый камень строения, каждую рытвину на дороге.
Видения Франко часто сопровождались и другими галлюцинациями – слуховыми и обонятельными. Он рассказал мне, что иногда явственно слышит перезвон церковных колоколов, чувствует запах ладана, запах плюща, обвившего стены вокруг церковного садика. А бывает, добавил Франко, он ощущает запахи виноградника, оливковых деревьев, орешника – запахи его детства. Зрительные, обонятельные и слуховые галлюцинации стали для Франко зачастую неразделимыми, являя собой целый комплекс воспоминаний. Психиатр Гарри Стэк Салливан назвал такие воспоминания «мгновенным воспроизведением в памяти основных восприятий прошлого».
Наблюдая за Франко, я пришел к мысли, что во время видений в его головном мозгу происходят внезапные изменения. Правда, когда я впервые увидел Франко за этим странным занятием, то, обратив внимание на его пристальный взгляд, обращенный в неведомое пространство, на его расширенные зрачки и на его возбуждение, я решил, что у него своеобразный приступ психического расстройства. Подобные приступы были впервые описаны в конце XIX столетия известным неврологом Джоном Хьюлингсом Джексоном, который отметил, что их симптомами являются интенсивные галлюцинации, поток непроизвольных «воспоминаний» и странное полумистическое «дремотное состояние». Такие приступы, по наблюдению Джексона, связаны с эпилептической активностью височных долей головного мозга.
Джексон также считал, что у некоторых больных с частыми приступами психического расстройства могут измениться мышление и особенности характера. Но только в пятидесятые-шестидесятые годы XX века эти явления, получившие название «индивидуальный интерпароксизмальный синдром», привлекли более пристальное внимание специалистов. В 1956 году французский невролог Анри Гасто написал статью о Ван-Гоге, в которой выразил убеждение, что у художника, помимо расстройства височной доли, наблюдалось и изменение личности, прогрессирующее всю его жизнь. В 1961 году известный американский невролог Норман Гешвинд высказал мысль, что у Ф. М. Достоевского наблюдалась височная (психомоторная) эпилепсия, сказавшаяся на его творчестве, а в начале семидесятых годов Гешвинд указал на то, что отдельные люди, у которых наблюдается височная эпилепсия, характеризуются повышенной экспансивностью (правда, наблюдающейся в ограниченной сфере), а также повышенным интересом к религии, философии и к мироустройству. При этом у многих таких людей была отмечена возникшая склонность к творчеству: одни стали вести пространные дневники, другие уселись за мемуары, третьи занялись живописью, а некоторые даже уверовали в свое высокое предназначение, в свою особую миссию. Такие наклонности наблюдались даже у малообразованных пациентов, не обладавших творческим даром.
Работы Нормана Гешвинда, написанные в соавторстве со Стивеном Ваксманом, были опубликованы в 1974 и 1975 годах и вызвали значительный интерес у неврологов. В этих работах было впервые сказано, что целая группа симптомов, присущих психическим заболеваниям, вызвана неврологическими причинами и в особенности «гиперсвязью» между сенсорными и эмоциональными участками мозга, которая вызывает чрезмерные всплески воспоминаний и образных представлений. Гешвинд отмечает: «Изменения личных свойств, индивидуальности человека, наблюдающиеся при височной эпилепсии, вероятно, являются наиболее подходящим ключом, с помощью которого можно расшифровать неврологические системы, вызывающие к жизни эмоциональные силы, которые управляют поведением индивидуума».
Подобные изменения, подчеркивает Гешвинд, не могут считаться ни негативными, ни положительными, ни созидательными, ни деструктивными, ни соответствующими пожеланиям человека, ни неприемлемыми. Гешвинд в особенности интересовался (относительно редкой) созидательной силой синдрома. Описывая жизнь и творчество Достоевского, он заметил: «Когда височная эпилепсия обнаруживается у гениального человека, он должен выжать из нее все разумные и эмоциональные составляющие и использовать их в своем творчестве»[139 - Эта мысль прослеживается и в творчестве самого Достоевского. Вот что он говорит от лица князя Мышкина: «Что же в том, что это болезнь? Какое до того дело, что это напряжение ненормальное, если самый результат, если минута ощущения, припоминаемая и рассматриваемая уже в здоровом состоянии, оказывается в высшей степени гармонией, красотой, дает неслыханное и негаданное дотоле чувство полноты, меры, примирения и восторженного молитвенного слития с самым высшим синтезом жизни?» – Примеч. авт.]. Эта связь болезни (биологического явления) с индивидуальным творчеством человека вызывала у Гешвинда особенный интерес[140 - Хотя тема, касающаяся неврологических и психиатрических расстройств, которыми, вероятно, страдали известные в мире люди, отнюдь не нова, ее нередко затрагивают и в настоящее время. Так, Ева Лаплант в книге «Seized», сообщает о том, что височной эпилепсией страдали не только Ван-Гог и Достоевский, но и По, Теннисон, Флобер, Мопассан, Кьеркегор, Льюис Кэрролл. По ее словам, той же болезнью страдают и наши современники Уолкер Перси, Филип Дики Артур Инман, автор уникального 155-томного дневника. Леннокс (Леннокс, Уильям Гордон (1864–1960) – американский невролог. – Примеч. перев.) к этому списку прибавляет новые имена, начиная с Сократа и Будды и заканчивая Ньютоном, Стриндбергом, Распутиным, Паганини и Прустом. Знаменитые внезапные всплески памяти, о которых говорится в произведении Пруста «В поисках утраченного времени», Леннокс объясняет гипермнезическими или эмпирическими приступами, вызванными особыми стимулами, восстанавливающими в памяти события прошлого. В других научных работах говорится о том, что синдромом Туретта страдали Самуэль Джонсон и Моцарт, аутизмом – Эйнштейн и Барток, а маниакально-депрессивным психозом чуть ли не каждый интеллектуал с мировым именем. Так, Кей Редфилд Джемисон (известная как исследователь и эксперт в области биполярных аффективных расстройств. – Примеч. перев.) в своем труде «Touching with Fire» относит к людям, страдавшим маниакально-депрессивным психозом, Бальзака, Бодлера, Берлиоза, Босуэлла, Брука, Брукнера, Бернса, всех Байронов и всех Бронте (я перечислил лишь тех, чьи фамилии начинаются с буквы «Б»), Вполне вероятно, что Джемисон не ошиблась. Опасность состоит в том, чтобы при постановке диагноза нашим предшественникам (и тем более современникам) не преуменьшить сложность неврологических и психиатрических нарушений и не пренебречь всеми другими факторами, которые определяют жизнь человека. – Примеч. авт.].
Индивидуальный интерпароксизмальный синдром получил название «синдром Ваксмана-Гетпвинда», иногда его называют проще – «синдром Достоевского». Я задался вопросом: не являются ли сновидения и галлюцинации Франко проявлением этой болезни?
По словам Джексона, такие явления обязаны «двойственности сознания». Такое суждение вполне можно принять: когда Франко одолевали его видения, воспоминания о Понтито, он словно переносился в свой городок. За долгие годы он, как и всякий художник, научился в определенной степени управлять своими видениями – инициировать их, вызывая в воображении, – но чаще всего они возникали сами, внезапно. Интересную мысль, основанную, несомненно, на наблюдениях, по этому поводу высказал Марсель Пруст. По его мнению, сознательные, намеренные воспоминания – умозрительны, безжизненны, нерельефны, и только непроизвольные, ненамеренные воспоминания являются живыми, яркими, образными, выражающими всю гамму давних переживаний.
«Двойственность сознания», несомненно, тяготила Франко: видения прошлого вмешивались в его настоящую жизнь, иногда подавляя ее, и в таких случаях он терял ориентацию во времени и пространстве. «Двойственность сознания» привела к двойной жизни. Франко жил в Сан-Франциско, но часть его существа принадлежала Понтито, и потому его настоящая жизнь блекла, тускнела. Франко работал поваром, а почти все свободное время проводил в студии; он не ходил в театры, редко выезжал за город и постепенно растерял почти всех приятелей, утомленных бесконечными разговорами о Понтито. Рядом с Франко осталась только его жена, Рут. Она всячески поддерживала его, открыла в Норт-Бич[141 - Норт-Бич – итальянский район в Сан-Франциско, «маленькая Италия», с центром Коламбус-авеню. – Примеч. перев.] выставку картин Франко, назвав ее «Галерея Понтито», она же приобрела для машины мужа номерной знак «Понтито».
Психоаналитик Эрнест Шахтель, анализируя жизнь и творчество Пруста, говорит о нем как о человеке, готовом пренебречь тем, что люди обычно считают активной жизнью: сегодняшним днем, предприимчивостью, заботами о завтрашнем дне, общественным положением, – пренебречь ради воспоминаний о прошлом, ради поисков «утраченного времени».
Однако такого рода воспоминания, к которым стремился Пруст и которые мучили Франко, иллюзорны, призрачны, ирреальны, они не могут сравниться с яркими ежедневными чувствами человека, с круговертью реальной жизни. Такие воспоминания, словно сны, рождаются в тишине под покровом тьмы, принимая форму автоматизма, наподобие транса.
Размышляя о заболевании Франко, напоминавшем частое «вхождение в транс», я пришел к мысли, что объяснить это психическое расстройство одной эпилептической активностью височных долей головного мозга явно неправильно, недостаточно. Следовало принять во внимание и черты характера Франко, его отношение к матери, стремление идеализировать жизнь, подверженность ностальгии, следовало учесть всю историю его жизни, включая раннюю смерть отца и ранний уход из дома и, не в последнюю очередь, желание стать известным, преуспевающим человеком. То, что казалось произошедшим случайно, было вызвано не только физиологическим состоянием Франко, но и его душевным настроем, эмоциональной потребностью.
Без сомнения, болезненная тоска по родным местам, по Понтито требовала нового и, по возможности, «равноценного» мира взамен утраченного, и видения Франко создали этот мир, но, конечно, в том созидательном творчестве играли не последние роли его богатое воображение и уникальная память. Исследуя заболевание Франко, я вспомнил свою прежнюю пациентку, миссис О’С., которая в результате эпилептической активности височных долей головного мозга тоже оказалась во власти воспоминаний, связанных с важными событиями в ее жизни. Но миссис О’С. быстро поправилась, и дверь в ее прошлое затворилась. В случае с Франко этого не случилось. Наоборот, его видения множились, становились более интенсивными, чему способствовали внезапно открывшиеся способности к рисованию.
Одна из старших сестер Франко, Антониетта, в настоящее время живущая в Нидерландах, рассказывала о том, что когда их семья вернулась в Понтито после его оккупации немцами, то разрушения в городке произвели на всех тяжкое, гнетущее впечатление, и Франко, которому тогда было лет десять, заметив огорчение матери, сказал, глядя ей в глаза: «Я воссоздам для тебя Понтито». Когда Франко нарисовал свою первую картину, то немедленно отослал ее матери, в определенном смысле начав выполнять свое обещание.
Франко считал свою мать замечательной женщиной, обладавшей сверхъестественной силой. «Она лечила болезни взглядом и передала этот секрет моей сестре Катарине», – сказал мне Франко. В детстве он относился к матери с обожанием, особенно привязавшись к ней после смерти отца, испытывая при этом почти зависимость симбионта и проявляя к матери чувства, схожие с ощущениями, характеризующими комплекс Эдипа[142 - Комплекс Эдипа – группа связанных понятий, целей, инстинктивных влечений и страхов, наблюдаемая у мальчиков в возрасте от 3 до 6 лет; ее эквивалентном у девочек выступает комплекс Электры. В этом периоде, соответствующем пику фаллической фазы психосексуального развития, интерес ребенка сосредоточен преимущественно на родителе противоположного пола и сопровождается агрессивностью по отношению к родителю своего пола. – Примеч. перев.]. Франко продолжал посылать ей свои картины, а когда она в 1972 году умерла, испытал настоящее потрясение. Он даже перестал рисовать и не рисовал в течение девяти месяцев. К мольберту его вернула будущая жена, молодая американка ирландского происхождения. «Рут заменила мне мать, – признался мне Франко. – Если бы не она, я бы не вернулся к мольберту».
Франко не раз задумывался над тем, чтобы вернуться домой, в Понтито, а в его разговорах с друзьями на эту тему даже сквозила некая уверенность в том, что дома его поджидает непостижимым образом воскресшая мать. У Франко было немало возможностей вернуться в Понтито, однако ни одной из них он не воспользовался. «Что-то препятствовало ему вернуться в Понтито, – сказал мне Боб Миллер. – Какая-то непонятная сила, а может, и страх. Не берусь сказать точно». Когда в конце семидесятых годов Джиджи привез в Сан-Франциско фотографии городка, в котором Франко не был более тридцати лет, он пришел в ужас, увидев невозделанные поля и сады, заросшие сорняками. Такое же впечатление произвели на Франко и фотографии, сделанные Сьюзен Шварценберг в 1987 году. На них он едва взглянул. Это был не его Понтито, не знакомый до мелочей городок, в котором он провел детство, – и, конечно, вовсе не тот Понтито, который являлся ему в видениях, переносимых им на картины в течение двадцати с лишком лет.
В поведении Франко можно усмотреть парадокс: он постоянно думал и говорил о Понтито, рисовал его виды, являвшиеся в видениях, но так и не принял решения вернуться в свой городок. Этот парадокс можно объяснять тем, что он попросту присущ ностальгии, ибо ностальгия сродни неосуществимым фантазиям – не осуществимым в принципе (как, к примеру, праздные грезы), – но в то же время взывающим к хотя бы косвенному воплощению в жизнь – и прежде всего к художественной форме осуществления своих притязаний. Так по крайней мере объяснил этот парадокс французский психоаналитик Гешан. Психоаналитик Дэвид Верман, рассуждая о Прусте, известном «искателе утраченного времени», говорит об «эстетической кристаллизации ностальгии», поднятой на уровень подлинного искусства.
Франко не был сознательным инициатором своих извечных видений и не был в силах с ними покончить. Воспоминания, воплощавшиеся в яркие образы, в ясные определенные представления, преследовали его и ночью, и днем – хотел он того или нет. «Еще никто не попадал в такое пекло реальности и не ощущал на себе ту непреодолимую силу, которая день и ночь давила на несчастного Иренео», – написал Хорхе Луис Борхес в своем произведении «Фунес, Помнящий». Та же непреодолимая сила действительности угнетала и Франко.
Можно родиться с потенциально поразительной памятью, но никто не родится с расположенностью к частым воспоминаниям. Такую потребность могут вызвать лишь особые стимулы: болезненная тоска по дому, который пришлось оставить, длительная разлука с родными и близкими, события прошлого, имевшие большое значение, былая пламенная любовь да и другие чувства и случаи, оставившие в душе человека памятный след. Воспоминания могут принимать разные формы, в том числе и форму выражения чувств посредством творческого процесса. В частности, ностальгия породила немало превосходных произведений. Ностальгия проявляется наиболее остро, когда человек вынужден жить вдали от родного дома, от дома, где он родился и вырос – например, в эмиграции или, хуже того, в изгнании. Правда, в конечном счете все люди – изгнанники, изгнанники из своего прошлого, а прошлое рождает воспоминания. У Франко воспоминания обострились, приняв форму видений, проявление которых следует объяснить не только его физиологическим состоянием, не только его поразительной памятью, но и всей его предыдущей жизнью, теми горестями, которые он претерпел, и его неумолимым желанием «создать новый Понтито» и тем самым выполнить обещание, данное матери.
Выполнению обещания помогли неожиданные видения, и Франко, воспользовавшись внезапно открывшейся способностью рисовать, стал «переносить» видения на картины и тем самым уподобился тем изгнанникам, которые вдали от отчего дома занялись творчеством. Люди, находившиеся в изгнании, создали немало прекрасных произведений[143 - Изгнание из тропического рая, в котором он провел детские годы, долго не давало покоя Полю Гогену, который в конце концов отправился на Таити, где, поселившись, серьезно занялся живописью, воплотив в своем творчестве и яркие впечатления от Эдема, которые он получил в детстве. – Примеч. авт.], а сама тема изгнания ведет свое начало со стародавних времен (изгнание из садов Эдема, изгнание с Сиона – одни из центральных сюжетов Библии). Ностальгией, ставшей результатом изгнания, окрашено все литературное творчество Джеймса Джойса. Он родился в Дублине, но еще в юношестве ушел из родного дома, покинув город. Однако воспоминания о Дублине преследовали его всю жизнь, что нашло отражение в его главных произведениях: сначала в романе «Стивен-герой», сборнике рассказов «Дублинцы», пьесе «Изгнанники», а затем в романах «Улисс» и «Поминки по Финнегану». В своих произведениях Джойс описывает Дублин с превеликой дотошностью, являя собой уникальный образец памяти, но только описание Дублина соответствует лишь тому сравнительно короткому времени, когда будущий писатель жил в этом городе. Дальнейшая судьба Дублина Джойса почти не интересовала. То же можно сказать и о Франко. Он жил прежним Понтито, рисовал виды города времен своего детства, а если и отходил от «фотографичности» исполнения, то лишь для того, чтобы представить Понтито неким фантастическим центром вселенской борьбы между добром и злом.
В марте 1989 года я поехал в Понтито, чтобы своими глазами увидеть родину Франко и поговорить с его родственниками. Приехав в Понтито, я обнаружил, что его улицы и строения, хотя и весьма похожи на те, которые Франко запечатлел на своих картинах, все же от них несколько отличаются. Улицы городка выглядели поуже, дома стояли более беспорядочно, а церквушка оказалась намного ниже. Поразмышляв, я пришел к заключению, что эти различия проистекают из-за того, что Франко запомнил свой городок таким, каким казался ему, когда он смотрел на него глазами ребенка. В детстве все кажется выше, больше, просторнее. И все же оставался не совсем ясным главный вопрос: стали ли видения Франко проявлением бессознательного или причиной тому стал некий «конвульсивный толчок», вызвавший воспоминания детства?
Похожий «конвульсивный толчок», пробуждающий к жизни воспоминания, хранящиеся в мозгу, был описан Уайлдером Пенфилдом[144 - Пенфилд, Уайлдер Грейвс (1891–1976) – американский невролог и нейрохирург. – Примеч. перев.]. Такие воспоминания, пишет он, могут быть вызваны во время хирургической операции на мозгу путем стимулирования аномальных частей височных долей головного мозга с помощью электрода. При этом, говорит Пенфилд, пациенты, оставаясь в сознании и отвечая на вопросы врача, явственно ощущают, что перенеслись в свое прошлое, причем каждая новая стимуляция не изменяет ни сюжета воспоминания, ни времени, в которое происходит вспоминаемое событие. Воспоминания, пишет Пенфилд, могут быть самыми разными. Один пациент «видит дверь в танцевальный зал», другой «слушает музыку», третий видит «людей в запорошенной снегом одежде», а четвертый (вернее, четвертая) видит, как «впервые рожает». Уяснив, что воспоминания не меняются при очередной стимуляции, Пенфилд назвал их «эмпирическими видениями»[145 - Следует заметить, что при стимуляции аномальных частей височных долей головного мозга могут возникнуть и фантастические «воспоминания». Так, одна из пациенток Гоуэрса (Гоуэрс, Уильям Ричард (1845–1915) – английский невролог. – Примеч. перев.) неизменно «вспоминала» разрушенный до основания Лондон, в котором она одна осталась в живых. Уместно также сказать, что с Пенфилдом в своей работе «Изобретательность памяти» полемизирует Израэль Розенфилд. – Примеч. авт.]. Он полагал, что память постоянно и непрерывно ведет подробную запись жизненного опыта человека и что фрагменты этого опыта могут быть пробуждены к жизни в виде воспоминаний при стимуляции. В то же время наблюдения показали, что воспоминания, рожденные стимуляцией, как правило, нестоящи по значению, что Пенфилд объяснил «возбуждением наугад». Однако он полагал, что в хранилище мозга может находиться массивный пласт значимого существенного опыта прошлого, который стремится выплеснуться потоком первостепенных воспоминаний. Может быть, и у Франко пробудился этот «поток», на несколько лет «замороженный» в хранилище мозга?
То, что воспоминания, хотя и не полностью отражающие события прошлого, хранятся в мозгу, допускают как психоаналитики, так и наиболее яркие авторы автобиографических сочинений. Так, Фрейд рассматривал человеческий мозг как некое археологическое хранилище, состоящее из наслоения «погребенных пластов», содержащих воспоминания, причем содержимое любого из этих пластов, по утверждению Фрейда, может в любое время вернуться к жизни, переместившись в сознание человека. Примерно такую же картину рисует и Пруст. По его словам, человеческая жизнь – «собрание отдельных моментов», воспоминания о которых, «не отягощенные последующими событиями», хранятся в «кладовой разума»[146 - В своем произведении «В поисках утраченного времени» Пруст пишет: «Великая слабость памяти в том, что она состоит из собрания отдельных моментов человеческой жизни, но в этом и ее великая сила – все зависит от самой памяти. Воспоминания об отдельных моментах не отягощены последующими событиями, и каждый момент, зарегистрированный в памяти человека, продолжает существовать, и вместе с ним продолжают существовать ощущения, вызванные этим моментом». – Примеч. авт.]. Отдадим должное Прусту как одному из главных исследователей памяти, однако все же заметим, что рассуждения о памяти восходят по крайней мере к временам Августина[147 - Августин, Аврелий (354–430) – христианский мыслитель и богослов. – Примеч. перев.], но окончательного ответа на то, что же такое память, не получено до сих пор.
Суждение о том, что воспоминания человека сосредоточены в некоем хранилище памяти, стало обычным, и люди, удовлетворившись этим суждением, не понимают того, что вопрос довольно проблематичен. Сложность проблемы подчеркивает так называемая «повседневная» память, различная у разных людей. Так, свидетели происшествия описывают одни и те же события неодинаково. Иногда их показания различаются лишь в деталях. Но случается, очевидцы происшедшего едва ли не полностью противоречат друг другу. В зависимости от индивидуальных особенностей и эмоционального состояния каждый обращает внимание на разные аспекты случившегося.
Фредерик Бартлетт[148 - Бартлетт, Фредерик Чарльз (1886–1969) – английский психолог. – Примеч. перев.], проведя в двадцатые-тридцатые годы ряд экспериментов с использованием тестов на запоминание, высказал мысль, что памяти как некоего единства вовсе не существует, а наличествует, постоянно проявляя себя, динамический процесс «воспоминаний». В своей работе «Воспоминание. Исследование экспериментальной и социальной психологии» («Remembering: A Study of Experimental and Social Psychology») он пишет:
Воспоминания не являются возбуждением ранее полученных и успевших атрофироваться многочисленных восприятий. Воспоминания – это образная конструкция, созданная на базе отношения человека к активной массе его реакций и опыта прошлого и, в частности, к некоторым наиболее примечательным подробностям этого опыта, воссозданным в образной или речевой форме. Однако воспоминания не обладают исключительной точностью даже при воспроизведении того, что заучено наизусть, и потому не могут считаться полностью достоверными.
Суждение Бартлетта в настоящее время подтверждается работами Джеральда Эдельмана, который считает, что мозг является целиком активной системой, в которой происходят постоянные изменения, и все ее элементы непрерывно модернизируются, устанавливая новые связи. По мнению Эдельмана, каждое восприятие является созиданием, а воспоминание – воссозданием, но все воспоминания относительны, не существует воспоминаний, в которых прошлое не окрашено настоящим. И Эдельман, и Бартлетт считают, что воспоминание – это реконструкция, а не репродукция прошлого.
Однако не расходятся ли с этой концепцией необычные формы памяти? Не сродни ли на вид постоянная и полностью репродуцированная память, которую описал А. Р. Лурия в своей работе «Ум мнемониста», фиксированным и жестким «искусственным воспоминаниям» прошлого? А как относиться к высокой точности «архивных» воспоминаний, живуч тих в устном народном творчестве на веку множества поколений, таких, как племенные поверья, мифы и эпические поэмы? А какова емкость памяти, которой поражают «одаренные идиоты», способные запомнить с одного раза, к примеру, симфоническое произведение или текст целой книги и воспроизвести его с исключительной точностью даже через несколько лет? Возникают и другие вопросы. Что такое «травматические» воспоминания, которые сохраняются без малейшего изменения даже спустя десятилетие после получения травмы? Что такое невротические и истерические воспоминания, также не меняющиеся со временем? Рассмотрев эти вопросы, можно предположить, что во всех перечисленных случаях действует репродукция, намного превышающая силой возможности реконструкции, при этом репродукция эта базируется на элементах фиксации, консервации и недвижности, которые словно отрезаны от восприятия нового и потому не подвергаются изменению[149 - Память имеет многие виды, и каждый из них бесценен, и потому допустимо говорить о «патологии» памяти лишь в тех немногочисленных случаях, когда она принимает совсем необычный вид. У некоторых людей замечательная перцепционная память; такие люди могут бессознательно воспринять и запомнить, к примеру, все подробности летнего отпуска: людей, с которыми сталкивались, их одежду, привычки, всевозможные разговоры, события на пляже и пр. Другие люди таких подробностей запомнить не в состоянии, но у них может быть развита концептуальная память, позволяющая воспринять и запомнить нужную информацию в абстрактном, умозрительном виде. Перцепционная память присуща писателям и художникам, концептуальная память – ученым. Конечно, можно обладать и обоими видами памяти или их комбинацией в определенной пропорции. Чистая перцепционная память (иногда с небольшой долей концептуальной памяти) присуща людям, страдающим аутизмом. – Примеч. авт.]. Этот вывод можно отнести и к случаю Франко.
Маньяни считался художником, рисующим лишь по памяти, и достаточно было посетить его выставку, чтобы убедиться в его уникальных способностях: рисовать лишь по памяти с фотографической точностью – правда, только виды Понтито. Казалось, он держит в мыслях трехмерный макет этого городка, который может поворачивать так и сяк и, выбрав привлекательный вид, переносить его на картину с поразительной точностью, что подтверждалось развешанными рядом с картинами фотографиями. Я было решил, что Маньяни – художник-эйдетик[133 - Эйдетик – лицо, обладающее эйдетизмом. Эйдетизм – явление, близкое к яркой образной памяти, заключающееся в сохранении образа предмета долгое время спустя после его исчезновения из поля зрения. – Примеч. перев.], человек, способный сохранять долгое время в памяти образ однажды увиденного предмета, но художник-эйдетик не стал бы ограничивать свое творчество видами одной-единственной местности, пусть и привлекательной для него. Скорее наоборот, художник с такими удивительными способностями постарался бы с выгодой воспользоваться своим необыкновенным талантом и расширил бы, насколько возможно, рамки своего творчества. Маньяни же рисовал только виды Понтито. Это его пристрастие я расценил не только как проявление удивительной памяти, но и как выражение ностальгии, тоски по местам, где он провел детство, а также как проявление компульсивности.
Я познакомился с Франко, и он пригласил меня в гости. Франко жил в небольшом городке в нескольких милях от Сан-Франциско. Его дом я нашел без труда. Перед ним находился садик, огороженный невысокой стеной, напоминавшей стены, обрамлявшие улицы, которые я видел на картинах Маньяни. Перед домом стоял видавший виды автомобиль с номерным знаком «Понтито»[134 - Речь идет о номерном знаке автомобиля, в котором набор цифр и букв за особую плату подобран в соответствии с амбициями владельца автомобиля. – Примеч. перев.]. Рядом находился гараж, превращенный, как я вскоре выяснил, в студию. Увидев меня, Франко вышел из гаража.
Это был высокий стройный мужчина. Хотя ему было за пятьдесят, он выглядел энергичным, подтянутым человеком моложе своего возраста. Он носил очки в роговой оправе, за которыми поблескивали большие внимательные глаза. Волосы его были расчесаны на пробор. Франко пригласил меня в дом. Стены всех комнат были завешаны картинами и рисунками, однако стен не хватало, и работами Франко были забиты все ящики письменного стола и даже платяной шкаф. Дом походил на музей с немалым запасником, и все это собрание живописи было посвящено одной-единственной теме – видам Понтито.
Франко повел меня по дому, показывая картины, что вылилось у него в поток, несомненно, приятных воспоминаний. О каждой картине было что рассказать. «На этой стене вокруг церковного садика, – рассказывал Франко, – меня и моих приятелей застукал священник. Пришлось давать деру. Мы еле унесли ноги. Этот священник был прытким малым: преследовал нас даже на улице». Одно воспоминание тянуло за собой следующее, и вскоре я узнал немало подробностей из жизни Франко в Понтито, где он провел детство. Правда, его рассказ носил сумбурный характер, один эпизод не увязывался с другим. Зато говорил он с нескрываемым увлечением, даже с одержимостью в голосе, и можно было понять, что все его мысли занимает Понтито, о котором он может рассказывать бесконечно.
Слушая Франко, у меня создалось впечатление, что воспоминания подавляют, захлестывают его, являя собой мощную неудержимую силу, которая вызывает бурю эмоций. Он не только говорил с выразительной, яркой мимикой, но и бурно жестикулировал, чтобы, сделав небольшой перерыв в излиянии бурных чувств и смущенно сказав: «Вот так это было», продолжить свою страстную речь, сопровождавшую демонстрацию видов Понтито.
Закончив знакомить меня со своими картинами, Франко признался, что рад моему визиту, который помог ему погрузиться в воспоминания. По его словам, находясь в одиночестве, он тоже поглощен мыслями о Понтито, но только не ворошит старое, а представляет себе Понтито без жителей, без мирской суеты, – Понтито, погруженный в безвременье, что открывает простор для аллегории и фантазии. Но теперь ему было с кем поделиться воспоминаниями, и рассказ о Понтито полился дальше. Признаться, мое внимание ослабело, рассказ Франко показался мне несколько надоедливым, излишне затянутым, и я предался раздумью, что побуждает Франко использовать свою феноменальную память для одного-единственного занятия – писать виды Понтито, что, впрочем, он делал с подлинным мастерством. В конце концов мне пришла в голову мысль, что не только феноменальная память и страстная одержимость побуждают его предаваться навязчивому занятию, но и нечто более сложное и глубокое.
Франко родился в Понтито в 1934 году. Этот маленький городок расположен в Пистойе[135 - Пистойя – одна из итальянских провинций. – Примеч. перев.], среди холмов Кастельвеккьо[136 - Кастельвеккьо – небольшая возвышенность в Пистойе. – Примеч. перев.], в сорока милях западнее Флоренции. В стародавние времена эту местность населяли этруски, их захоронения сохранились и по сей день. Понтито, как и многие тосканские городки, походил на древние этрусские поселения с домами, разбросанными по покатым холмам, спускавшимся террасами к центральной площади городка, от которой расходились крутые узкие улочки – дороги для людей и ослов. На самом высоком холме находилась церквушка, рядом с которой и ютился небольшой дом, в котором Франко провел детские годы. Жители городка, как прежде этруски, занимались сельским хозяйством, культивируя оливковые деревья и разводя виноградники. По существу, все они составляли одну большую семью: Маньяни, Папи, Ванукки, Тамбури, Сарпи давно находились в родственных отношениях. Наиболее известным их земляком был Лаццаро Папи[137 - Папи, Лаццаро (1763–1834) – итальянский писатель. – Примеч. перев.], летописец Французской революции, памятник которому установлен на центральной площади городка.
Время не меняло Понтито, не менялась и размеренная жизнь его обитателей. Фермы и сады, разбитые на плодородной земле, приносили необходимый достаток. В благополучии и достатке жила и семья Франко. Все изменилось после начала войны. В 1942 году в результате несчастного случая погиб отец Франко, а в 1943 году в городок вошли немцы, вынудив жителей покинуть свои дома. Когда они вернулись в Понтито, то с ужасом увидали, что половина домов разрушена, а поля, виноградники и сады пришли в запустение. Вернуть утраченное быстро не удалось, и трудоспособное население покинуло родные места в поисках заработка. До войны в городке насчитывалось около пятисот человек, после войны он почти опустел – в нем остались одни старики. Когда-то процветавший, не знавший особых бед городок стал медленно умирать.
Виды Понтито, которые рисовал Франко, относились ко времени его детства. Когда ему было двенадцать, он отправился в Лукку продолжить образование, а в 1949 году перебрался в Монтельпучано, где стал учиться на мебельщика. Уникальной, «фотографической» памятью Франко обладал с детства (этим же даром, но только менее развитым, также обладали его сестры и мать). Прочитав текст в учебнике, он мог повторить его без запинки, ему хватало одного взгляда, чтобы запомнить длинный ряд цифр. Он даже мог похвастаться тем, что, бывая на местном кладбище, выучил наизусть, не прилагая к тому усилий, надписи на всех существовавших тогда надгробиях.
Но только в Лукке, вдали от дома, по которому он тосковал, у него объявилась память иного рода – не механическая, а образная, выражавшаяся в ярких отчетливых представлениях, неожиданно появлявшихся перед его мысленным взором, причем каждый из этих образов был связан с его жизнью в Понтито, с пережитыми радостями и горестями. «Тогда он очень скучал по Понтито, – сказала мне сестра Франко. – Не мудрено, что ему вспоминались улицы нашего городка, поля, виноградники, церковь возле нашего дома. Но в то время у него не было потребности рисовать».
Франко вернулся домой в 1953 году, потратив в Монтельпучано четыре года на обучение ремеслу, но в Понтито, пришедшем в упадок и запустение, мебельщики не требовались. Убедившись, что в Понтито не заработаешь, Франко перебрался в Рапалло, где поступил на работу поваром. Однако такая работа, размеренная и скучная, не удовлетворяла его, он искал другой образ жизни, и в 1960 году (к тому времени ему исполнилось двадцать пять) отчасти обдуманно и отчасти по побуждению он устроился коком на судно дальнего плавания, решив повидать мир, хотя и тосковал по Понтито. Его судно курсировало между Европой и портами Карибского моря. Гаити, Антильские и Багамские острова произвели на Франко отрадное впечатление, и он четырнадцать месяцев прожил в Нассау. В этот период времени, по словам Франко, он почти не вспоминал о Понтито.
В 1965 году, когда ему было тридцать один, Франко принял неожиданное решение: перебраться в Америку, в Сан-Франциско. Это решение далось ему нелегко: переехать в Соединенные Штаты значило разлучиться – и, может быть, навсегда – со своей страной, со своим городком, с родным языком, с семьей, со своими привычками и знакомым укладом жизни. Однако переезд обещал – или казалось, что обещал – новую жизнь и материальную независимость (отец Франко, будучи молодым человеком, тоже уехал в Америку и прожил там в течение нескольких лет, но затем, заскучав по родным местам, вернулся в Понтито).
Однако едва Франко принял это непростое решение, сопровождавшееся страхами и надеждой, он заболел и попал в больницу. Его лихорадило, он терял в весе; врачи находили у него симптомы делирия, но точный диагноз поставить не удалось, и чрезмерное возбуждение пациента приписали психическому расстройству. Болезнь обернулась неожиданным проявлением. Франко из ночи в ночь стал видеть странные сны. Ему неизменно снился Понтито – но только не эпизоды и сценки из прежней жизни, а дома и улицы городка, причем картины эти рисовались во всех подробностях, и, если, к примеру, ему снился какой-то дом, то этот дом представлялся во всех мельчайших деталях, которые, казалось, в свою бытность в Понтито он запомнить не мог. Эти сны сопровождались странными ощущениями: безотчетной тревогой, предчувствием близкой беды и в то же время щемящей тоской по родным местам. Когда он просыпался, ночные видения сразу не пропадали. Увиденные ночью картины теперь рисовались Франко на потолке, на стенах, а иногда, приобретя конструктивный вид, располагались на полу комнаты, удивляя совершенными формами. Хотя Франко никогда не страдал от недостатка воображения, эти видения поработили его, в то же время мобилизуя на свое воссоздание в реальных, «жизненных» формах. Казалось, они говорили: «Нарисуй нас, придай нам жизнь».
Что же случилось с Франко в ту пору? Стало ли причиной его психического расстройства принятое им «сомнительное» решение, возможно, вызвавшее расщепление его эго, что привело к истерии? Тогда отделившаяся часть эго могла вызвать воспоминания, вылившиеся в необычные сновидения («Истерию часто вызывают воспоминания», – писал Фрейд). Но были ли эти сны вызваны эмоциональной потребностью? Ведь видения могли проистекать и от физиологической нагрузки на мозг, став результатом процесса, к которому Франко (как индивидуум) прямого отношения не имел.
Сам Франко уже в то время пришел к заключению, что причиной его видений является не болезнь, не психическое расстройство, а «духовное божественное начало», дар, ниспосланный ему свыше, и потому его прямая обязанность не задаваться вопросами, а принять этот дар и найти ему применение[138 - Художник Джорджо де Кирико, страдавший приступами сильной мигрени, когда испытывал головные боли, нередко видел перед глазами геометрические фигуры, зигзагообразные линии, яркие вспышки света, сменявшиеся угольной темнотой. Увиденное де Кирико переносил на картины (этот случай детально описали Г. Н. Фуллер и М. В. Гейл в «Британском медицинском журнале»). Де Кирико также не признавал, что причина его видений имеет медицинскую подоплеку, настаивая на том, что они являются проявлением «божественного начала». В конце концов он пришел к компромиссу, назвав свои видения «духовной лихорадкой». – Примеч. авт.]. Придя к такой мысли, Франко смирился со своими видениями и решил придать им некоторую реальность.
Хотя Франко почти никогда раньше не рисовал, он почувствовал, что сможет изобразить на бумаге или холсте, по крайней мере в общих чертах, то, что являлось ему во сне или представало передним утром на потолке и стенах, словно на киноэкране. Его решимости помогло новое сновидение: Франко увидел во сне свой дом, вызвавший прилив ностальгии. Его собственный дом и стал первым рисунком Франко. Несмотря на то, что это был его первый «настоящий» рисунок, он получился, на удивление, точным и выразительным и имел странную зловещую привлекательность. Франко был поражен: таланта художника он никогда не замечал за собой, и даже теперь – через двадцать пять лет после своего первого опыта – Франко не переставал удивляться своему дару. «Фантастично, – сказал он мне, – я чуть ли не впервые взял в руки кисть и нарисовал замечательную картину. Как я мог не знать раньше, что у меня способности к рисованию?» Как я выяснил из дальнейшего разговора, Франко в детстве мечтал стать художником, но то были наивные, простодушные помыслы, и все его упражнения не отличались от обычных детских рисунков. Теперь же, по словам Франко, его тянет к мольберту неведомая, внушающая страх сила, которая поработила его и с помощью его кисти заявляет о себе во весь голос. Этот «голос» звучал особенно громко, когда Франко только начинал рисовать, побужденный к тому своими видениями. «Манера и стиль исполнения у Франко за годы не изменились, – сказал мне его приятель Боб Миллер. – Но сначала его работы были более выразительными. Особенно первые две картины. От них не оторвешь взгляда. В них что-то магнетическое, даже зловещее».
Насколько я понял, необычные видения, связанные с Понтито, стали впервые являться Франко во время болезни. До этого он не вспоминал о Понтито, а если и вспоминал, то это были обычные воспоминания человека о городе, где он родился и провел детство. Его зять сказал мне: «Мы не виделись с Франко с 1961 по 1987 год. В 1961 году он был нормальным человеком, а когда мы встретились с ним после долгого перерыва, с ним невозможно стало поговорить. Он разглагольствовал лишь о Понтито, описывая свои бесчисленные видения».
Характеристику Франко продолжил Боб Миллер:
Франко начал рисовать в госпитале. Вероятно, занятие живописью стало для него своего рода лекарством. Временами он говорил: «Меня преследуют сновидения, воспоминания о Понтито. Эти мысли не дают мне покоя, у меня все валится из рук». Однако на убогого он похож не был. А вот разговаривать с ним было действительно тяжело. Он с удовольствием говорил лишь о Понтито. Казалось, он держит в мыслях макет этого городка и находит объекты для детального описания, поворачивая этот макет в разные стороны. Но самым удивительным и, пожалуй, непостижимым являлось то, что он мог в мельчайших деталях описать, а затем и нарисовать каждую улочку, каждый дом. Тому подтверждение я, правда, получил лишь в семидесятые годы, когда Джиджи, приятель Франко, привез из Понтито фотографии городка. Мы сравнили картины Франко с этими фотографиями и пришли в изумление. Точность воспроизведения видов Понтито была ошеломляющей, фантастической. Казалось, он рисовал с натуры, а ведь он не был в Понтито с детства. У него феноменальная, ничем не объяснимая память.
Как мне удалось выяснить из дальнейшего общения с Франко, в последнее время его видения участились и стали являться ему даже днем (за обеденным столом, на прогулке, а то и вовсе в неподходящее время, когда он моется в ванне). По его словам, эти видения появляются неожиданно, даже когда он с кем-нибудь разговаривает, и, естественно, каждый раз перед его мысленным взором возникает образ очередного уголка Понтито, и чаще всего пространственный.
Майкл Пирс в журнале «Эксплораториум Куотерли», рецензируя выставку картин Франко, пишет:
Каждой картине Франко предшествует неожиданный всплеск его удивительной памяти, принимающий форму очередного видения. Такие видения Франко старается как можно быстрее «перенести» на бумагу и оставляет ради этого даже рюмку, если всплеск памяти случается в баре. Обычно его видения принимают пространственную, трехмерную форму, и в этом случае Франко поворачивается то влево, то право, чтобы обозреть всю картину, являющуюся новым видом Понтито. При этом ему удается увидеть каждый арочный свод, каждый камень строения, каждую рытвину на дороге.
Видения Франко часто сопровождались и другими галлюцинациями – слуховыми и обонятельными. Он рассказал мне, что иногда явственно слышит перезвон церковных колоколов, чувствует запах ладана, запах плюща, обвившего стены вокруг церковного садика. А бывает, добавил Франко, он ощущает запахи виноградника, оливковых деревьев, орешника – запахи его детства. Зрительные, обонятельные и слуховые галлюцинации стали для Франко зачастую неразделимыми, являя собой целый комплекс воспоминаний. Психиатр Гарри Стэк Салливан назвал такие воспоминания «мгновенным воспроизведением в памяти основных восприятий прошлого».
Наблюдая за Франко, я пришел к мысли, что во время видений в его головном мозгу происходят внезапные изменения. Правда, когда я впервые увидел Франко за этим странным занятием, то, обратив внимание на его пристальный взгляд, обращенный в неведомое пространство, на его расширенные зрачки и на его возбуждение, я решил, что у него своеобразный приступ психического расстройства. Подобные приступы были впервые описаны в конце XIX столетия известным неврологом Джоном Хьюлингсом Джексоном, который отметил, что их симптомами являются интенсивные галлюцинации, поток непроизвольных «воспоминаний» и странное полумистическое «дремотное состояние». Такие приступы, по наблюдению Джексона, связаны с эпилептической активностью височных долей головного мозга.
Джексон также считал, что у некоторых больных с частыми приступами психического расстройства могут измениться мышление и особенности характера. Но только в пятидесятые-шестидесятые годы XX века эти явления, получившие название «индивидуальный интерпароксизмальный синдром», привлекли более пристальное внимание специалистов. В 1956 году французский невролог Анри Гасто написал статью о Ван-Гоге, в которой выразил убеждение, что у художника, помимо расстройства височной доли, наблюдалось и изменение личности, прогрессирующее всю его жизнь. В 1961 году известный американский невролог Норман Гешвинд высказал мысль, что у Ф. М. Достоевского наблюдалась височная (психомоторная) эпилепсия, сказавшаяся на его творчестве, а в начале семидесятых годов Гешвинд указал на то, что отдельные люди, у которых наблюдается височная эпилепсия, характеризуются повышенной экспансивностью (правда, наблюдающейся в ограниченной сфере), а также повышенным интересом к религии, философии и к мироустройству. При этом у многих таких людей была отмечена возникшая склонность к творчеству: одни стали вести пространные дневники, другие уселись за мемуары, третьи занялись живописью, а некоторые даже уверовали в свое высокое предназначение, в свою особую миссию. Такие наклонности наблюдались даже у малообразованных пациентов, не обладавших творческим даром.
Работы Нормана Гешвинда, написанные в соавторстве со Стивеном Ваксманом, были опубликованы в 1974 и 1975 годах и вызвали значительный интерес у неврологов. В этих работах было впервые сказано, что целая группа симптомов, присущих психическим заболеваниям, вызвана неврологическими причинами и в особенности «гиперсвязью» между сенсорными и эмоциональными участками мозга, которая вызывает чрезмерные всплески воспоминаний и образных представлений. Гешвинд отмечает: «Изменения личных свойств, индивидуальности человека, наблюдающиеся при височной эпилепсии, вероятно, являются наиболее подходящим ключом, с помощью которого можно расшифровать неврологические системы, вызывающие к жизни эмоциональные силы, которые управляют поведением индивидуума».
Подобные изменения, подчеркивает Гешвинд, не могут считаться ни негативными, ни положительными, ни созидательными, ни деструктивными, ни соответствующими пожеланиям человека, ни неприемлемыми. Гешвинд в особенности интересовался (относительно редкой) созидательной силой синдрома. Описывая жизнь и творчество Достоевского, он заметил: «Когда височная эпилепсия обнаруживается у гениального человека, он должен выжать из нее все разумные и эмоциональные составляющие и использовать их в своем творчестве»[139 - Эта мысль прослеживается и в творчестве самого Достоевского. Вот что он говорит от лица князя Мышкина: «Что же в том, что это болезнь? Какое до того дело, что это напряжение ненормальное, если самый результат, если минута ощущения, припоминаемая и рассматриваемая уже в здоровом состоянии, оказывается в высшей степени гармонией, красотой, дает неслыханное и негаданное дотоле чувство полноты, меры, примирения и восторженного молитвенного слития с самым высшим синтезом жизни?» – Примеч. авт.]. Эта связь болезни (биологического явления) с индивидуальным творчеством человека вызывала у Гешвинда особенный интерес[140 - Хотя тема, касающаяся неврологических и психиатрических расстройств, которыми, вероятно, страдали известные в мире люди, отнюдь не нова, ее нередко затрагивают и в настоящее время. Так, Ева Лаплант в книге «Seized», сообщает о том, что височной эпилепсией страдали не только Ван-Гог и Достоевский, но и По, Теннисон, Флобер, Мопассан, Кьеркегор, Льюис Кэрролл. По ее словам, той же болезнью страдают и наши современники Уолкер Перси, Филип Дики Артур Инман, автор уникального 155-томного дневника. Леннокс (Леннокс, Уильям Гордон (1864–1960) – американский невролог. – Примеч. перев.) к этому списку прибавляет новые имена, начиная с Сократа и Будды и заканчивая Ньютоном, Стриндбергом, Распутиным, Паганини и Прустом. Знаменитые внезапные всплески памяти, о которых говорится в произведении Пруста «В поисках утраченного времени», Леннокс объясняет гипермнезическими или эмпирическими приступами, вызванными особыми стимулами, восстанавливающими в памяти события прошлого. В других научных работах говорится о том, что синдромом Туретта страдали Самуэль Джонсон и Моцарт, аутизмом – Эйнштейн и Барток, а маниакально-депрессивным психозом чуть ли не каждый интеллектуал с мировым именем. Так, Кей Редфилд Джемисон (известная как исследователь и эксперт в области биполярных аффективных расстройств. – Примеч. перев.) в своем труде «Touching with Fire» относит к людям, страдавшим маниакально-депрессивным психозом, Бальзака, Бодлера, Берлиоза, Босуэлла, Брука, Брукнера, Бернса, всех Байронов и всех Бронте (я перечислил лишь тех, чьи фамилии начинаются с буквы «Б»), Вполне вероятно, что Джемисон не ошиблась. Опасность состоит в том, чтобы при постановке диагноза нашим предшественникам (и тем более современникам) не преуменьшить сложность неврологических и психиатрических нарушений и не пренебречь всеми другими факторами, которые определяют жизнь человека. – Примеч. авт.].
Индивидуальный интерпароксизмальный синдром получил название «синдром Ваксмана-Гетпвинда», иногда его называют проще – «синдром Достоевского». Я задался вопросом: не являются ли сновидения и галлюцинации Франко проявлением этой болезни?
По словам Джексона, такие явления обязаны «двойственности сознания». Такое суждение вполне можно принять: когда Франко одолевали его видения, воспоминания о Понтито, он словно переносился в свой городок. За долгие годы он, как и всякий художник, научился в определенной степени управлять своими видениями – инициировать их, вызывая в воображении, – но чаще всего они возникали сами, внезапно. Интересную мысль, основанную, несомненно, на наблюдениях, по этому поводу высказал Марсель Пруст. По его мнению, сознательные, намеренные воспоминания – умозрительны, безжизненны, нерельефны, и только непроизвольные, ненамеренные воспоминания являются живыми, яркими, образными, выражающими всю гамму давних переживаний.
«Двойственность сознания», несомненно, тяготила Франко: видения прошлого вмешивались в его настоящую жизнь, иногда подавляя ее, и в таких случаях он терял ориентацию во времени и пространстве. «Двойственность сознания» привела к двойной жизни. Франко жил в Сан-Франциско, но часть его существа принадлежала Понтито, и потому его настоящая жизнь блекла, тускнела. Франко работал поваром, а почти все свободное время проводил в студии; он не ходил в театры, редко выезжал за город и постепенно растерял почти всех приятелей, утомленных бесконечными разговорами о Понтито. Рядом с Франко осталась только его жена, Рут. Она всячески поддерживала его, открыла в Норт-Бич[141 - Норт-Бич – итальянский район в Сан-Франциско, «маленькая Италия», с центром Коламбус-авеню. – Примеч. перев.] выставку картин Франко, назвав ее «Галерея Понтито», она же приобрела для машины мужа номерной знак «Понтито».
Психоаналитик Эрнест Шахтель, анализируя жизнь и творчество Пруста, говорит о нем как о человеке, готовом пренебречь тем, что люди обычно считают активной жизнью: сегодняшним днем, предприимчивостью, заботами о завтрашнем дне, общественным положением, – пренебречь ради воспоминаний о прошлом, ради поисков «утраченного времени».
Однако такого рода воспоминания, к которым стремился Пруст и которые мучили Франко, иллюзорны, призрачны, ирреальны, они не могут сравниться с яркими ежедневными чувствами человека, с круговертью реальной жизни. Такие воспоминания, словно сны, рождаются в тишине под покровом тьмы, принимая форму автоматизма, наподобие транса.
Размышляя о заболевании Франко, напоминавшем частое «вхождение в транс», я пришел к мысли, что объяснить это психическое расстройство одной эпилептической активностью височных долей головного мозга явно неправильно, недостаточно. Следовало принять во внимание и черты характера Франко, его отношение к матери, стремление идеализировать жизнь, подверженность ностальгии, следовало учесть всю историю его жизни, включая раннюю смерть отца и ранний уход из дома и, не в последнюю очередь, желание стать известным, преуспевающим человеком. То, что казалось произошедшим случайно, было вызвано не только физиологическим состоянием Франко, но и его душевным настроем, эмоциональной потребностью.
Без сомнения, болезненная тоска по родным местам, по Понтито требовала нового и, по возможности, «равноценного» мира взамен утраченного, и видения Франко создали этот мир, но, конечно, в том созидательном творчестве играли не последние роли его богатое воображение и уникальная память. Исследуя заболевание Франко, я вспомнил свою прежнюю пациентку, миссис О’С., которая в результате эпилептической активности височных долей головного мозга тоже оказалась во власти воспоминаний, связанных с важными событиями в ее жизни. Но миссис О’С. быстро поправилась, и дверь в ее прошлое затворилась. В случае с Франко этого не случилось. Наоборот, его видения множились, становились более интенсивными, чему способствовали внезапно открывшиеся способности к рисованию.
Одна из старших сестер Франко, Антониетта, в настоящее время живущая в Нидерландах, рассказывала о том, что когда их семья вернулась в Понтито после его оккупации немцами, то разрушения в городке произвели на всех тяжкое, гнетущее впечатление, и Франко, которому тогда было лет десять, заметив огорчение матери, сказал, глядя ей в глаза: «Я воссоздам для тебя Понтито». Когда Франко нарисовал свою первую картину, то немедленно отослал ее матери, в определенном смысле начав выполнять свое обещание.
Франко считал свою мать замечательной женщиной, обладавшей сверхъестественной силой. «Она лечила болезни взглядом и передала этот секрет моей сестре Катарине», – сказал мне Франко. В детстве он относился к матери с обожанием, особенно привязавшись к ней после смерти отца, испытывая при этом почти зависимость симбионта и проявляя к матери чувства, схожие с ощущениями, характеризующими комплекс Эдипа[142 - Комплекс Эдипа – группа связанных понятий, целей, инстинктивных влечений и страхов, наблюдаемая у мальчиков в возрасте от 3 до 6 лет; ее эквивалентном у девочек выступает комплекс Электры. В этом периоде, соответствующем пику фаллической фазы психосексуального развития, интерес ребенка сосредоточен преимущественно на родителе противоположного пола и сопровождается агрессивностью по отношению к родителю своего пола. – Примеч. перев.]. Франко продолжал посылать ей свои картины, а когда она в 1972 году умерла, испытал настоящее потрясение. Он даже перестал рисовать и не рисовал в течение девяти месяцев. К мольберту его вернула будущая жена, молодая американка ирландского происхождения. «Рут заменила мне мать, – признался мне Франко. – Если бы не она, я бы не вернулся к мольберту».
Франко не раз задумывался над тем, чтобы вернуться домой, в Понтито, а в его разговорах с друзьями на эту тему даже сквозила некая уверенность в том, что дома его поджидает непостижимым образом воскресшая мать. У Франко было немало возможностей вернуться в Понтито, однако ни одной из них он не воспользовался. «Что-то препятствовало ему вернуться в Понтито, – сказал мне Боб Миллер. – Какая-то непонятная сила, а может, и страх. Не берусь сказать точно». Когда в конце семидесятых годов Джиджи привез в Сан-Франциско фотографии городка, в котором Франко не был более тридцати лет, он пришел в ужас, увидев невозделанные поля и сады, заросшие сорняками. Такое же впечатление произвели на Франко и фотографии, сделанные Сьюзен Шварценберг в 1987 году. На них он едва взглянул. Это был не его Понтито, не знакомый до мелочей городок, в котором он провел детство, – и, конечно, вовсе не тот Понтито, который являлся ему в видениях, переносимых им на картины в течение двадцати с лишком лет.
В поведении Франко можно усмотреть парадокс: он постоянно думал и говорил о Понтито, рисовал его виды, являвшиеся в видениях, но так и не принял решения вернуться в свой городок. Этот парадокс можно объяснять тем, что он попросту присущ ностальгии, ибо ностальгия сродни неосуществимым фантазиям – не осуществимым в принципе (как, к примеру, праздные грезы), – но в то же время взывающим к хотя бы косвенному воплощению в жизнь – и прежде всего к художественной форме осуществления своих притязаний. Так по крайней мере объяснил этот парадокс французский психоаналитик Гешан. Психоаналитик Дэвид Верман, рассуждая о Прусте, известном «искателе утраченного времени», говорит об «эстетической кристаллизации ностальгии», поднятой на уровень подлинного искусства.
Франко не был сознательным инициатором своих извечных видений и не был в силах с ними покончить. Воспоминания, воплощавшиеся в яркие образы, в ясные определенные представления, преследовали его и ночью, и днем – хотел он того или нет. «Еще никто не попадал в такое пекло реальности и не ощущал на себе ту непреодолимую силу, которая день и ночь давила на несчастного Иренео», – написал Хорхе Луис Борхес в своем произведении «Фунес, Помнящий». Та же непреодолимая сила действительности угнетала и Франко.
Можно родиться с потенциально поразительной памятью, но никто не родится с расположенностью к частым воспоминаниям. Такую потребность могут вызвать лишь особые стимулы: болезненная тоска по дому, который пришлось оставить, длительная разлука с родными и близкими, события прошлого, имевшие большое значение, былая пламенная любовь да и другие чувства и случаи, оставившие в душе человека памятный след. Воспоминания могут принимать разные формы, в том числе и форму выражения чувств посредством творческого процесса. В частности, ностальгия породила немало превосходных произведений. Ностальгия проявляется наиболее остро, когда человек вынужден жить вдали от родного дома, от дома, где он родился и вырос – например, в эмиграции или, хуже того, в изгнании. Правда, в конечном счете все люди – изгнанники, изгнанники из своего прошлого, а прошлое рождает воспоминания. У Франко воспоминания обострились, приняв форму видений, проявление которых следует объяснить не только его физиологическим состоянием, не только его поразительной памятью, но и всей его предыдущей жизнью, теми горестями, которые он претерпел, и его неумолимым желанием «создать новый Понтито» и тем самым выполнить обещание, данное матери.
Выполнению обещания помогли неожиданные видения, и Франко, воспользовавшись внезапно открывшейся способностью рисовать, стал «переносить» видения на картины и тем самым уподобился тем изгнанникам, которые вдали от отчего дома занялись творчеством. Люди, находившиеся в изгнании, создали немало прекрасных произведений[143 - Изгнание из тропического рая, в котором он провел детские годы, долго не давало покоя Полю Гогену, который в конце концов отправился на Таити, где, поселившись, серьезно занялся живописью, воплотив в своем творчестве и яркие впечатления от Эдема, которые он получил в детстве. – Примеч. авт.], а сама тема изгнания ведет свое начало со стародавних времен (изгнание из садов Эдема, изгнание с Сиона – одни из центральных сюжетов Библии). Ностальгией, ставшей результатом изгнания, окрашено все литературное творчество Джеймса Джойса. Он родился в Дублине, но еще в юношестве ушел из родного дома, покинув город. Однако воспоминания о Дублине преследовали его всю жизнь, что нашло отражение в его главных произведениях: сначала в романе «Стивен-герой», сборнике рассказов «Дублинцы», пьесе «Изгнанники», а затем в романах «Улисс» и «Поминки по Финнегану». В своих произведениях Джойс описывает Дублин с превеликой дотошностью, являя собой уникальный образец памяти, но только описание Дублина соответствует лишь тому сравнительно короткому времени, когда будущий писатель жил в этом городе. Дальнейшая судьба Дублина Джойса почти не интересовала. То же можно сказать и о Франко. Он жил прежним Понтито, рисовал виды города времен своего детства, а если и отходил от «фотографичности» исполнения, то лишь для того, чтобы представить Понтито неким фантастическим центром вселенской борьбы между добром и злом.
В марте 1989 года я поехал в Понтито, чтобы своими глазами увидеть родину Франко и поговорить с его родственниками. Приехав в Понтито, я обнаружил, что его улицы и строения, хотя и весьма похожи на те, которые Франко запечатлел на своих картинах, все же от них несколько отличаются. Улицы городка выглядели поуже, дома стояли более беспорядочно, а церквушка оказалась намного ниже. Поразмышляв, я пришел к заключению, что эти различия проистекают из-за того, что Франко запомнил свой городок таким, каким казался ему, когда он смотрел на него глазами ребенка. В детстве все кажется выше, больше, просторнее. И все же оставался не совсем ясным главный вопрос: стали ли видения Франко проявлением бессознательного или причиной тому стал некий «конвульсивный толчок», вызвавший воспоминания детства?
Похожий «конвульсивный толчок», пробуждающий к жизни воспоминания, хранящиеся в мозгу, был описан Уайлдером Пенфилдом[144 - Пенфилд, Уайлдер Грейвс (1891–1976) – американский невролог и нейрохирург. – Примеч. перев.]. Такие воспоминания, пишет он, могут быть вызваны во время хирургической операции на мозгу путем стимулирования аномальных частей височных долей головного мозга с помощью электрода. При этом, говорит Пенфилд, пациенты, оставаясь в сознании и отвечая на вопросы врача, явственно ощущают, что перенеслись в свое прошлое, причем каждая новая стимуляция не изменяет ни сюжета воспоминания, ни времени, в которое происходит вспоминаемое событие. Воспоминания, пишет Пенфилд, могут быть самыми разными. Один пациент «видит дверь в танцевальный зал», другой «слушает музыку», третий видит «людей в запорошенной снегом одежде», а четвертый (вернее, четвертая) видит, как «впервые рожает». Уяснив, что воспоминания не меняются при очередной стимуляции, Пенфилд назвал их «эмпирическими видениями»[145 - Следует заметить, что при стимуляции аномальных частей височных долей головного мозга могут возникнуть и фантастические «воспоминания». Так, одна из пациенток Гоуэрса (Гоуэрс, Уильям Ричард (1845–1915) – английский невролог. – Примеч. перев.) неизменно «вспоминала» разрушенный до основания Лондон, в котором она одна осталась в живых. Уместно также сказать, что с Пенфилдом в своей работе «Изобретательность памяти» полемизирует Израэль Розенфилд. – Примеч. авт.]. Он полагал, что память постоянно и непрерывно ведет подробную запись жизненного опыта человека и что фрагменты этого опыта могут быть пробуждены к жизни в виде воспоминаний при стимуляции. В то же время наблюдения показали, что воспоминания, рожденные стимуляцией, как правило, нестоящи по значению, что Пенфилд объяснил «возбуждением наугад». Однако он полагал, что в хранилище мозга может находиться массивный пласт значимого существенного опыта прошлого, который стремится выплеснуться потоком первостепенных воспоминаний. Может быть, и у Франко пробудился этот «поток», на несколько лет «замороженный» в хранилище мозга?
То, что воспоминания, хотя и не полностью отражающие события прошлого, хранятся в мозгу, допускают как психоаналитики, так и наиболее яркие авторы автобиографических сочинений. Так, Фрейд рассматривал человеческий мозг как некое археологическое хранилище, состоящее из наслоения «погребенных пластов», содержащих воспоминания, причем содержимое любого из этих пластов, по утверждению Фрейда, может в любое время вернуться к жизни, переместившись в сознание человека. Примерно такую же картину рисует и Пруст. По его словам, человеческая жизнь – «собрание отдельных моментов», воспоминания о которых, «не отягощенные последующими событиями», хранятся в «кладовой разума»[146 - В своем произведении «В поисках утраченного времени» Пруст пишет: «Великая слабость памяти в том, что она состоит из собрания отдельных моментов человеческой жизни, но в этом и ее великая сила – все зависит от самой памяти. Воспоминания об отдельных моментах не отягощены последующими событиями, и каждый момент, зарегистрированный в памяти человека, продолжает существовать, и вместе с ним продолжают существовать ощущения, вызванные этим моментом». – Примеч. авт.]. Отдадим должное Прусту как одному из главных исследователей памяти, однако все же заметим, что рассуждения о памяти восходят по крайней мере к временам Августина[147 - Августин, Аврелий (354–430) – христианский мыслитель и богослов. – Примеч. перев.], но окончательного ответа на то, что же такое память, не получено до сих пор.
Суждение о том, что воспоминания человека сосредоточены в некоем хранилище памяти, стало обычным, и люди, удовлетворившись этим суждением, не понимают того, что вопрос довольно проблематичен. Сложность проблемы подчеркивает так называемая «повседневная» память, различная у разных людей. Так, свидетели происшествия описывают одни и те же события неодинаково. Иногда их показания различаются лишь в деталях. Но случается, очевидцы происшедшего едва ли не полностью противоречат друг другу. В зависимости от индивидуальных особенностей и эмоционального состояния каждый обращает внимание на разные аспекты случившегося.
Фредерик Бартлетт[148 - Бартлетт, Фредерик Чарльз (1886–1969) – английский психолог. – Примеч. перев.], проведя в двадцатые-тридцатые годы ряд экспериментов с использованием тестов на запоминание, высказал мысль, что памяти как некоего единства вовсе не существует, а наличествует, постоянно проявляя себя, динамический процесс «воспоминаний». В своей работе «Воспоминание. Исследование экспериментальной и социальной психологии» («Remembering: A Study of Experimental and Social Psychology») он пишет:
Воспоминания не являются возбуждением ранее полученных и успевших атрофироваться многочисленных восприятий. Воспоминания – это образная конструкция, созданная на базе отношения человека к активной массе его реакций и опыта прошлого и, в частности, к некоторым наиболее примечательным подробностям этого опыта, воссозданным в образной или речевой форме. Однако воспоминания не обладают исключительной точностью даже при воспроизведении того, что заучено наизусть, и потому не могут считаться полностью достоверными.
Суждение Бартлетта в настоящее время подтверждается работами Джеральда Эдельмана, который считает, что мозг является целиком активной системой, в которой происходят постоянные изменения, и все ее элементы непрерывно модернизируются, устанавливая новые связи. По мнению Эдельмана, каждое восприятие является созиданием, а воспоминание – воссозданием, но все воспоминания относительны, не существует воспоминаний, в которых прошлое не окрашено настоящим. И Эдельман, и Бартлетт считают, что воспоминание – это реконструкция, а не репродукция прошлого.
Однако не расходятся ли с этой концепцией необычные формы памяти? Не сродни ли на вид постоянная и полностью репродуцированная память, которую описал А. Р. Лурия в своей работе «Ум мнемониста», фиксированным и жестким «искусственным воспоминаниям» прошлого? А как относиться к высокой точности «архивных» воспоминаний, живуч тих в устном народном творчестве на веку множества поколений, таких, как племенные поверья, мифы и эпические поэмы? А какова емкость памяти, которой поражают «одаренные идиоты», способные запомнить с одного раза, к примеру, симфоническое произведение или текст целой книги и воспроизвести его с исключительной точностью даже через несколько лет? Возникают и другие вопросы. Что такое «травматические» воспоминания, которые сохраняются без малейшего изменения даже спустя десятилетие после получения травмы? Что такое невротические и истерические воспоминания, также не меняющиеся со временем? Рассмотрев эти вопросы, можно предположить, что во всех перечисленных случаях действует репродукция, намного превышающая силой возможности реконструкции, при этом репродукция эта базируется на элементах фиксации, консервации и недвижности, которые словно отрезаны от восприятия нового и потому не подвергаются изменению[149 - Память имеет многие виды, и каждый из них бесценен, и потому допустимо говорить о «патологии» памяти лишь в тех немногочисленных случаях, когда она принимает совсем необычный вид. У некоторых людей замечательная перцепционная память; такие люди могут бессознательно воспринять и запомнить, к примеру, все подробности летнего отпуска: людей, с которыми сталкивались, их одежду, привычки, всевозможные разговоры, события на пляже и пр. Другие люди таких подробностей запомнить не в состоянии, но у них может быть развита концептуальная память, позволяющая воспринять и запомнить нужную информацию в абстрактном, умозрительном виде. Перцепционная память присуща писателям и художникам, концептуальная память – ученым. Конечно, можно обладать и обоими видами памяти или их комбинацией в определенной пропорции. Чистая перцепционная память (иногда с небольшой долей концептуальной памяти) присуща людям, страдающим аутизмом. – Примеч. авт.]. Этот вывод можно отнести и к случаю Франко.