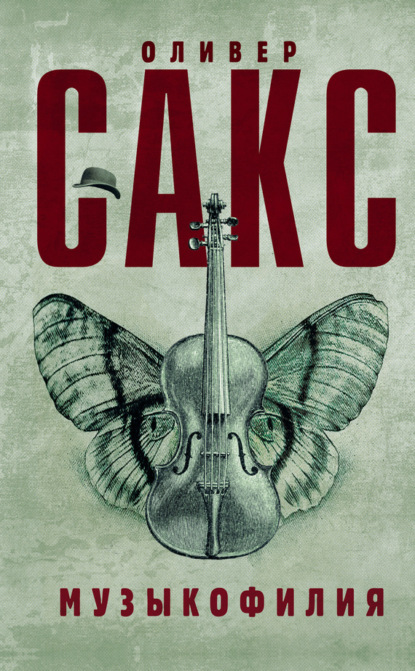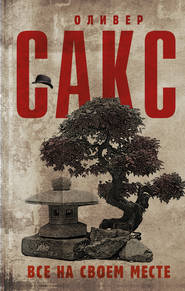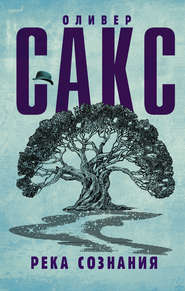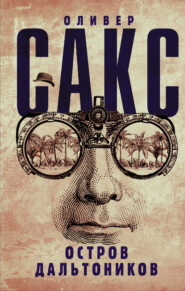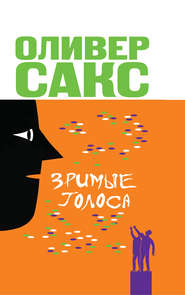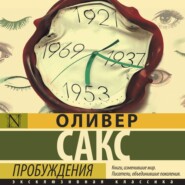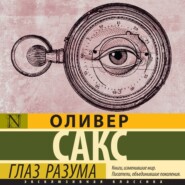По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Музыкофилия
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Иногда способность к формированию музыкальных образов переступает невидимую границу и становится, так сказать, патологической, как, например, в случаях, когда какой-то музыкальный фрагмент непрерывно звучит в голове целыми днями, доводя до исступления свою жертву. Эти повторы – зачастую речь идет о коротких, четко очерченных фразах или темах, состоящих из трех-четырех нот – прежде чем умолкнуть, крутятся в мозгу в течение многих часов, а иногда и суток. Такое бесконечное повторение и тот факт, что звучащая музыка может быть безразлична, может не нравиться, может даже вызывать отвращение, говорит о том, что это насильственный процесс, что музыка овладела частью мозга, принуждая его автоматически повторно разряжаться (как это происходит при тиках и судорожных припадках).
Некоторые люди заражаются тематической музыкой фильмов, телевизионных спектаклей или рекламы. Это не случайное совпадение, ибо такая музыка, если верить специалистам музыкальной индустрии, специально предназначена для того, чтобы «цеплять слушателей на крючок», чтобы становиться «прилипчивой» и «навязчивой». Словно уховертка, должна она проникать через слух в сознание, откуда и возник термин «слуховой червь», хотя лучше называть его «мозговым червем». (В 1987 году один популярный журнал полушутя назвал этих червей «когнитивной музыкальной заразой».)
Мой друг Ник Юнс рассказывал, как «подсел» на песню «Любовь и брак», мелодию которой написал Джеймс Ван Хейзен[11 - Старшее поколение хорошо помнит мелодию «Любви и брака», звучавшую в рекламе супов «Кэмпбелл» – «Суп и сэндвич». Ван Хейзен был мастером прилипчивых мелодий и написал десятки незабываемых (без иронии) песен, таких как «Высокие надежды», «Только одиночество» и «Летим со мной». Эти песни исполняли такие выдающиеся певцы, как Бинг Кросби, Фрэнк Синатра и другие. Многие произведения Ван Хейзена были использованы в телевизионных заставках и рекламных роликах.]. Единственного прослушивания этой песни в исполнении Фрэнка Синатры, вставленной в телевизионное шоу «Повенчаны… с детьми», хватило для того, чтобы прочно «зацепить» Ника. Темп мелодии захватил его, и песня неотвязно звучала в его голове в течение десяти дней. От бесконечного повторения мелодия утратила весь свой шарм, напевность, музыкальность и смысл. Музыка мешала преподавать, думать, лишила покоя и не давала спать. Ник пытался разными способами избавиться от навязчивой мелодии, но тщетно: «Я вставал с постели и принимался прыгать. Считал до ста. Споласкивал лицо холодной водой. Я пытался громко разговаривать сам с собой. Я затыкал уши ватой». В конце концов, песня все же умолкла, но после рассказа о ней вновь овладела несчастным Ником еще на несколько часов.
Несмотря на то что термин «слуховой червь» был впервые использован в восьмидесятые годы (как калька с немецкого слова Ohrwurm), сама концепция отнюдь не нова. Композитор и музыковед Николай Слонимский еще в двадцатые годы экспериментировал с изобретением музыкальных форм или фраз, способных закрепляться в мозгу и принуждать его к бесконечному повторению мелодий. Мало того, еще в 1876 году Марк Твен написал рассказ «Литературный кошмар», который потом переименовал в «Лупи, брат, Лу-Лу». В этом произведении рассказчик оказывается абсолютно беспомощным перед нахлынувшими на него «звенящими ритмами»:
«Они овладели мною мгновенно и без остатка. Во время завтрака они беспрестанно выплясывали вальс в моем бедном мозгу… Я сопротивлялся целый час, но все было бесполезно… Я решил прогуляться к центру города и по дороге обнаружил, что мои ноги маршируют в такт беспощадной музыке… Ритм командовал мною весь вечер, а потом я всю ночь ворочался, подпрыгивал и вертелся под преследовавший меня неумолчный звон».
Через два дня рассказчик встречает на улице своего друга, пастора, и невольно заражает его своим звоном, а пастор, в свою очередь, так же непреднамеренно заражает всех своих прихожан.
Что же – с точки зрения психологии и неврологии – происходит, когда мелодия или ритм так безраздельно овладевают человеком? Какие свойства и параметры делают музыку «опасной» и «заразной»? Какие-то особенности звучания, тембра, ритма, мелодики? Или повторение? Или, быть может, мозг настроен на особый эмоциональный резонанс или на эмоциональные ассоциации?
Самые ранние мозговые черви моего детства пробуждаются в моем мозгу при воспоминании о них – и это несмотря на то, что с момента их первого появления прошло больше шестидесяти лет. Многие из этих червей отчетливо оформлены музыкальными образами, тональные или мелодические особенности которых, возможно, сыграли роль в запечатлении их в моем сознании. Эти образы имели смысл и эмоциональную составляющую, так как в большинстве своем это еврейские песни и молитвы, говорившие о наследии и истории, питавшие чувство семейного тепла и единения. Одной из моих самых любимых была песня, которую пели после пасхального ужина – «Хад Гадья» (что по-арамейски значит «козленок»). В этой песне много раз повторялись одни и те же слова, и, мало того, ее (на иврите) пели очень часто в нашем ортодоксальном семействе. Повторения, которые с каждым куплетом становились все длиннее и длиннее, пелись с подчеркнутой скорбью и заканчивались заунывной квартой. Эта маленькая фраза из шести нот в минорном ключе повторялась (я считал!) сорок шесть раз. Это повторение, словно молотком, было прочно вбито в мою голову. Эта мелодия преследовала меня в течение всех восьми дней Пасхи, возникая в голове десятки раз в день, а потом постепенно отпускала – до следующего года. Действовали повторяемость и простота мелодии, или эта нелепая кварта факторами, облегчавшими нейронные разряды и формирование замкнутого круга возбуждения, который затем автоматически поддерживал сам себя? Или играл роль и мрачный настрой песни, и ее торжественный литургический контекст?
Правда, мне думается, что слова играют незначительную роль в прилипчивых и навязчивых мелодиях. Такие бессловесные музыкальные темы, как «Миссия невыполнима» или Пятая симфония Бетховена, могут быть столь же неотразимыми, как и музыкальное сопровождение рекламных роликов, в которых слова неотделимы от музыки (например, в рекламе «Алка-Зельцер» – «Plop, plop, fizz, fizz», или в рекламе Кит-Кэт – «Gimme a break, gimme a break»).
У тех же, кто страдает определенными неврологическими заболеваниями, воздействие мозговых червей и сопутствующих расстройств – эхоподобного, автоматического или компульсивного повторения звуков или слов – может значительно усилиться. Роуз Р., пациентка, страдавшая паркинсонизмом после перенесенного летаргического энцефалита (я писал об этом в книге «Пробуждения»), рассказала мне, что в состоянии оцепенения часто оказывалась «запертой», как она выражалась, в «музыкальном загоне» – семи парах нот (четырнадцати нотах «Povero Rigoletto»), которые безостановочно звучали в ее мозгу. Эти ноты образовывали «музыкальный четырехугольник», по периметру которого она без конца мысленно расхаживала. Это состояние длилось часами и с регулярными интервалами повторялось на протяжении всех сорока трех лет пребывания в оцепенении – до того момента, когда после начала приема леводопы к больной пришло освобождение.
Феномен мозгового червя напоминает механизм, посредством которого люди, страдающие синдромом Туретта, аутизмом или обсессивно-компульсивными расстройствами, оказываются во власти какого-либо слова или звука и начинают повторять его, как эхо, непрестанно, вслух или про себя, в течение подчас многих недель. Особенно отчетливо это проявлялось у Карла Беннетта, хирурга, страдавшего синдромом Туретта. Беннетта я описал в книге «Антрополог на Марсе». «В этих словах невозможно отыскать какой-то смысл, – говорил Беннетт. – Очень часто меня привлекает какой-то ничего не значащий звук. Этот странный звук, странное имя могут повторяться многократно, и это сводит меня с ума. Я привязываюсь к этому слову на два-три месяца. Потом, одним прекрасным утром, это слово оставляет меня в покое, но тотчас заменяется другим». Но если непроизвольное повторение движений, звуков или слов встречается у людей, страдающих синдромом Туретта, обсессивно-компульсивными расстройствами или поражением лобной доли головного мозга, то автоматическое или насильственное повторение музыкальных фраз – явление универсальное и является достоверным признаком поразительной, ошеломляющей и временами беспомощной чувствительности нашего мозга к музыке.
Возможно, патология и норма представляют собой непрерывный континуум, ибо, хотя мозговые черви могут, внезапно появляясь, сразу захватывать человека целиком, они возникают иногда вследствие сужения предшествующих, абсолютно нормальных музыкальных образов. С недавнего времени я наслаждаюсь мысленным прослушиванием Третьего и Четвертого фортепьянных концертов Бетховена в исполнении Леона Флейшера, записанных в шестидесятые годы. Эти прослушивания длятся от десяти до пятнадцати минут, причем концерты звучат от начала до конца. Эта музыка – незваный, но желанный гость, и появляется он два-три раза в день. Но однажды, во время тревожной бессонной ночи, музыка изменила свой характер. Теперь я слышал только быструю музыку начала Третьего концерта, слышал в течение десяти-пятнадцати секунд, а затем эта же фраза начинала звучать сначала, и так повторялось сотни раз. Было такое впечатление, что музыка попала в ловушку, в тесный замкнутый нейронный контур, из которого никак не могла вырваться. Слава богу, к утру ловушка открылась, и я снова смог наслаждаться целыми концертами.
Мозговые черви, как правило, стереотипны и не меняют свой характер. Обычно они имеют вполне определенный срок существования, на несколько часов или дней достигают своего апогея, а потом угасают, иногда оставляя след. Но даже в тех случаях, когда мозговой червь совершенно затихает, он, в действительности, не умирает, а лишь погружается в спячку и ждет своего часа. Повышенная чувствительность мозга никуда не девается, поэтому любой шум, ассоциация, напоминание о них могут разбудить червя. Иногда это происходит по прошествии многих лет. Черви почти всегда состоят из отдельных фрагментов. Они обладают свойствами, знакомыми любому специалисту по эпилепсии, ибо эта болезнь отчетливо помнит стиль поведения небольшого, внезапно разряжающегося судорожного очага, активность которого проявляется судорогами, а потом затихает, готовая в любой момент к новой вспышке.
Некоторые мои корреспонденты сравнивают мозгового червя с последовательными зрительными образами, а так как я склонен и к тому и к другому, то тоже чувствую это сходство. (Мы используем здесь термин «последовательный образ» в несколько нетрадиционном смысле и обозначаем им эффект более продолжительный, нежели мимолетное изображение, остающееся на сетчатке после восприятия какого-то внешнего образа, как, например, после экспозиции к яркому свету.) Если я, например, в течение нескольких часов вынужден внимательно читать записи ЭЭГ, то мне через несколько часов надо сделать перерыв, потому что я начинаю видеть кривые на стенах и потолке. Если я целый день провожу за рулем, то ночью иногда просыпаюсь от вида проносящихся мимо полей и живых изгородей. После морского путешествия я целый день ощущаю качку уже после того, как схожу на берег. Астронавты, возвращающиеся из длительных космических полетов, где они находились в невесомости, затрачивают несколько дней на то, чтобы снова научиться владеть своими «земными ногами». Все это – простые сенсорные эффекты, остаточная, следовая активация сенсорных систем низшего уровня в ответ на предшествующую чрезмерную стимуляцию. Мозговые черви, напротив, являются конструкциями сложного восприятия, и создаются они в структурах более высокого уровня головного мозга. Тем не менее оба феномена служат отражением того факта, что определенные стимулы, от кривых ЭЭГ и музыки до навязчивых мыслей, могут запускать следовую активность мозга.
У музыкальных образов и музыкальной памяти есть свойства, не имеющие эквивалентов в зрительной сфере, и это обстоятельство может пролить свет на фундаментальную разницу в обработке мозгом зрительных и музыкальных стимулов. Особенность музыки проистекает из того, что зрительно воспринимаемый нами мир нам приходится конструировать самим, при этом избирательность и личностные качества с самого начала примешиваются к зрительным воспоминаниям. В противоположность этому музыкальные пьесы мы получаем уже сконструированными, полностью готовыми. Визуальная или социальная сцена может быть сконструирована и реконструирована сотней разных способов, но воспоминание о музыкальном произведении всегда по необходимости очень близко к оригиналу. Конечно, мы слушаем воображаемую музыку избирательно, допуская вариации и интерпретации, но основные музыкальные характеристики пьесы – темп, ритм, мелодический рисунок и даже тембр и тональность – сохраняют удивительную точность и верность оригиналу.
Именно эта верность оригиналу – это практически беспрепятственное запечатление музыки в мозгу – играет решающую роль в нашей предрасположенности к определенным эксцессам или к патологии в формировании музыкальных образов и музыкальной памяти, эксцессам, которые могут иметь место даже у относительно немузыкальных людей.
В самой музыке, без сомнения, существует внутренняя тенденция к повторениям. Наша поэзия, наши баллады, наши песни полны повторений. Каждая пьеса классической музыки имеет свои повторяющиеся элементы или вариации одной и той же темы, а все наши великие композиторы – мастера повторов. Колыбельные песни, напевы и песенки, которыми мы облегчаем малышам обучение, содержат хоровые повторения. Нас влечет к повторениям даже после того, как мы становимся взрослыми; мы снова и снова хотим стимулов и вознаграждений – и получаем их в музыке. Возможно, поэтому нам не стоит удивляться и не стоит жаловаться на то, что равновесие временами нарушается и наша музыкальная чувствительность превращается в уязвимость.
Возможно ли, что слуховые черви – это сравнительно недавно появившийся феномен или, во всяком случае, феномен, недавно распознанный и распространившийся более широко, чем раньше? Несмотря на то что слуховые черви наверняка существуют с тех пор, как наш далекий предок впервые наиграл мелодию на костяной дудочке или выбил ритм на обрубке древесного ствола, очень важно понять и оценить, что сам термин появился лишь несколько десятилетий назад. Когда писал свои книги Марк Твен, в семидесятые годы девятнадцатого века, музыки было много, но она не была вездесущей. Надо было найти других людей, чтобы послушать пение (и поучаствовать в нем) – в церкви, на семейных торжествах, на вечерах. Для того чтобы послушать инструментальную музыку, человеку – если у него не было дома фортепьяно или другого инструмента – приходилось идти в церковь или в концертный зал. С появлением звукозаписи, радио и кино положение коренным образом изменилось. Музыка вдруг зазвучала всюду, мощь этого звучания возросла на порядки за последние два десятилетия, и сейчас музыка бомбардирует наш слух – хотим мы этого или нет.
Половина из нас затыкает себе уши динамиками айподов и погружается в нескончаемый концерт по заявкам, а те, у кого нет плееров, вынуждены слушать оглушительную музыку везде – в ресторанах, барах, магазинах и фитнес-клубах. Эта сокрушающая музыкальная лавина сильно напрягает нашу чувствительную слуховую систему, которой приходится дорого расплачиваться за эти непомерные перегрузки. Одним серьезным следствием является нарастание числа случаев снижения слуха, даже среди молодых людей, и в особенности среди музыкантов. Другим следствием всепроникающего присутствия музыки являются музыкальные навязчивости – прилипчивые мелодии, мозговые черви, непрошеными вползающие в головы и располагающиеся там на отпущенное им немалое время. Эти прилипчивые мелодии зачастую суть не что иное, как реклама зубной пасты, но наша нервная система не способна отразить их натиск.
6
Музыкальные галлюцинации
В декабре 2003 года мне пришлось консультировать Шерил К., интеллигентную дружелюбную женщину семидесяти лет. На протяжении пятнадцати предыдущих лет миссис К. страдала прогрессирующей двусторонней нервной тугоухостью. Всего за несколько месяцев до моей консультации она вполне справлялась со своей бедой, читая обращенную к ней речь по губам и пользуясь современными слуховыми аппаратами. Но в последнее время слух резко ухудшился. Отоларинголог предложил провести курс лечения преднизоном. Миссис К. принимала по схеме возрастающие дозы преднизона в течение недели и все это время превосходно себя чувствовала. «Но потом, – сказала она, – на седьмой или восьмой день – я тогда принимала по шестьдесят миллиграммов в сутки – я проснулась среди ночи от ужасающего шума. Было такое впечатление, что под окном отчаянно звенели трамваи. Я заткнула уши, но это нисколько не помогло. Звук был такой громкий, что мне захотелось выбежать из дома». Первой мыслью миссис К. было, что под окном остановилась пожарная машина с включенной сиреной, но когда больная выглянула в окно, то убедилась, что улица совершенно пустынна. Только тогда она поняла, что шум звучит у нее в голове, что у нее впервые в жизни начались галлюцинации.
Приблизительно через час гул и звон сменились музыкой: из «Звуков музыки» и части песни «Майкл, греби к берегу» – звучали по три-четыре ноты каждой мелодии, звучали в голове, причем с оглушающей громкостью. «Я поняла отчетливо, что оркестра рядом нет и музыка играет во мне, – подчеркнула больная. – Я боялась, что сойду с ума».
Лечащий врач предложил миссис К. уменьшить дозу преднизона, а несколько дней спустя консультировавший больную невролог назначил ей курс валиума. Между тем слух миссис К. восстановился до прежнего уровня, но ни снижение дозы преднизона, ни прием валиума не оказали ни малейшего влияния на галлюцинации. Больная продолжала слышать громкую музыку. Она умолкала только тогда, когда больная, как она выражалась, чем-то занимала свой ум – например, беседой или игрой в бридж. Галлюцинаторный репертуар миссис К. несколько расширился, но остался стереотипным и ограниченным, сводясь преимущественно к рождественским хоралам, песенкам из мюзиклов и патриотическим песням. Весь этот репертуар был ей хорошо знаком – больная была музыкально одарена и хорошо играла на фортепьяно. Все эти произведения она часто играла в колледже и на вечеринках.
Я спросил миссис К., почему она говорит о музыкальных «галлюцинациях», а не о музыкальных «образах».
– Это совершенно разные вещи! – воскликнула в ответ Шерил К. – Между ними такая же разница, как между мыслями о музыке и слушанием музыки.
Ее галлюцинации, подчеркнула она, не похожи на то, что ей приходилось переживать прежде. Во-первых, галлюцинации фрагментарны – пара нот из одного произведения, пара – из другого. Переключение с одной мелодии на другую происходит совершенно хаотично и случайно, иногда на середине ноты, словно проигрывают разбитые надтреснутые пластинки. Все это совершенно не похоже на ее обычную, связную и весьма послушную систему образов. Правда, больная признавала, что некоторое сходство все же существует, сходство с навязчивыми мелодиями, которые она, как и все люди, иногда слышит в голове. Но, в отличие от навязчивых мелодий, в отличие от всех мнимых образов, галлюцинациям характерна потрясающая реальность звучания.
В какой-то момент доведенная до отчаяния детскими песенками миссис К. попыталась заменить одну галлюцинацию на другую, для чего несколько дней кряду играла на пианино этюд Шопена. «Эта вещь задержалась в моем мозгу на пару дней, – сказала она. – В голове снова и снова звучала одна-единственная нота – знаменитое высокое фа». Больная начала бояться, что такими будут все ее галлюцинации – две, три, а то и одна нота, – высокими, пронзительными и невыносимо громкими, «как ля, которое преследовало Шумана в конце его жизни»[12 - Робер Журден в книге «Музыка, мозг и экстаз» цитирует дневники Клары Шуман, в которых она писала, что ее муж слышал«величественную музыку, а инструменты звучали прекраснее, чем это бывает в жизни». Один из его друзей рассказывал, что Шуман «признавался в том, что подвержен странному феномену… что внутренне он слышит чудесную музыку, законченную и абсолютно совершенную! Откуда-то издали доносятся удары литавр, подчиняющиеся величественной гармонии».Шуман, по всей видимости, страдал маниакально-депрессивными или шизо-аффективными расстройствами, а в конце жизни и нейросифилисом. В своей книге «Шуман: музыка и безумие» Петер Оствальд пишет, что в финале болезни галлюцинации, которые композитор иногда использовал для написания своих мелодий, полностью овладели Шуманом, выродившись сначала в «ангельскую», а затем и в «демоническую» музыку. В конечном итоге в мозгу Шумана непрестанно, с невыносимой громкостью начала сутками звучать единственная нота ля.]. Миссис К. очень любила Шарля Ива и боялась, что его музыка тоже может стать ее галлюцинациями. (В сочинениях Ива зачастую одновременно звучат две или более мелодии, иногда совершенно разные.) Она еще ни разу не слышала две галлюцинаторные мелодии одновременно, но опасается, что это может произойти.
Музыкальные галлюцинации не будят миссис К. по ночам, нет у нее и музыкальных сновидений. Когда миссис К. просыпается, в голове несколько секунд царит тишина, и больной остается только гадать, какой будет на этот раз «мелодия дня».
При неврологическом обследовании миссис К. мне не удалось найти ничего экстраординарного. Для исключения эпилепсии и поражения головного мозга больной сделали ЭЭГ и МРТ, никаких отклонений не выявили. Единственное отклонение от нормы – слишком громкий и плохо модулированный голос как следствие глухоты и нарушения слуховой обратной связи. Когда я обращался к миссис К., ей приходилось смотреть на меня, чтобы читать по губам. По своему неврологическому и психиатрическому статусу миссис К. была совершенно здорова, хотя, конечно, была сильно расстроена тем обстоятельством, что с ней происходит нечто, не поддающееся произвольному контролю. Она боялась также, что галлюцинации, возможно, являются симптомом душевного расстройства.
– Но почему только музыка? – спросила меня миссис К. – Если бы у меня был психоз, то не слышала бы я еще и голоса?
Ее галлюцинации, ответил я, являются признаком не психического, а неврологического расстройства. Это так называемые «освобождающие» галлюцинации. Если принять во внимание ее глухоту, то можно предположить, что слуховой отдел ее мозга, лишенный обычных входящих извне стимулов, начал генерировать собственную активность, а эта последняя приняла вид музыкальных галлюцинаций, отражающих воспоминания о музыке, связанные с прежней жизнью. Мозг должен все время проявлять активность, и если он не получает привычную информацию – не важно, звуковую или зрительную, – то начинает стимулировать сам себя галлюцинациями. Возможно, прием преднизона или резкое снижение слуха, по поводу которого он был назначен, способствовали достижению порога, за которым стали возникать галлюцинации.
Я добавил, что выполненные за последнее время исследования с применением методов визуализации показали, что «прослушивание» музыкальных галлюцинаций связано с повышенной активностью в определенных участках головного мозга: в височных долях, лобных долях, в базальных ганглиях и мозжечке – то есть в тех отделах головного мозга, которые активируются при восприятии «реальной» музыки. Таким образом, заключил я свои рассуждения, галлюцинации миссис К. не являются плодом воображения или симптомом психоза, они реальны и физиологичны.
– Все это очень интересно, – ответила миссис К., – но очень научно. Что вы можете сделать, чтобы прекратить галлюцинации? Или мне суждено жить с ними до конца дней? Это будет ужасная жизнь!
Я сказал, что мы не располагаем средствами «излечения» музыкальных галлюцинаций, но, возможно, удастся сделать их менее навязчивыми. Согласились мы на том, чтобы начать лечение габапентином (нейронтином) – лекарством, разработанным для лечения эпилепсии, но иногда полезным в смягчении аномально высокой активности головного мозга – не важно, носят ли эти расстройства эпилептический характер или нет.
Во время нашей следующей встречи миссис К. сообщила, что на фоне приема габапентина ее состояние ухудшилось – к музыкальным галлюцинациям присоединился громкий шум в ушах. Несмотря на это, больная не падала духом, так как теперь знала, что у ее галлюцинаций есть физиологическая причина и это не сумасшествие. По ходу событий миссис К. училась к ним приспосабливаться.
Больше всего ее расстраивали повторяющиеся музыкальные фрагменты. Например, она слышала куски «Америка прекрасна» шесть раз в течение шести минут (время засекал муж), а отрывки из «О придите, верующие» – девятнадцать с половиной раз в течение десяти минут. В одном случае звучавший фрагмент сократился до двух нот[13 - Диана Дойч из Калифорнийского университета в Сан-Диего, получавшая много писем от людей с музыкальными галлюцинациями, была поражена тем обстоятельством, что со временем эти галлюцинации съеживаются и сокращаются до очень маленьких фрагментов музыкальных фраз, иногда до одной-двух нот. Эти галлюцинации можно сравнить с фантомными ощущениями ампутированных конечностей. Фантомные конечности уменьшаются в размере – так, например, фантомная рука может съежиться до размеров лапки, растущей из плеча.]. «Я была бы счастлива услышать всю строфу», – говорила она.
Миссис К., кроме того, обнаружила, что, хотя мелодии повторялись в случайном порядке, тем не менее внушение, обстоятельства и контекст оказывали значительное формирующее влияние на содержание галлюцинаций. Так, однажды, когда она проходила мимо церкви, в голове оглушительно зазвучало «О придите, верующие», и больная вначале подумала, что пение доносится из храма. На следующий день, когда она пекла яблочный пирог, ее преследовала галлюцинация «Братца Жака».
Я решил назначить миссис К. другое лекарство, кветиапин (сероквель), которое неплохо зарекомендовало себя в лечении одного случая музыкальной галлюцинации[14 - Сообщение об этом случае было опубликовано Р. Р. Дэвидом и Х. Х. Фернандесом из университета Брауна.]. Хотя мы знали только об одном случае назначения кветиапина, лекарство это обладало минимальными побочными эффектами, и миссис К. согласилась принимать ежедневно его небольшую дозу. Но и кветиапин практически не подействовал.
Тем временем миссис К. без устали пыталась расширить свой галлюцинаторный репертуар, чувствуя, что в противном случае она будет каждый день слушать скудный и надоедливый набор из трех-четырех песен. Одной из таких добавок стала песня «Старик Миссисипи», исполняемая в нарочито замедленном темпе; это была, скорее, пародия на песню. Сама больная сомневалась, что когда-либо слышала ее в таком «смехотворном» исполнении, так что это была не «запись», а юмористическая вариация на тему музыкального воспоминания. Это был еще один шаг на пути овладения галлюцинациями. Теперь больная могла не только произвольно переключаться с одной галлюцинации на другую, но и творчески модифицировать их, пусть даже подсознательно, хотя прекратить музыку была по-прежнему не в состоянии. Теперь миссис К. уже не чувствовала себя беспомощной, пассивной жертвой; у нее появилось ощущение некоторой власти над галлюцинациями. «Я все еще целый день слышу музыку, – говорила она, – но то ли она стала тише, то ли я научилась ею управлять. Во всяком случае, настроение у меня значительно улучшилось».
В течение нескольких предыдущих лет миссис К. раздумывала о возможности имплантации протеза улитки, но не спешила с операцией, решив подождать, когда пройдут галлюцинации. Потом она узнала, что один нью-йоркский хирург выполнил имплантацию искусственной улитки больному с тяжелой тугоухостью, страдавшему музыкальными галлюцинациями. Имплантат не только восстановил слух, но и полностью устранил музыкальные галлюцинации. Эта новость воодушевила миссис К., и она решилась на операцию.
После активации имплантата – через месяц после установления – я позвонил миссис К., чтобы узнать, как она себя чувствует. Больная была охвачена радостным волнением и была на редкость говорливой. «У меня все замечательно! Я слышу каждое ваше слово! Установка имплантата – это лучшее решение, принятое мною в жизни».
Я осмотрел миссис К. через два месяца после установки имплантата. До операции голос ее был громким и немодулированным, но теперь, когда она обрела способность слышать собственную речь, она заговорила обычным, хорошо модулированным голосом, со всеми положенными тонами и обертонами, которых не было раньше. Больная могла теперь во время беседы смотреть по сторонам, хотя раньше была вынуждена, не отрываясь, смотреть на мои губы и лицо. Она была просто потрясена происшедшими изменениями. Когда я спросил миссис К., как дела, она ответила: «Очень хорошо. Я могу слышать внуков, по телефону я различаю мужские и женские голоса… Операция изменила мой мир».
К сожалению, не обошлось и без неприятных сюрпризов. Музыка перестала доставлять больной прежнее удовольствие. Теперь музыка звучала грубо, а из-за низкой избирательной чувствительности имплантированного прибора к звуковым частотам миссис К. перестала различать тональные интервалы – строительные блоки музыки.
Не заметила больная и каких-то изменений в своих галлюцинациях. «С моей музыкой имплантат, как мне кажется, ничего не сможет сделать, несмотря на восстановление звуковой стимуляции. Теперь это моя музыка. Похоже, в моей голове образовался вечный замкнутый контур. Думаю, это навсегда»[15 - У Майкла Шоро опыт жизни с кохлеарным имплантатом оказался совершенно иным. Свои переживания он описал в книге «Перестройка: как, став отчасти компьютером, я научился быть более человечным»:«Через пару недель после активации имплантата безумный оркестр в моей голове уволил большую часть своих музыкантов. Имплантат затмил галлюцинации так же, как солнце затмевает звезды. Когда я вынимаю из уха микрофон, я все еще слышу какой-то отдаленный рокот, но теперь это не рев реактивного двигателя, не гомон ресторанного зала и не джаз-банд, наяривающий на ударных.Моя слуховая кора словно говорит мне: «Если ты не обеспечишь меня звуками, я создам их сама». Что она и делала – прямо пропорционально степени потери слуха. Но теперь она насытилась и радостно умолкла.Поняв это, я спокойно разделся, лег спать и насладился наконец благословенной тишиной».].
Несмотря на то, что миссис К. продолжает говорить о галлюцинирующей части своего сознания как о механизме, он перестал быть для нее чем-то чуждым. Больная, по ее словам, пыталась примириться и даже подружиться со своими галлюцинациями.
В 1999 году ко мне обратился Дуайт Мамлок, интеллигентный человек семидесяти пяти лет, страдавший глухотой к высоким частотам. Больной рассказал мне, как он впервые стал «слышать музыку» – это случилось в 1989 году во время перелета из Нью-Йорка в Калифорнию. Звучание музыки было, очевидно, спровоцировано шумом авиационных двигателей, и действительно, после посадки музыка умолкла. Но с тех пор каждый полет на самолете проходил для мистера Мамлока с музыкальным сопровождением. Сам больной находил это странным, иногда забавным, подчас раздражающим, но не придавал «музыке» большого значения.
Но летом 1999 года, когда мистер Мамлок летел в Калифорнию, ситуация радикально изменилась, ибо на этот раз музыка продолжала звучать и после того, как он вышел из самолета. До самого обращения, в течение трех месяцев, музыка безостановочно звучала в его мозгу. Приступ начинался с жужжащего звука, который затем трансформировался в музыку. Громкость музыки менялась, громче всего она звучала в шумной обстановке, например, в поезде метро. Больной с трудом переносил музыку, так как она была нескончаемой, неконтролируемой и навязчивой. Она мешала работать днем и спать ночью. Музыка начинала звучать через несколько минут после пробуждения от глубокого сна, а иногда и через считаные секунды. Хотя музыка зависела от уровня внешнего шума, мистер Мамлок, так же, как и Шерил К., заметил, что она становится тише или даже исчезает вовсе, если занять внимание чем-то другим – пойти на концерт, смотреть телевизор, участвовать в оживленной беседе или заняться чем-то еще.
Когда я спросил мистера Мамлока, какую музыку он слышит, больной сердито ответил, что она «тональная» и «сентиментальная». Этот подбор прилагательных показался мне интригующим, и я спросил больного, почему он выбрал именно их. Мамлок объяснил, что его жена – композитор, сочиняющий атональную музыку, что и сам он любит Шёнберга и других мастеров атональной музыки, хотя ему нравится и классика, особенно камерная. Все началось, рассказал Мамлок, с немецкой рождественской песенки (больной тут же ее напел), затем последовали другие рождественские песенки и колыбельные. Потом зазвучали марши, преимущественно нацистские. Эти марши он слышал в тридцатые годы, так как детство провел в Гамбурге. Они портили настроение, потому что Мамлок – еврей и жил в постоянном страхе перед мальчишками из «Гитлерюгенда», которые группами рыскали по улицам, разыскивая евреев. Маршевые песни преследовали мистера Мамлока в течение месяца (так же, как и колыбельные, которые предшествовали маршам), а потом «пропали и рассеялись». После маршей в мозгу зазвучали фрагменты Пятой симфонии Чайковского, но и она не доставила ему удовольствия. «Слишком шумная, эмоциональная, похожа на рапсодию».
Мы решили прибегнуть для начала к габапентину в дозе 300 миллиграммов три раза в день. Больной сообщил, что галлюцинации стали слабее и перестали возникать спонтанно, хотя продолжали провоцироваться внешними шумами, например, стуком пишущей машинки. Больной писал: «Это лекарство совершило чудо. Самая раздражающая музыка совершенно выветрилась из моей головы. Жизнь моя значительно изменилась в лучшую сторону».