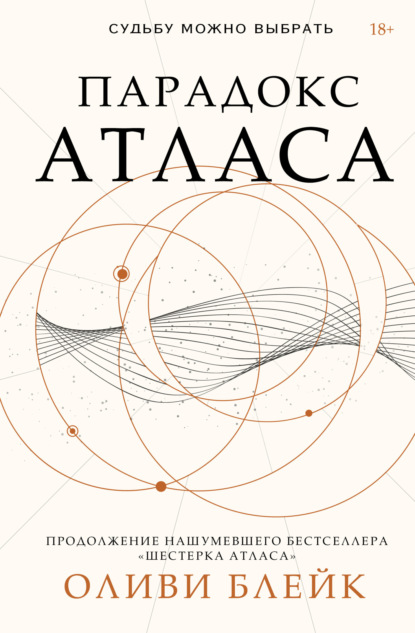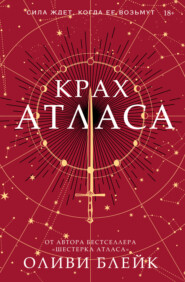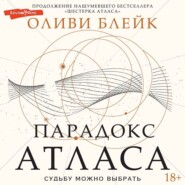По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Парадокс Атласа
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Как будто решение Тристана убить Каллума – не предательство только потому, что он потом передумал. Как будто все, чем Каллум делился с ним: каждой сокровенной мыслью, личным признанием, – это ложь, а если не ложь, то пустячок, растереть и выбросить.
Страшнее, прикинул Каллум, будет столкнуться с Нико. Физическими силами Каллум управлял плохо и не выдержал бы даже слабого землетрясения, а самое поганое – у Нико не было эмоциональных травм, которые можно было бы использовать. Да, он потерял Либби, но вряд ли сокрушался по этому поводу. К тому же Нико питал безумную веру в то, что Либби еще жива, и это никак не годилось в качестве рычага управления. Вот Рэйну хотя бы не отпускало что-то по-настоящему мрачное, нечто из прошлого, что она бережно спрятала в клетку и заморозила во льду. Нико же был сосредоточен исключительно на светлом будущем, и над близким горизонтом для него всегда светило яркое солнце.
И вот, когда перед Каллумом развернулась проекция, он приготовился либо раздражаться, либо тревожиться. Ждал он, как ему показалось, долго.
Так долго, что успел налить себе выпить и устроиться на диване в раскрашенной комнате.
– Ну и, – прозвучало у него за спиной, – сам скажешь им или мне это сделать?
Услышав знакомый голос, Каллум чуть не поперхнулся, и скотч обжег ему горло так, что брызнули слезы. Этот голос постоянно звучал у него в голове нестихающим скрежетом. Надменный, напыщенный, с растянутыми гласными.
– Я быстро управлюсь, – пообещала проекция. Краем глаза Каллум увидел рукав кашемирового свитера серо-зеленого цвета.
Любимый цвет матери.
Он вроде как подчеркивает оттенок ее глаз.
– Значит, так, – сказала его же проекция, налив себе и усевшись напротив. – Давай будем откровенны с самими собой.
Проекция в ожидании замолчала, и надолго установилась тишина.
Затем проекция хмыкнула:
– Значит, скажу я. Отлично. Ты никому не нужен, особенно самому себе.
Чувствуя в горле неприятное жжение от скотча, Каллум смотрел на себя, на того, кого даже не думал увидеть, а ведь это и был наихудший сценарий. Все иллюзии, которые он когда-то на себя наложил, были на месте, но при этом выглядели как-то топорно, поддельно и выпирали настолько заметно, что любой их распознал бы. Призванные навести красоту, они стремились к ней, но так и не достигали цели. Совсем как в представлениях самого Каллума.
Тут он вспомнил, что Атлас Блэйкли тоже следит за ним, и подумал: «А…»
Не убить, так хоть поиздеваться.
– Дело в том, – продолжал он-проекция, закинув ногу на ногу, – что они, знаешь ли, правы. Тебя не должно быть. Есть в тебе нечто неправильное, и ты, к своей чести, всегда это знал. – Проекция пригубила напиток и молча посмотрела на Каллума. – Остановишь меня? Ведь если нет, – предупредила она, – все они узнают, что ты подделка. Не то чтобы это имело значение. Они все равно тебя ненавидят.
Фантом рассмеялся в его собственной гнусной манере и допил остатки скотча из стакана. Со стороны этот хохот казался еще более гадким.
– Твоя беда, Каллум, именно в том, на что указал Атлас Блэйкли. У тебя нет воображения, – сообщила проекция, неожиданно поднимаясь на ноги. – Вспомни наказания, которым ты кого-либо подвергал. То же ты проделываешь сам с собой ежедневно. Каждую минуту. Твоя боль хроническая. Твое существование не имеет смысла. И когда твое сознание погаснет, а оно погаснет, – дерзко подмигнула проекция, поднимая пустой стакан, – то станет казаться, будто тебя и не было вовсе. Как только твое влияние сгинет, не останется ни любовников, ни семьи, ни друзей – никого, кто помянул бы тебя добрым словом. О тебе не останется теплых воспоминаний, кроме тех, что ты сам вложил им всем в головы, да и те бесследно растают, едва тебе наступит конец. Тебя забудут тотчас же, а эта твоя безграничная сила, эти твои громадные способности, – пояснил с усмешкой фантом, будто ему доставляло особое удовольствие давить именно на эту болевую точку, – совсем не пустяковые, кстати, пропадут к чертям в тени того, насколько ты вопиюще, абсолютно бестолков. Перестав существовать, ты ничего после себя не оставишь.
Каллум-проекция скорчил гримасу отвращения и беззаботно отшвырнул стакан, который, упав, не разбился, а развеялся, словно пыль на ветру.
– Всякий, кто взглянет на тебя, станет свидетелем финала твоей трагедии, – глумливо сказала проекция. – Но при этом никто не взгрустнет.
Настоящий Каллум некоторое время смотрел на стакан у себя в руке.
– Все твои потуги основаны на заблуждении, будто хоть что-то из этого для меня новость.
– Потуги? Нет, все это легко, – ответила проекция, паясничая в лучших традициях самого Каллума.
– Ну и что тебе нужно? Чтобы я сам себя уничтожил?
– Разумеется, нет. Как ты не видишь? Мне плевать, что ты с собой сотворишь. Всем плевать. Мне все равно, будешь ли ты жить или сдохнешь. Разве не очевидно?
– И как же мне тогда победить? – равнодушно спросил Каллум.
– Ты не победишь. Это не игра, не проверка. Это просто твоя жизнь. – Его альтернативное «Я» беспокойно прошло к камину и коснулось часов на полке. – Никто не побеждает, Каллум. Никто не проигрывает. Ты понимаешь это как никто другой. Все умирают. – Фантом обернулся. – В конце концов умирает все.
– Смотрю, я – прямо душа компании, – сухо заметил Каллум.
– О, еще какая, – согласился он-проекция, снова оборачиваясь. – Но это, собственно, и все. Душа компании. Держишься непринужденно, легко идешь в ногу со временем: со своими тревогами, скукой и неразборчивой злобой. Ну разве не жутко весело? – передразнила его проекция. – Твоя отстраненность, размышления о мире… все это очень забавно, не так ли? О, люди ужасны. – Фантом театрально поднес руку ко лбу. Этот гнусавый голос был голосом самого Каллума, но раздражал нахальностью тона. – Они слабы, несовершенны, интересны только своей ужасной хаотичностью, и мы их ненавидим, однако не за то, какие они скучные и предсказуемые. – В этой улыбке, улыбке самого Каллума, так и сквозило лицемерие. Проекция понизила голос и, хищно глядя Каллуму прямо в глаза, сказала: – Все потому, что они такие мелкие, кошмарно непримечательные, ничтожные, примитивные и глупые, но все равно не потратят и унции своей любви на тебя, как бы отчаянно ты ее ни желал.
У Каллума пересохло в горле, и он рассеянно отпил скотч.
– Конечно же они тебя не любят, – рассмеялся фантом. – А если бы и любили, то как узнать, не сам ли ты привил им это чувство?
Каллум в ответ лишь сложил руки на колене. Париса там, наверное, уже ликовала. Но есть и плюсы: Тристану, с его бесконечными приключениями в экзистенциальном болоте, наверняка стало чуть легче.
– Расскажи им, как все устроено, – предложила проекция, и в ее невыносимо синих глазах блеснул огонек безрассудства. – Расскажи, как это больно. В конце концов, тебе выпал шанс. – Ее лицо осветилось злорадством. – Или можешь поведать им правду. Откуда ты все о них знаешь. Как библиотека раскрыла тебе их подноготную, обо всех скелетах в шкафах и мелочах. Скажи то же, что и Тристану, раз уж на то пошло. – Снова этот грубый смешок. – В кои-то веки можешь и честность проявить, Каллум. Если они и выслушают тебя, то сейчас.
Это, конечно, была какая-то ловушка. Каллум без малейшего сожаления понимал, что остальные невысокого мнения о его способностях и считают его физическую магию весьма ограниченной. Но ведь физика повсюду, разве нет? Все они – физические существа, а не аморфные пузыри. И раз уж ты живешь в физическом теле, подчиняясь законам физики, это уже накладывает на тебя некие исходные ограничения: магия – это вопрос перехода и преодолений. Все просто: нельзя создать нечто из пустоты, как не создать пустоту из чего-то.
Когда остальные видели Каллума в деле, они просто не понимали, что такое они, собственно, видят. Весь год они наблюдали уже готовые результаты: нервозность Либби, поражение Парисы, ненависть Тристана – это были единственные доказательства того, что Каллум в принципе наделен магическим даром. Все остальное они узнавали с чужих слов и пояснений. Ослабляя тревогу Либби, Каллум взял ее на себя. Облегчая и меняя боль Тристана, нашел в себе силы сдержать ее. Что до Парисы…
С ней на самом деле оказалось не так уж и трудно работать. В конце концов, она мало чем отличалась от Каллума, и чего остальные не видели, так это того, как легко, без усилий Каллум подводит ее к переломному моменту. Они-то думали, будто видят его манипуляции, хотя на деле им открывалась упрощенная правда Парисы – такая, с которой невозможно жить, если искусно и упрямо ее не подавлять.
Вот только за свою магию Каллум платил высокую цену. Например, создавая вакуум для защиты домовых чар, он опустошил сам себя. Творя жидкую прослойку внутри чар Общества, он был вынужден поглотить все, что наполняло это Общество прежде: ужас, тревогу, тоску, одиночество, зависть, гордыню… И все эти чувства затем распирали его, вырываясь из груди, прожигая этот сосуд; и не важно, кем был или не был Каллум Нова, восстанавливался он очень медленно. Ему, как и простому смертному, требовалось время.
Именно Каллум позднее собирал себя по кусочкам. Не то чтобы кто-то знал об этом и тревожился, но и Каллума это не сильно заботило. Жалости он предпочитал ненависть, а милосердию – недоверие. Последнее – вообще дым, кисея, тонкая мембрана, в которую тебя пеленают как в кокон. Медленно, постепенно, пока не начнешь задыхаться.
Уловив эту волну чувств, которой Каллум по недоразумению позволил подняться, его проекция продолжила паясничать:
– Думаешь, они знают, что значит любить по-настоящему? Ведь любовь – это не просто радость и нежность. Это же дикое и разрушительное чувство. Надо вырезать сердце у себя из груди и отдать его кому-то другому. – Фантом скосил взгляд на Каллума, но тот не поднял головы. – Забота о ком-то или о чем-то неизбежно связана со страданием. Что такое, в конце концов, сострадание? – Проекция Каллума выдержала эффектную паузу, словно готовясь произнести финал шутки, ведь некоторая доля шутки в этом и правда была. – Переживать то же, что и кто-то другой, значит изводить себя двойной болью, – беззаботно, словно поднимая бокал на домашней вечеринке, проговорила она. – Все эти незначительные мелкие эмоции, досадные минусы сосуществования, которые ты якобы так ненавидишь. Когда их меняешь, ты должен к чему-то прийти. Не так ли?
– Должен прийти, – непринужденно повторил Каллум просто из вежливости.
– О, и это, конечно же, бремя, – заверила его собственная проекция. – Ежедневные муки будничного существования. Желание недоступного, дорога, на которую тебе нельзя свернуть, и прочее в том же духе… Все это подчинение коллективному менталитету, некая атавистическая схема в твоей генетике. Вроде миграции китов, – вслух размышляла она, – или животного импульса к спариванию, который мы время от времени испытываем.
Каллум взглянул на пустой стакан в руке, прикидывая, не выпить ли еще.
– Мне кажется, что даже такая прорва дерьма внутри не больно-то нас обременяет, – вкрадчиво сказал он.
– Может быть, – согласилась проекция и замерла. – Ты что, пытаешься мной манипулировать?
– Разве? – Каллум выпрямил сведенные судорогой пальцы. Как и в условиях любой хронической болезни, жизнь для него была вопросом приспособления к боли, а не какого-то там мифического, недостижимого избавления от нее. Фишка в том, чтобы играть с болью до тех пор, пока она не перестанет донимать.
– Не поможет, – сказала проекция невыносимо снисходительным тоном.
– Ну что ж, – Каллум притянул к себе бутылку виски, решив, что стакан для него – это смехотворно мало, – ты должен признать, что попытка того стоила.
Проекция невесело улыбнулась.
Страшнее, прикинул Каллум, будет столкнуться с Нико. Физическими силами Каллум управлял плохо и не выдержал бы даже слабого землетрясения, а самое поганое – у Нико не было эмоциональных травм, которые можно было бы использовать. Да, он потерял Либби, но вряд ли сокрушался по этому поводу. К тому же Нико питал безумную веру в то, что Либби еще жива, и это никак не годилось в качестве рычага управления. Вот Рэйну хотя бы не отпускало что-то по-настоящему мрачное, нечто из прошлого, что она бережно спрятала в клетку и заморозила во льду. Нико же был сосредоточен исключительно на светлом будущем, и над близким горизонтом для него всегда светило яркое солнце.
И вот, когда перед Каллумом развернулась проекция, он приготовился либо раздражаться, либо тревожиться. Ждал он, как ему показалось, долго.
Так долго, что успел налить себе выпить и устроиться на диване в раскрашенной комнате.
– Ну и, – прозвучало у него за спиной, – сам скажешь им или мне это сделать?
Услышав знакомый голос, Каллум чуть не поперхнулся, и скотч обжег ему горло так, что брызнули слезы. Этот голос постоянно звучал у него в голове нестихающим скрежетом. Надменный, напыщенный, с растянутыми гласными.
– Я быстро управлюсь, – пообещала проекция. Краем глаза Каллум увидел рукав кашемирового свитера серо-зеленого цвета.
Любимый цвет матери.
Он вроде как подчеркивает оттенок ее глаз.
– Значит, так, – сказала его же проекция, налив себе и усевшись напротив. – Давай будем откровенны с самими собой.
Проекция в ожидании замолчала, и надолго установилась тишина.
Затем проекция хмыкнула:
– Значит, скажу я. Отлично. Ты никому не нужен, особенно самому себе.
Чувствуя в горле неприятное жжение от скотча, Каллум смотрел на себя, на того, кого даже не думал увидеть, а ведь это и был наихудший сценарий. Все иллюзии, которые он когда-то на себя наложил, были на месте, но при этом выглядели как-то топорно, поддельно и выпирали настолько заметно, что любой их распознал бы. Призванные навести красоту, они стремились к ней, но так и не достигали цели. Совсем как в представлениях самого Каллума.
Тут он вспомнил, что Атлас Блэйкли тоже следит за ним, и подумал: «А…»
Не убить, так хоть поиздеваться.
– Дело в том, – продолжал он-проекция, закинув ногу на ногу, – что они, знаешь ли, правы. Тебя не должно быть. Есть в тебе нечто неправильное, и ты, к своей чести, всегда это знал. – Проекция пригубила напиток и молча посмотрела на Каллума. – Остановишь меня? Ведь если нет, – предупредила она, – все они узнают, что ты подделка. Не то чтобы это имело значение. Они все равно тебя ненавидят.
Фантом рассмеялся в его собственной гнусной манере и допил остатки скотча из стакана. Со стороны этот хохот казался еще более гадким.
– Твоя беда, Каллум, именно в том, на что указал Атлас Блэйкли. У тебя нет воображения, – сообщила проекция, неожиданно поднимаясь на ноги. – Вспомни наказания, которым ты кого-либо подвергал. То же ты проделываешь сам с собой ежедневно. Каждую минуту. Твоя боль хроническая. Твое существование не имеет смысла. И когда твое сознание погаснет, а оно погаснет, – дерзко подмигнула проекция, поднимая пустой стакан, – то станет казаться, будто тебя и не было вовсе. Как только твое влияние сгинет, не останется ни любовников, ни семьи, ни друзей – никого, кто помянул бы тебя добрым словом. О тебе не останется теплых воспоминаний, кроме тех, что ты сам вложил им всем в головы, да и те бесследно растают, едва тебе наступит конец. Тебя забудут тотчас же, а эта твоя безграничная сила, эти твои громадные способности, – пояснил с усмешкой фантом, будто ему доставляло особое удовольствие давить именно на эту болевую точку, – совсем не пустяковые, кстати, пропадут к чертям в тени того, насколько ты вопиюще, абсолютно бестолков. Перестав существовать, ты ничего после себя не оставишь.
Каллум-проекция скорчил гримасу отвращения и беззаботно отшвырнул стакан, который, упав, не разбился, а развеялся, словно пыль на ветру.
– Всякий, кто взглянет на тебя, станет свидетелем финала твоей трагедии, – глумливо сказала проекция. – Но при этом никто не взгрустнет.
Настоящий Каллум некоторое время смотрел на стакан у себя в руке.
– Все твои потуги основаны на заблуждении, будто хоть что-то из этого для меня новость.
– Потуги? Нет, все это легко, – ответила проекция, паясничая в лучших традициях самого Каллума.
– Ну и что тебе нужно? Чтобы я сам себя уничтожил?
– Разумеется, нет. Как ты не видишь? Мне плевать, что ты с собой сотворишь. Всем плевать. Мне все равно, будешь ли ты жить или сдохнешь. Разве не очевидно?
– И как же мне тогда победить? – равнодушно спросил Каллум.
– Ты не победишь. Это не игра, не проверка. Это просто твоя жизнь. – Его альтернативное «Я» беспокойно прошло к камину и коснулось часов на полке. – Никто не побеждает, Каллум. Никто не проигрывает. Ты понимаешь это как никто другой. Все умирают. – Фантом обернулся. – В конце концов умирает все.
– Смотрю, я – прямо душа компании, – сухо заметил Каллум.
– О, еще какая, – согласился он-проекция, снова оборачиваясь. – Но это, собственно, и все. Душа компании. Держишься непринужденно, легко идешь в ногу со временем: со своими тревогами, скукой и неразборчивой злобой. Ну разве не жутко весело? – передразнила его проекция. – Твоя отстраненность, размышления о мире… все это очень забавно, не так ли? О, люди ужасны. – Фантом театрально поднес руку ко лбу. Этот гнусавый голос был голосом самого Каллума, но раздражал нахальностью тона. – Они слабы, несовершенны, интересны только своей ужасной хаотичностью, и мы их ненавидим, однако не за то, какие они скучные и предсказуемые. – В этой улыбке, улыбке самого Каллума, так и сквозило лицемерие. Проекция понизила голос и, хищно глядя Каллуму прямо в глаза, сказала: – Все потому, что они такие мелкие, кошмарно непримечательные, ничтожные, примитивные и глупые, но все равно не потратят и унции своей любви на тебя, как бы отчаянно ты ее ни желал.
У Каллума пересохло в горле, и он рассеянно отпил скотч.
– Конечно же они тебя не любят, – рассмеялся фантом. – А если бы и любили, то как узнать, не сам ли ты привил им это чувство?
Каллум в ответ лишь сложил руки на колене. Париса там, наверное, уже ликовала. Но есть и плюсы: Тристану, с его бесконечными приключениями в экзистенциальном болоте, наверняка стало чуть легче.
– Расскажи им, как все устроено, – предложила проекция, и в ее невыносимо синих глазах блеснул огонек безрассудства. – Расскажи, как это больно. В конце концов, тебе выпал шанс. – Ее лицо осветилось злорадством. – Или можешь поведать им правду. Откуда ты все о них знаешь. Как библиотека раскрыла тебе их подноготную, обо всех скелетах в шкафах и мелочах. Скажи то же, что и Тристану, раз уж на то пошло. – Снова этот грубый смешок. – В кои-то веки можешь и честность проявить, Каллум. Если они и выслушают тебя, то сейчас.
Это, конечно, была какая-то ловушка. Каллум без малейшего сожаления понимал, что остальные невысокого мнения о его способностях и считают его физическую магию весьма ограниченной. Но ведь физика повсюду, разве нет? Все они – физические существа, а не аморфные пузыри. И раз уж ты живешь в физическом теле, подчиняясь законам физики, это уже накладывает на тебя некие исходные ограничения: магия – это вопрос перехода и преодолений. Все просто: нельзя создать нечто из пустоты, как не создать пустоту из чего-то.
Когда остальные видели Каллума в деле, они просто не понимали, что такое они, собственно, видят. Весь год они наблюдали уже готовые результаты: нервозность Либби, поражение Парисы, ненависть Тристана – это были единственные доказательства того, что Каллум в принципе наделен магическим даром. Все остальное они узнавали с чужих слов и пояснений. Ослабляя тревогу Либби, Каллум взял ее на себя. Облегчая и меняя боль Тристана, нашел в себе силы сдержать ее. Что до Парисы…
С ней на самом деле оказалось не так уж и трудно работать. В конце концов, она мало чем отличалась от Каллума, и чего остальные не видели, так это того, как легко, без усилий Каллум подводит ее к переломному моменту. Они-то думали, будто видят его манипуляции, хотя на деле им открывалась упрощенная правда Парисы – такая, с которой невозможно жить, если искусно и упрямо ее не подавлять.
Вот только за свою магию Каллум платил высокую цену. Например, создавая вакуум для защиты домовых чар, он опустошил сам себя. Творя жидкую прослойку внутри чар Общества, он был вынужден поглотить все, что наполняло это Общество прежде: ужас, тревогу, тоску, одиночество, зависть, гордыню… И все эти чувства затем распирали его, вырываясь из груди, прожигая этот сосуд; и не важно, кем был или не был Каллум Нова, восстанавливался он очень медленно. Ему, как и простому смертному, требовалось время.
Именно Каллум позднее собирал себя по кусочкам. Не то чтобы кто-то знал об этом и тревожился, но и Каллума это не сильно заботило. Жалости он предпочитал ненависть, а милосердию – недоверие. Последнее – вообще дым, кисея, тонкая мембрана, в которую тебя пеленают как в кокон. Медленно, постепенно, пока не начнешь задыхаться.
Уловив эту волну чувств, которой Каллум по недоразумению позволил подняться, его проекция продолжила паясничать:
– Думаешь, они знают, что значит любить по-настоящему? Ведь любовь – это не просто радость и нежность. Это же дикое и разрушительное чувство. Надо вырезать сердце у себя из груди и отдать его кому-то другому. – Фантом скосил взгляд на Каллума, но тот не поднял головы. – Забота о ком-то или о чем-то неизбежно связана со страданием. Что такое, в конце концов, сострадание? – Проекция Каллума выдержала эффектную паузу, словно готовясь произнести финал шутки, ведь некоторая доля шутки в этом и правда была. – Переживать то же, что и кто-то другой, значит изводить себя двойной болью, – беззаботно, словно поднимая бокал на домашней вечеринке, проговорила она. – Все эти незначительные мелкие эмоции, досадные минусы сосуществования, которые ты якобы так ненавидишь. Когда их меняешь, ты должен к чему-то прийти. Не так ли?
– Должен прийти, – непринужденно повторил Каллум просто из вежливости.
– О, и это, конечно же, бремя, – заверила его собственная проекция. – Ежедневные муки будничного существования. Желание недоступного, дорога, на которую тебе нельзя свернуть, и прочее в том же духе… Все это подчинение коллективному менталитету, некая атавистическая схема в твоей генетике. Вроде миграции китов, – вслух размышляла она, – или животного импульса к спариванию, который мы время от времени испытываем.
Каллум взглянул на пустой стакан в руке, прикидывая, не выпить ли еще.
– Мне кажется, что даже такая прорва дерьма внутри не больно-то нас обременяет, – вкрадчиво сказал он.
– Может быть, – согласилась проекция и замерла. – Ты что, пытаешься мной манипулировать?
– Разве? – Каллум выпрямил сведенные судорогой пальцы. Как и в условиях любой хронической болезни, жизнь для него была вопросом приспособления к боли, а не какого-то там мифического, недостижимого избавления от нее. Фишка в том, чтобы играть с болью до тех пор, пока она не перестанет донимать.
– Не поможет, – сказала проекция невыносимо снисходительным тоном.
– Ну что ж, – Каллум притянул к себе бутылку виски, решив, что стакан для него – это смехотворно мало, – ты должен признать, что попытка того стоила.
Проекция невесело улыбнулась.