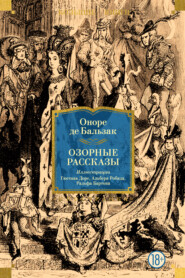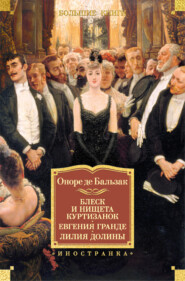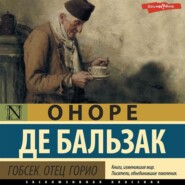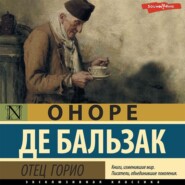По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Сочинения
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Что делать! – отвечал Эжен. – Мне всего-навсего двадцать два года! Надо уметь сносить невзгоды такого возраста. Кроме того, сейчас я исповедуюсь, а чтобы преклонить для этого колена, не найдешь исповедальни прелестнее, чем эта; правда, в таких исповедальнях только грешишь, а каешься в других.
Герцогиня холодно выслушала эту святотатственную болтовню и осудила ее за дурной тон, сказав виконтессе:
– Кузен ваш еще новичок…
Госпожа де Босеан от всего сердца посмеялась над герцогиней и своим кузеном.
– Да, моя дорогая, он новичок и ищет себе наставницу, которая преподала бы ему хороший тон.
– Герцогиня, – вновь обратился к ней Эжен, – мне кажется, желанье быть посвященным в тайны того, что нас пленяет, вполне естественно, не правда ли? («Однако, – подумал он, – для разговора с ними я изобретаю фразы, достойные любого парикмахера».)
– Но, думается мне, графиня де Ресто сама является ученицей господина де Трай, – возразила герцогиня.
– Мне это было совершенно неизвестно, – ответил студент. – Вот почему я глупейшим образом вклинился между ними. В конце концов я довольно хорошо поладил с мужем и видел, что его супруга покуда еще терпит мое присутствие, как вдруг угораздило меня сказать им, что я знаком с тем человеком, который в коридоре поцеловал графиню и на моих глазах вышел черным ходом из дома во двор.
– Кто же это такой? – спросили обе дамы.
– Один старик; живет он на два луидора в месяц, в глуши предместья Сен-Марсо, там же, где и я, бедняга-студент; это поистине несчастный человек, посмешище для всех, и мы его прозвали «папаша Горио».
– Да вы действительно младенец! – воскликнула виконтесса. – Ведь графиня де Ресто – в девицах Горио.
– Дочь вермишельщика, – добавила герцогиня, – мещаночка, представленная ко двору в один день с дочерью придворного пирожника. Клара, вы не помните? Король еще рассмеялся и сказал по-латыни какую-то остроту насчет муки: люди… ну как это?.. люди…
– Ejusdem farinae,[34 - Из одного теста (лат.). Буквально: «Из той же муки».] – подсказал Эжен.
– Совершенно верно, – подтвердила герцогиня.
– И он ее отец! – произнес студент, выражая на лице ужас.
– Ну да; у этого чудака две дочери, и он с ума сходит по ним, хотя и та и другая почти отказались от него.
– Вторая – это не та ли, что замужем за банкиром с немецкой фамилией, за каким-то бароном Нусингеном? – спросила виконтесса, обращаясь к герцогине де Ланже. – Ее зовут Дельфиной, не правда ли? Она блондинка, у нее боковая ложа в Опере; она бывает также у Буфонов и, чтобы привлечь к себе внимание, смеется очень громко?
– Дивлюсь вам, дорогая, как можете вы интересоваться подобными людьми? – заметила с усмешкой герцогиня. – Только совсем потеряв от любви голову, как Ресто, можно было вываляться в муке мадмуазель Анастази. О! На этом деле он понесет убыток! Она попалась в лапы графу де Трай, и он ее погубит.
– Так они отреклись от своего отца! – повторил Эжен.
– Ну да, – ответила герцогиня, – от своего отца, вы понимаете – отца, как бы то ни было – отца, к тому же, говорят, от хорошего отца; каждой он дал в приданое по пятисот или шестисот тысяч, чтобы создать их счастье, выдав хорошо замуж, а себе оставил восемь-десять тысяч ливров дохода в год, рассчитывая, что его дочери останутся его дочерьми, что он устроит себе у них две жизни, два дома, где всегда найдет любовь и ласку. Вместо этого через два года зятья изгнали его из своего общества, как последнего негодяя.
В глазах Эжена сверкнули слезы: ведь он совсем еще недавно освежил свою душу чистыми, святыми чувствами в родной семье, он жил еще во власти юношеской веры в добро и только здесь впервые встретился с парижской цивилизацией на поле ее битвы. Искренние чувства настолько заразительны, что некоторое время все трое смотрели друг на друга, не проронив ни слова.
– Ах, боже мой! – прервала молчание герцогиня.
– Конечно, все это кажется ужасным, а между тем такие случаи мы наблюдаем каждый день. И разве нет этому причины? Скажите, дорогая, задумывались вы когда-нибудь над тем, что представляет собой зять? Зять – тот мужчина, для кого мы, и вы и я, растим дорогое нам существо, тысячью уз связанное с нами, которому суждено в течение семнадцати лет быть отрадой всей семьи, и незапятнанной душой, сказал бы Ламартин, а в будущем стать ее проклятием. Когда мужчина берет от нас нашу дочь, то сразу же он пользуется ее любовью как топором и обрубает в сердце, в живой душе этого ангела все чувства, которые связывали его с семьей. Наша дочь еще вчера была всем для нас, а мы – всем для нее; наутро она становится нашим врагом. Разве подобная трагедия не разыгрывается ежедневно перед нашими глазами? Тут сноха непозволительно дерзка со свекром, хотя он всем пожертвовал своему сыну. Там зять выгнал тещу из дому. И еще спрашивают, что драматично в нашем современном обществе! А зять? Разве это не драма, и драма страшная, – не говоря уже о наших браках, ставших сплошной нелепостью. Я совершенно ясно представляю себе, что произошло с этим стариком вермишельщиком. Мне помнится, что этот Форио…
– Горио, мадам…
– Хорошо, так этот Морио во время революции был председателем одной из секций;[35 - «…был председателем одной из секций». – Во время французской буржуазной революции XVIII в. Париж был разделен на сорок восемь секций, пользовавшихся правом самоуправления, а также избрания своих представителей на муниципальные и государственные должности. Секции Парижа играли важную роль в революционных событиях.] он знал подоплеку пресловутого голода и в это время положил начало своему богатству, продавая муку в десять раз дороже, чем покупал сам. А муки у него было сколько угодно. Управляющий моей бабушки поставлял ему муку на огромные суммы. Как это ведется у людей такого сорта, Норио, конечно, делился с Комитетом общественного спасения.[36 - Комитет общественного спасения – орган государственной власти во Франции, учрежденный в 1793 г. и избиравшийся Конвентом.] Управляющий, мне помнится, заверял мою бабушку, что она может совершенно спокойно жить в своем именье Гранвилье, так как ее зерно служит лучшим свидетельством ее благонадежности. И вот этот Лорио, продавая хлеб головорубам, был одержим только одной страстью: дочерей своих он, говорят, боготворит. Одну пристроил к графу де Ресто, другую подсунул барону Нусингену, богатому банкиру, который разыгрывает из себя роялиста. Вы сами понимаете, что во времена Империи зятьям было не так уже зазорно пускать к себе в дом тестя образца девяносто третьего года: при Буанапарте это еще куда ни шло. Но после возвращения Бурбонов старичок стал бременем и для Ресто и, еще больше, для банкира. Дочери, быть может, еще любили своего отца, поэтому они хотели, чтобы и волки были сыты и овцы целы, хотели успокоить и мужа и отца. Они принимали Торио в такое время, когда у них никого не бывало. Делалось это под предлогом нежных чувств: «Папа, приходите, мы будем одни и проведем время гораздо лучше!» – или что-нибудь в этом роде. Я лично, дорогая, думаю, что у настоящих чувств есть свой разум, свои глаза, и, конечно, сердце бедняги истекало кровью. Он видел, что дочери стыдятся его, и раз они любят своих мужей, то он помеха для зятьев. Настало время принести жертву. Старик пожертвовал собой, на то он и отец: он сам себя изгнал из их домов, и дочери были довольны; заметив это, он понял, что поступил правильно. Так совершилось семейное преступление при соучастии отца и дочерей. Явления такого рода мы наблюдаем сплошь да рядом. Разве этот папаша Дорио в гостиной дочерей не казался бы каким-то сальным пятном? Да и самому ему было бы там тягостно и скучно. То, что постигло этого отца, может постигнуть самую красивую женщину, полюбившую всей душой: если она мужчине докучает своей любовью, он покидает ее и, чтобы от нее отделаться, идет на подлости. Такова судьба всех чувств. Наше сердце – это клад; растратьте его сразу, и вы нищий. Мы не щадим ни чувства, когда оно раскрылось до конца, ни человека, когда у него нет ни одного су. Этот отец роздал все. Свою душу, свою любовь он отдавал в течение двадцати лет, а свое состояние он отдал в один день. Дочери выжали лимон и выбросили его на улицу.
– Как гнусен свет! – произнесла виконтесса, не поднимая глаз и нервно подергивая бахрому своей шали: она была задета за живое, чувствуя, что последние фразы в рассказе герцогини предназначались для нее.
– Гнусен?.. Нет, – ответила герцогиня, – просто в свете все идет своим порядком. Говоря так, я только хочу показать, что не обманываюсь в свете. А в общем я с вами одного мнения, – сказала она, пожимая руку виконтессе. Свет – это болото, постараемся держаться на высоком месте.
Она встала и, целуя в лоб г-жу де Босеан, сказала:
– Дорогая, сейчас вы настоящая красавица. Я еще никогда не видела такого замечательного цвета лица.
Взглянув на Растиньяка, она слегка кивнула головой и вышла.
– Папаша Горио великолепен! – сказал Эжен, вспомнив, как старик ночью скручивал серебряную чашку.
Госпожа де Босеан задумалась и не слыхала его слов. Несколько минут прошло в молчании; бедный студент как-то стыдливо замер, не зная, говорить ли, оставаться – или же уйти.
– Свет зол и гнусен, – заговорила, наконец, виконтесса. – Едва обрушится на нас несчастье, всегда найдется друг, готовый сейчас же поспешить к нам с известием об этом, покопаться в нашем сердце своим кинжалом, предоставляя нам любоваться его красивой рукоятью. И вот уже пошли сарказмы! Пошли насмешки! О, я не дам себя в обиду!
Она подняла голову, и в этом движении почувствовалась знатная дама; в гордом ее взгляде сверкнули молнии.
– Ах, вы здесь! – воскликнула она, увидев Эжена.
– Да, все еще! – жалобно ответил он.
– Так вот, господин де Растиньяк, поступайте со светом, как он того заслуживает. Вы хотите создать себе положение, я помогу вам. Исследуйте всю глубину испорченности женщин, измерьте степень жалкого тщеславия мужчин. Я внимательно читала книгу света, но оказалось, что некоторых страниц я не заметила. Теперь я знаю все: чем хладнокровнее вы будете рассчитывать, тем дальше вы пойдете. Наносите удары беспощадно, и перед вами будут трепетать. Смотрите на мужчин и женщин, как на почтовых лошадей, гоните не жалея, пусть мрут на каждой станции, – и вы достигнете предела в осуществлении своих желаний. Запомните, что в свете вы останетесь ничем, если у вас не будет женщины, которая примет в вас участие. И вам необходимо найти такую, чтобы в ней сочетались красота, молодость, богатство. Если в вас зародится подлинное чувство, спрячьте его, как драгоценность, чтобы никто даже и не подозревал о его существовании, иначе вы погибли. Перестав быть палачом, вы превратитесь в жертву. Если вы полюбите, храните свято вашу тайну! Не поверяйте ее, пока вы не узнаете по-настоящему того, кому раскроете вы сердце. Такой любви в вас еще нет, но надобно заранее оберегать ее, поэтому учитесь не доверять свету. Послушайте, Мигель (она и не заметила, что выдала себя этой обмолвкой), есть нечто пострашнее того случая, когда две дочери забросили отца и, может быть, желают его смерти: это соперничество двух сестер. Ресто из родовитой знати, его жена принята в свете, была представлена ко двору; изза этого сестра ее, богатая красавица Дельфина де Нусинген, жена финансового дельца, умирает от огорчения, ее снедает зависть: графиня де Ресто поднялась выше ее на сто голов; и сестер больше нет, они отрекаются друг от друга, как отреклись от своего отца. Поэтому госпожа де Нусинген готова вылизать всю грязь от улицы Сен-Лазар до улицы Гренель, чтобы проникнуть ко мне в дом. Она рассчитывала, что де Марсе поможет ей достигнуть этой цели, стала его рабой и не дает ему покоя. А де Марсе нет дела до нее. Если Дельфину представите мне вы, то станете ее кумиром, она будет на вас молиться. Впоследствии вы можете и любить ее, а если нет, то во всяком случае воспользуйтесь Дельфиной в своих целях. Раз или два я приму ее в толпе гостей на большом вечере, но никогда не приму ее днем. Я буду с ней здороваться, и этого довольно. У графини вы сами закрыли себе двери тем, что упомянули папашу Горио. Да, дорогой мой, вы двадцать раз пойдете к графине де Ресто, и двадцать раз ее не будет дома. Вас приказано не принимать. Так пусть папаша Горио вас познакомит с Дельфиной де Нусинген. Красавица де Нусинген будет служить вам вывеской. Сделайтесь ее избранником, тогда все женщины начнут сходить по вас с ума. Ее соперницам, подругам, даже самым близким, захочется отбить вас у нее. Иные женщины предпочитают именно чужих избранников, по примеру тех мещанок, которые, перенимая фасоны наших шляп, надеются, что вместе с ними приобретут наши манеры. Вы будете иметь успех. В Париже успех – все, это залог власти. Как только женщины признают, что у вас есть талант и ум, мужчины этому поверят, если вы сами не разубедите их. Тогда все станет вам доступно, вам всюду будет ход. Тогда-то вы узнаете, что свет состоит из обманщиков и простаков. Не присоединяйтесь ни к тем, ни к другим. Чтоб вам не запутаться в этом лабиринте, даю вам, вместо нити Ариадны, свое имя. Не запятнайте же его, – сказала она, вскинув голову и царственно взглянув на Растиньяка, – сохраните его чистым. Теперь ступайте, оставьте меня одну: у нас, женщин, бывают тоже свои битвы.
– И если вам нужен человек, готовый ради вас взорвать подкоп… прервал ее Эжен.
– Так что же? – спросила виконтесса.
Он ударил себя рукою в грудь, ответил улыбкой на улыбку своей кузины и вышел. Было пять часов. Эжен успел проголодаться и забеспокоился, как бы не опоздать к обеду. И благодаря этому беспокойству он узнал, какое наслаждение быстро мчаться по улицам Парижа. Но это физическое удовольствие нисколько не мешало ему всецело отдаваться нахлынувшим на него мыслям. Когда молодой человек его лет оскорблен презрением, он начинает горячиться, приходит в ярость, грозит кулаком всему обществу, кричит о мести, но сомневается в себе. В настоящую минуту Эжена угнетала фраза: «Вы сами закрыли себе двери у графини». «А я пойду! – говорил он себе. – И если госпожа де Босеан права, если приказано меня не принимать… тогда… тогда графиня де Ресто встретится со мной во всех гостиных, где она бывает. Я выучусь владеть шпагой, стрелять из пистолета и убью ее Максима!..» «А деньги? – кричал ему рассудок. – Откуда их возьмешь?» И тотчас выставленное напоказ богатство графини де Ресто сверкнуло у него перед глазами. Он видел роскошь, которую, несомненно, любила бывшая девица Горио, сверкающую всюду позолоту, крикливо дорогие предметы обстановки – словом, роскошь неумной выскочки, расточительность богатой содержанки. Это ослепительное видение сразу меркло перед величественным особняком Босеанов. Мечты Эжена, прикованные к высшим сферам парижского общества, внушили ему много дурных помыслов, сделав покладистее ум и совесть. Мир предстал ему теперь таким, каков он есть: в бессилии своей морали и закона перед богатством; ultima ratio mundi[37 - Конечная основа мира (лат.).] виделась ему в деньгах. «Прав Вотрен. Богатство – вот добродетель!» – сказал Эжен сам себе.
Добравшись до улицы Нев-Сент-Женевьев, он быстро взошел к себе наверх, сбежал обратно, чтобы отдать извозчику десять франков, вошел в тошнотворную столовую и увидел всех нахлебников, кормившихся, как скот у яслей. Это убогое зрелище, вид этой столовой вызвали в нем чувство омерзения. Слишком резкий переход, слишком разительный контраст должен был в необычайной мере усилить его честолюбивые стремления. По одну сторону – яркие, чарующие образы, созданные самой изящной общественной средой, живые молодые лица, окруженные дивными произведениями искусства и предметами роскоши, страстные, поэтичные личности; по другую сторону – зловещие картины в обрамлении грязной нищеты, лица, у которых от игры страсти только и осталось, что двигавшие ими когда-то веревочки и механизмы. Советы г-жи де Босеан, подсказанные этой обманутой женщине негодованием, ее соблазнительные предложения воскресли в памяти Эжена, а нужда внушила ему, как истолковать их; чтобы достичь богатства, Эжен решил заложить две параллельные траншеи: опереться и на любовь и на науку, стать светским человеком и доктором юридических наук. Он все еще оставался большим ребенком. Две эти линии представляют собой асимптоты[38 - Асимптота – буквально: «несовпадающая» (греч.) – прямая, которая, будучи безгранично продолжена, постоянно приближается к соответствующей кривой, но не пересекается с нею.] и никогда не могут пересечься.
– Вы что-то очень мрачны, господин маркиз, – сказал Вотрен, окинув Растиньяка своим особым взглядом, казалось проникавшим в самые сокровенные тайны человеческой души.
– Я не расположен терпеть шутки от тех, кто называет меня «господин маркиз», – ответил Растиньяк. – Чтобы в Париже быть по-настоящему маркизом, надо иметь сто тысяч ливров годового дохода, а когда живешь в «Доме Воке», то уж наверно не состоишь в избранниках фортуны.
Вотрен взглянул на Растиньяка отечески пренебрежительно, словно хотел сказать: «Щенок! Да я могу сделать из тебя котлету!» Потом ответил:
– Вы не в духе, и, может быть, потому, что не имели успеха у прекрасной графини де Ресто.
– Она велела не принимать меня, так как я сказал, что отец ее сидит с нами за одним столом! – воскликнул Растиньяк.
Нахлебники переглянулись. Папаша Горио опустил глаза и отвернулся, чтобы их вытереть.
– Вы попали мне табаком в глаз, – сказал он своему соседу.
– Кто станет обижать папашу Горио, тот будет иметь дело со мной, заявил Эжен, глядя на того, кто сидел рядом с вермишельщиком, – он лучше нас всех! Я не говорю о дамах, – добавил он, оборачиваясь к мадмуазель Тайфер.
Это заявление положило конец всем разговорам: Эжен с таким видом произнес его, что нахлебники примолкли. Один Вотрен насмешливо заметил:
Герцогиня холодно выслушала эту святотатственную болтовню и осудила ее за дурной тон, сказав виконтессе:
– Кузен ваш еще новичок…
Госпожа де Босеан от всего сердца посмеялась над герцогиней и своим кузеном.
– Да, моя дорогая, он новичок и ищет себе наставницу, которая преподала бы ему хороший тон.
– Герцогиня, – вновь обратился к ней Эжен, – мне кажется, желанье быть посвященным в тайны того, что нас пленяет, вполне естественно, не правда ли? («Однако, – подумал он, – для разговора с ними я изобретаю фразы, достойные любого парикмахера».)
– Но, думается мне, графиня де Ресто сама является ученицей господина де Трай, – возразила герцогиня.
– Мне это было совершенно неизвестно, – ответил студент. – Вот почему я глупейшим образом вклинился между ними. В конце концов я довольно хорошо поладил с мужем и видел, что его супруга покуда еще терпит мое присутствие, как вдруг угораздило меня сказать им, что я знаком с тем человеком, который в коридоре поцеловал графиню и на моих глазах вышел черным ходом из дома во двор.
– Кто же это такой? – спросили обе дамы.
– Один старик; живет он на два луидора в месяц, в глуши предместья Сен-Марсо, там же, где и я, бедняга-студент; это поистине несчастный человек, посмешище для всех, и мы его прозвали «папаша Горио».
– Да вы действительно младенец! – воскликнула виконтесса. – Ведь графиня де Ресто – в девицах Горио.
– Дочь вермишельщика, – добавила герцогиня, – мещаночка, представленная ко двору в один день с дочерью придворного пирожника. Клара, вы не помните? Король еще рассмеялся и сказал по-латыни какую-то остроту насчет муки: люди… ну как это?.. люди…
– Ejusdem farinae,[34 - Из одного теста (лат.). Буквально: «Из той же муки».] – подсказал Эжен.
– Совершенно верно, – подтвердила герцогиня.
– И он ее отец! – произнес студент, выражая на лице ужас.
– Ну да; у этого чудака две дочери, и он с ума сходит по ним, хотя и та и другая почти отказались от него.
– Вторая – это не та ли, что замужем за банкиром с немецкой фамилией, за каким-то бароном Нусингеном? – спросила виконтесса, обращаясь к герцогине де Ланже. – Ее зовут Дельфиной, не правда ли? Она блондинка, у нее боковая ложа в Опере; она бывает также у Буфонов и, чтобы привлечь к себе внимание, смеется очень громко?
– Дивлюсь вам, дорогая, как можете вы интересоваться подобными людьми? – заметила с усмешкой герцогиня. – Только совсем потеряв от любви голову, как Ресто, можно было вываляться в муке мадмуазель Анастази. О! На этом деле он понесет убыток! Она попалась в лапы графу де Трай, и он ее погубит.
– Так они отреклись от своего отца! – повторил Эжен.
– Ну да, – ответила герцогиня, – от своего отца, вы понимаете – отца, как бы то ни было – отца, к тому же, говорят, от хорошего отца; каждой он дал в приданое по пятисот или шестисот тысяч, чтобы создать их счастье, выдав хорошо замуж, а себе оставил восемь-десять тысяч ливров дохода в год, рассчитывая, что его дочери останутся его дочерьми, что он устроит себе у них две жизни, два дома, где всегда найдет любовь и ласку. Вместо этого через два года зятья изгнали его из своего общества, как последнего негодяя.
В глазах Эжена сверкнули слезы: ведь он совсем еще недавно освежил свою душу чистыми, святыми чувствами в родной семье, он жил еще во власти юношеской веры в добро и только здесь впервые встретился с парижской цивилизацией на поле ее битвы. Искренние чувства настолько заразительны, что некоторое время все трое смотрели друг на друга, не проронив ни слова.
– Ах, боже мой! – прервала молчание герцогиня.
– Конечно, все это кажется ужасным, а между тем такие случаи мы наблюдаем каждый день. И разве нет этому причины? Скажите, дорогая, задумывались вы когда-нибудь над тем, что представляет собой зять? Зять – тот мужчина, для кого мы, и вы и я, растим дорогое нам существо, тысячью уз связанное с нами, которому суждено в течение семнадцати лет быть отрадой всей семьи, и незапятнанной душой, сказал бы Ламартин, а в будущем стать ее проклятием. Когда мужчина берет от нас нашу дочь, то сразу же он пользуется ее любовью как топором и обрубает в сердце, в живой душе этого ангела все чувства, которые связывали его с семьей. Наша дочь еще вчера была всем для нас, а мы – всем для нее; наутро она становится нашим врагом. Разве подобная трагедия не разыгрывается ежедневно перед нашими глазами? Тут сноха непозволительно дерзка со свекром, хотя он всем пожертвовал своему сыну. Там зять выгнал тещу из дому. И еще спрашивают, что драматично в нашем современном обществе! А зять? Разве это не драма, и драма страшная, – не говоря уже о наших браках, ставших сплошной нелепостью. Я совершенно ясно представляю себе, что произошло с этим стариком вермишельщиком. Мне помнится, что этот Форио…
– Горио, мадам…
– Хорошо, так этот Морио во время революции был председателем одной из секций;[35 - «…был председателем одной из секций». – Во время французской буржуазной революции XVIII в. Париж был разделен на сорок восемь секций, пользовавшихся правом самоуправления, а также избрания своих представителей на муниципальные и государственные должности. Секции Парижа играли важную роль в революционных событиях.] он знал подоплеку пресловутого голода и в это время положил начало своему богатству, продавая муку в десять раз дороже, чем покупал сам. А муки у него было сколько угодно. Управляющий моей бабушки поставлял ему муку на огромные суммы. Как это ведется у людей такого сорта, Норио, конечно, делился с Комитетом общественного спасения.[36 - Комитет общественного спасения – орган государственной власти во Франции, учрежденный в 1793 г. и избиравшийся Конвентом.] Управляющий, мне помнится, заверял мою бабушку, что она может совершенно спокойно жить в своем именье Гранвилье, так как ее зерно служит лучшим свидетельством ее благонадежности. И вот этот Лорио, продавая хлеб головорубам, был одержим только одной страстью: дочерей своих он, говорят, боготворит. Одну пристроил к графу де Ресто, другую подсунул барону Нусингену, богатому банкиру, который разыгрывает из себя роялиста. Вы сами понимаете, что во времена Империи зятьям было не так уже зазорно пускать к себе в дом тестя образца девяносто третьего года: при Буанапарте это еще куда ни шло. Но после возвращения Бурбонов старичок стал бременем и для Ресто и, еще больше, для банкира. Дочери, быть может, еще любили своего отца, поэтому они хотели, чтобы и волки были сыты и овцы целы, хотели успокоить и мужа и отца. Они принимали Торио в такое время, когда у них никого не бывало. Делалось это под предлогом нежных чувств: «Папа, приходите, мы будем одни и проведем время гораздо лучше!» – или что-нибудь в этом роде. Я лично, дорогая, думаю, что у настоящих чувств есть свой разум, свои глаза, и, конечно, сердце бедняги истекало кровью. Он видел, что дочери стыдятся его, и раз они любят своих мужей, то он помеха для зятьев. Настало время принести жертву. Старик пожертвовал собой, на то он и отец: он сам себя изгнал из их домов, и дочери были довольны; заметив это, он понял, что поступил правильно. Так совершилось семейное преступление при соучастии отца и дочерей. Явления такого рода мы наблюдаем сплошь да рядом. Разве этот папаша Дорио в гостиной дочерей не казался бы каким-то сальным пятном? Да и самому ему было бы там тягостно и скучно. То, что постигло этого отца, может постигнуть самую красивую женщину, полюбившую всей душой: если она мужчине докучает своей любовью, он покидает ее и, чтобы от нее отделаться, идет на подлости. Такова судьба всех чувств. Наше сердце – это клад; растратьте его сразу, и вы нищий. Мы не щадим ни чувства, когда оно раскрылось до конца, ни человека, когда у него нет ни одного су. Этот отец роздал все. Свою душу, свою любовь он отдавал в течение двадцати лет, а свое состояние он отдал в один день. Дочери выжали лимон и выбросили его на улицу.
– Как гнусен свет! – произнесла виконтесса, не поднимая глаз и нервно подергивая бахрому своей шали: она была задета за живое, чувствуя, что последние фразы в рассказе герцогини предназначались для нее.
– Гнусен?.. Нет, – ответила герцогиня, – просто в свете все идет своим порядком. Говоря так, я только хочу показать, что не обманываюсь в свете. А в общем я с вами одного мнения, – сказала она, пожимая руку виконтессе. Свет – это болото, постараемся держаться на высоком месте.
Она встала и, целуя в лоб г-жу де Босеан, сказала:
– Дорогая, сейчас вы настоящая красавица. Я еще никогда не видела такого замечательного цвета лица.
Взглянув на Растиньяка, она слегка кивнула головой и вышла.
– Папаша Горио великолепен! – сказал Эжен, вспомнив, как старик ночью скручивал серебряную чашку.
Госпожа де Босеан задумалась и не слыхала его слов. Несколько минут прошло в молчании; бедный студент как-то стыдливо замер, не зная, говорить ли, оставаться – или же уйти.
– Свет зол и гнусен, – заговорила, наконец, виконтесса. – Едва обрушится на нас несчастье, всегда найдется друг, готовый сейчас же поспешить к нам с известием об этом, покопаться в нашем сердце своим кинжалом, предоставляя нам любоваться его красивой рукоятью. И вот уже пошли сарказмы! Пошли насмешки! О, я не дам себя в обиду!
Она подняла голову, и в этом движении почувствовалась знатная дама; в гордом ее взгляде сверкнули молнии.
– Ах, вы здесь! – воскликнула она, увидев Эжена.
– Да, все еще! – жалобно ответил он.
– Так вот, господин де Растиньяк, поступайте со светом, как он того заслуживает. Вы хотите создать себе положение, я помогу вам. Исследуйте всю глубину испорченности женщин, измерьте степень жалкого тщеславия мужчин. Я внимательно читала книгу света, но оказалось, что некоторых страниц я не заметила. Теперь я знаю все: чем хладнокровнее вы будете рассчитывать, тем дальше вы пойдете. Наносите удары беспощадно, и перед вами будут трепетать. Смотрите на мужчин и женщин, как на почтовых лошадей, гоните не жалея, пусть мрут на каждой станции, – и вы достигнете предела в осуществлении своих желаний. Запомните, что в свете вы останетесь ничем, если у вас не будет женщины, которая примет в вас участие. И вам необходимо найти такую, чтобы в ней сочетались красота, молодость, богатство. Если в вас зародится подлинное чувство, спрячьте его, как драгоценность, чтобы никто даже и не подозревал о его существовании, иначе вы погибли. Перестав быть палачом, вы превратитесь в жертву. Если вы полюбите, храните свято вашу тайну! Не поверяйте ее, пока вы не узнаете по-настоящему того, кому раскроете вы сердце. Такой любви в вас еще нет, но надобно заранее оберегать ее, поэтому учитесь не доверять свету. Послушайте, Мигель (она и не заметила, что выдала себя этой обмолвкой), есть нечто пострашнее того случая, когда две дочери забросили отца и, может быть, желают его смерти: это соперничество двух сестер. Ресто из родовитой знати, его жена принята в свете, была представлена ко двору; изза этого сестра ее, богатая красавица Дельфина де Нусинген, жена финансового дельца, умирает от огорчения, ее снедает зависть: графиня де Ресто поднялась выше ее на сто голов; и сестер больше нет, они отрекаются друг от друга, как отреклись от своего отца. Поэтому госпожа де Нусинген готова вылизать всю грязь от улицы Сен-Лазар до улицы Гренель, чтобы проникнуть ко мне в дом. Она рассчитывала, что де Марсе поможет ей достигнуть этой цели, стала его рабой и не дает ему покоя. А де Марсе нет дела до нее. Если Дельфину представите мне вы, то станете ее кумиром, она будет на вас молиться. Впоследствии вы можете и любить ее, а если нет, то во всяком случае воспользуйтесь Дельфиной в своих целях. Раз или два я приму ее в толпе гостей на большом вечере, но никогда не приму ее днем. Я буду с ней здороваться, и этого довольно. У графини вы сами закрыли себе двери тем, что упомянули папашу Горио. Да, дорогой мой, вы двадцать раз пойдете к графине де Ресто, и двадцать раз ее не будет дома. Вас приказано не принимать. Так пусть папаша Горио вас познакомит с Дельфиной де Нусинген. Красавица де Нусинген будет служить вам вывеской. Сделайтесь ее избранником, тогда все женщины начнут сходить по вас с ума. Ее соперницам, подругам, даже самым близким, захочется отбить вас у нее. Иные женщины предпочитают именно чужих избранников, по примеру тех мещанок, которые, перенимая фасоны наших шляп, надеются, что вместе с ними приобретут наши манеры. Вы будете иметь успех. В Париже успех – все, это залог власти. Как только женщины признают, что у вас есть талант и ум, мужчины этому поверят, если вы сами не разубедите их. Тогда все станет вам доступно, вам всюду будет ход. Тогда-то вы узнаете, что свет состоит из обманщиков и простаков. Не присоединяйтесь ни к тем, ни к другим. Чтоб вам не запутаться в этом лабиринте, даю вам, вместо нити Ариадны, свое имя. Не запятнайте же его, – сказала она, вскинув голову и царственно взглянув на Растиньяка, – сохраните его чистым. Теперь ступайте, оставьте меня одну: у нас, женщин, бывают тоже свои битвы.
– И если вам нужен человек, готовый ради вас взорвать подкоп… прервал ее Эжен.
– Так что же? – спросила виконтесса.
Он ударил себя рукою в грудь, ответил улыбкой на улыбку своей кузины и вышел. Было пять часов. Эжен успел проголодаться и забеспокоился, как бы не опоздать к обеду. И благодаря этому беспокойству он узнал, какое наслаждение быстро мчаться по улицам Парижа. Но это физическое удовольствие нисколько не мешало ему всецело отдаваться нахлынувшим на него мыслям. Когда молодой человек его лет оскорблен презрением, он начинает горячиться, приходит в ярость, грозит кулаком всему обществу, кричит о мести, но сомневается в себе. В настоящую минуту Эжена угнетала фраза: «Вы сами закрыли себе двери у графини». «А я пойду! – говорил он себе. – И если госпожа де Босеан права, если приказано меня не принимать… тогда… тогда графиня де Ресто встретится со мной во всех гостиных, где она бывает. Я выучусь владеть шпагой, стрелять из пистолета и убью ее Максима!..» «А деньги? – кричал ему рассудок. – Откуда их возьмешь?» И тотчас выставленное напоказ богатство графини де Ресто сверкнуло у него перед глазами. Он видел роскошь, которую, несомненно, любила бывшая девица Горио, сверкающую всюду позолоту, крикливо дорогие предметы обстановки – словом, роскошь неумной выскочки, расточительность богатой содержанки. Это ослепительное видение сразу меркло перед величественным особняком Босеанов. Мечты Эжена, прикованные к высшим сферам парижского общества, внушили ему много дурных помыслов, сделав покладистее ум и совесть. Мир предстал ему теперь таким, каков он есть: в бессилии своей морали и закона перед богатством; ultima ratio mundi[37 - Конечная основа мира (лат.).] виделась ему в деньгах. «Прав Вотрен. Богатство – вот добродетель!» – сказал Эжен сам себе.
Добравшись до улицы Нев-Сент-Женевьев, он быстро взошел к себе наверх, сбежал обратно, чтобы отдать извозчику десять франков, вошел в тошнотворную столовую и увидел всех нахлебников, кормившихся, как скот у яслей. Это убогое зрелище, вид этой столовой вызвали в нем чувство омерзения. Слишком резкий переход, слишком разительный контраст должен был в необычайной мере усилить его честолюбивые стремления. По одну сторону – яркие, чарующие образы, созданные самой изящной общественной средой, живые молодые лица, окруженные дивными произведениями искусства и предметами роскоши, страстные, поэтичные личности; по другую сторону – зловещие картины в обрамлении грязной нищеты, лица, у которых от игры страсти только и осталось, что двигавшие ими когда-то веревочки и механизмы. Советы г-жи де Босеан, подсказанные этой обманутой женщине негодованием, ее соблазнительные предложения воскресли в памяти Эжена, а нужда внушила ему, как истолковать их; чтобы достичь богатства, Эжен решил заложить две параллельные траншеи: опереться и на любовь и на науку, стать светским человеком и доктором юридических наук. Он все еще оставался большим ребенком. Две эти линии представляют собой асимптоты[38 - Асимптота – буквально: «несовпадающая» (греч.) – прямая, которая, будучи безгранично продолжена, постоянно приближается к соответствующей кривой, но не пересекается с нею.] и никогда не могут пересечься.
– Вы что-то очень мрачны, господин маркиз, – сказал Вотрен, окинув Растиньяка своим особым взглядом, казалось проникавшим в самые сокровенные тайны человеческой души.
– Я не расположен терпеть шутки от тех, кто называет меня «господин маркиз», – ответил Растиньяк. – Чтобы в Париже быть по-настоящему маркизом, надо иметь сто тысяч ливров годового дохода, а когда живешь в «Доме Воке», то уж наверно не состоишь в избранниках фортуны.
Вотрен взглянул на Растиньяка отечески пренебрежительно, словно хотел сказать: «Щенок! Да я могу сделать из тебя котлету!» Потом ответил:
– Вы не в духе, и, может быть, потому, что не имели успеха у прекрасной графини де Ресто.
– Она велела не принимать меня, так как я сказал, что отец ее сидит с нами за одним столом! – воскликнул Растиньяк.
Нахлебники переглянулись. Папаша Горио опустил глаза и отвернулся, чтобы их вытереть.
– Вы попали мне табаком в глаз, – сказал он своему соседу.
– Кто станет обижать папашу Горио, тот будет иметь дело со мной, заявил Эжен, глядя на того, кто сидел рядом с вермишельщиком, – он лучше нас всех! Я не говорю о дамах, – добавил он, оборачиваясь к мадмуазель Тайфер.
Это заявление положило конец всем разговорам: Эжен с таким видом произнес его, что нахлебники примолкли. Один Вотрен насмешливо заметил: