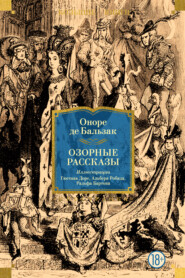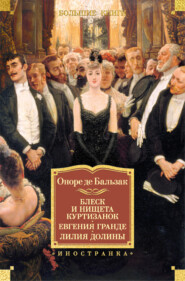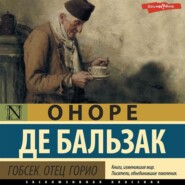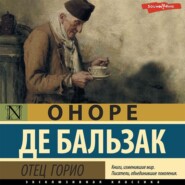По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Искусство и художник
Автор
Жанр
Год написания книги
2020
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Неужели забыли, что, начиная с фрески и скульптуры, которые являются живой историей, выражением времени, языком народов, кончая карикатурой (если говорить об одном только роде искусства), искусство – это могучая сила? Кто не помнит сатирическую гравюру, появившуюся в 1815 году, где полк (не будем называть его имени), изображенный в виде стульев, восклицает: «Мы ждем лишь людей, чтобы броситься вперед!» Эта карикатура имела необычайное влияние. Когда деспотическая власть больна, она падает и от меньших причин.
Может быть, изучив все эти причины и обсудив каждую мелочь, можно прийти к новым соображениям относительно положения художников во Франции… Попробуем.
Начнем с соображений, так сказать, лично касающихся художника в поднятом нами немаловажном вопросе о достоинстве искусств. Многие социальные трудности исходят от художника, ибо все непохожее на толпу коробит, стесняет и раздражает толпу.
Завоевал ли художник свою власть, упражняя способность, свойственную всем людям; порождается ли его могущество уродством мозга и гений является человеческим недугом, как жемчуг болезнью раковины; отдает ли он всю свою жизнь разработке одного текста, одной-единственной мысли, запечатленной в нем Богом, – общепризнанно, что сам он не посвящен в тайну своего дарования. Он действует под влиянием определенных обстоятельств, сочетание которых окутано тайной. Он не принадлежит себе. Он игрушка крайне прихотливой силы.
Когда-нибудь, незаметно для него, повеет ветерок, и вдруг оказывается, что тетива спущена. За целое королевство, за миллионы не прикоснется он к кисти, не разомнет ни кусочка воска для отливки, не напишет ни строчки; а если и попробует, то не он будет держать кисть, воск или перо, а другой, его двойник, его созий – тот, что ездит верхом, сочиняет каламбуры, хочет пить, спать, у кого ума хватает лишь для придумывания сумасбродств.
Но вот вечером, посреди улицы, утром, в час пробуждения, или в разгар веселого пира пылающий уголь коснется его мозга, рук, языка; внезапно слово пробуждает мысли, они родятся, растут, бродят. Трагедия, картина, статуя, комедия показывают свои кинжалы, краски, контуры, сценические трюки. Это видение, столь же преходящее и краткое, как жизнь и смерть; это глубоко, как пропасть, возвышенно, как шум моря; это ослепительное богатство красок; это группа, достойная Пигмалиона, женщина, обладание которой убило бы сердце самого сатаны; ситуация, способная рассмешить умирающего. Приходит труд и зажигает все печи; молчание, одиночество открывают свои сокровища – нет ничего невозможного. Экстаз творчества заглушает раздирающие муки рождения.
Таков художник: жалкое орудие деспотической воли, он подчиняется хозяину. Когда он кажется свободным – он раб; когда, по видимости, он действует, отдается огню безумств и наслаждений – он бессилен, безволен, он мертв. Вечная антитеза, кроющаяся в величии его могущества, как и в небытии его жизни: всегда он бог или труп.
Существует масса людей, спекулирующих плодами мысли. Большинство из них жадны. Но надежду, набросанную на бумаге, никогда не удается реализовать достаточно быстро. Отсюда обещания, расточаемые художниками и так редко выполняемые; отсюда обвинения, ибо люди, занятые денежными делами, не понимают людей мысли. Светские люди воображают, будто художник может творить регулярно, как конторский мальчик, ежедневно смахивающий пыль с бумаг чиновников. Отсюда тоже несчастья.
Действительно, часто идея равна сокровищу, но идеи эти так же редки, как алмазные россыпи на земном шаре. Их нужно долго искать, или, пожалуй, даже ждать; нужно плыть по безбрежному океану раздумья и забрасывать в воду грузило.
Произведение искусства – это идея столь же могущественная, как идея, породившая лотерею, как физическое наблюдение, подарившее нам пар, как психологический анализ, заменивший системы координации и сравнения фактов. Итак, все проявления интеллекта идут вровень, и Наполеон столь же великий поэт, что и Гомер: он творил поэзию, а второй вел бои. Шатобриан был не менее великим живописцем, чем Рафаэль, а Пуссен был таким же великим поэтом, как Андрэ Шенье.
Но для человека, погруженного в неизведанную сферу вещей, не существующих для пастуха, который, вырезывая прелестную женскую фигуру из куска дерева, говорит: «Я обтешу ее!»; другими словами, для художников – внешний мир ничто! Они всегда неточно рассказывают о том, что видели в чудесном мире мысли. Корреджо опьянялся счастьем созерцать свою мадонну, сияющую лучезарной красотой, задолго до того, как сотворил ее. Он отдал вам ее, надменный султан, лишь упоительно насладившись ею. Когда поэт, художник, скульптор наделяют мощной жизнью свое произведение, это значит, что замысел возник в момент творчества. Лучшие работы художников именно таковы, тогда как произведения, которыми они особенно дорожат, напротив, оказываются самыми слабыми; художник заранее слишком сжился с их идеальными образами. Он слишком много чувствовал, чтобы выражать.
Трудно передать счастье, испытываемое художниками в этой погоне за идеями. Говорят, что Ньютон как-то утром глубоко задумался; на следующее утро его застали в той же позе, а он и не заметил, что прошли целые сутки. Подобные же факты рассказывают о Лафонтене и Кардане.
Эти услады вдохновения, свойственные художникам, являются, после капризного непостоянства их творческих сил, второй причиной, навлекающей на них общественное осуждение аккуратных людей. В часы беспамятства, во время долгой охоты ничто человеческое их не трогает, никакие денежные соображения их не волнуют: они забывают все. В этом смысле слова г-на Корбьера верны. Да, очень часто художнику нужны лишь «чердак да хлеб». Но после долгих странствований мысли, после жизни в многолюдных пустынях, в волшебных дворцах он, больше чем кто бы то ни было, нуждается в средствах развлечения, созданных цивилизацией для богачей и бездельников. Принцесса Леонора, подобная той, что Гёте создал рядом с Тассом, должна оправлять их золотые мантии и кружевные воротники. Неумеренное пользование властью вдохновенья, долгое созерцание своей цели – вот что приводит великих художников к нищете.
Если есть подвиг, достойный человеческой признательности, – это преданность женщин, посвятивших себя заботам об этих сынах славы, о слепцах, которые владеют миром и не имеют куска хлеба. Если бы Гомер встретил свою Антигону, она разделила бы его бессмертие. Форнарина и г-жа де ла Саблиер умиляли всех друзей Рафаэля и Лафонтена.
Итак, прежде всего художник не является, по выражению Ришелье, человеком из свиты и не обладает почтенной жаждой богатства, одушевляющей все мысли торговца. Он гонится за деньгами в случае непосредственной нужды. Ибо скупость означает смерть гения: душа творца должна быть слишком благородна, чтобы столь низменное чувство нашло в ней место. Его гений – вечный дар.
Во-вторых, в глазах толпы он лентяй; эти две странности, неизбежные следствия неумеренной работы мысли, считаются пороками. К тому же талантливый человек – почти всегда выходец из народа. Сын миллионера или патриция, выхоленный, сытый, привыкший жить в роскоши, мало расположен избрать поприще, пугающее трудностями. Если и обладает он чувством искусства, чувство это рассеется в преждевременных наслаждениях благами общественной жизни. Итак, два основных порока талантливого человека становятся тем более отвратительны, что они кажутся, в силу его положения в свете, результатом лени и добровольной нищеты, ибо часы его работы называют ленью, а его бескорыстность – трусостью.
Но это еще ничего. Человеку, привыкшему превращать свою душу в зеркало, где отражается целый мир, где появляются по его воле страны и их нравы, люди и их страсти, такому человеку, конечно, не хватает того рода логики, того упрямства, что обычно называют характером. Он немного распутен (да простят мне это выражение). Он увлекается, как дитя, всем, что его поражает. Он все понимает, все изведывает. Эту способность видеть обе стороны человеческой медали толпа называет ложными суждениями. Так, художник будет трусом в сражении, отважен на эшафоте; он может любить свою любовницу до поклонения и покинуть ее без видимой причины; он простодушно выскажет свою мысль о пустяках, обожествленных увлечением и восторгами глупцов; он охотно будет защитником любого правительства или безудержным республиканцем. В том, что люди называют характером, он проявляет непостоянство, правящее его творческой мыслью; он охотно отдает свое тело игре житейских событий, ибо душа его парит непрестанно. Он шествует, головой касаясь неба, а ногами попирая землю. Это дитя, это исполин. Какое торжество для царедворцев, просыпающихся с навязчивой идеей, посмотреть, как человек надевает рубашку, или отправиться для своих низких интриг к министру, – эти постоянные контрасты в человеке низкого происхождения, бедном и одиноком. Они подождут, пока он умрет и станет королем, чтобы следовать за его гробом.
Это еще не все. Мысль есть нечто противоестественное. В раннем возрасте мира человек был существом чисто внешним. Искусство же есть излишество мысли. Мы этого не замечаем; подобно наследникам, получившим огромное состояние, не подозревая, с каким трудом оно досталось родителям, мы приняли завещание двадцати веков; но если мы хотим полностью понять художника, беды и невзгоды его земного существования, то не должны упускать из виду, что в искусстве есть нечто сверхъестественное. Никогда даже самое прекрасное произведение не может быть понято. Его простота отталкивает, ибо ценителю нужно нечто загадочное. Наслаждения, достигнутые знатоком, сокрыты в храме, и первый встречный не всегда сумеет сказать: «Сезам, отворись!»
Чтобы выразить более логично это замечание, которому ни художники, ни профаны не уделяют должного внимания, мы попытаемся показать цель произведения искусства.
Когда Тальма, произнося одно только слово, объединял души двух тысяч зрителей в порыве единого чувства, это слово было как бы огромным символом, это было слияние всех искусств. В одном выражении он заключал всю поэзию эпической ситуации. Для любого воображения тут находились картина или история, пробужденные образы, глубокие переживания. Таково произведение искусства. На небольшом пространстве оно дает поражающее средоточие целого мира мыслей, своего рода вывод. Глупцы же, а их большинство, желают увидеть произведение искусства сразу. Они не знают даже слов Сезам, отворись, но они любуются дверью. Потому-то добрые люди ходят не больше одного раза в Итальянскую оперу или в музей и клянутся, что больше их туда не заманишь.
Художник, чья миссия улавливать самые отдаленные связи, достигать чудесных эффектов сближением двух заурядных вещей, часто должен казаться безрассудным. Там, где вся публика видит красное, он видит голубое. Он так близок к тайным причинам, что радуется несчастью, проклинает красоту; он восхваляет порок и защищает преступление; в нем видны все симптомы безумия, ибо применяемые им средства кажутся настолько же далекими от цели, насколько они близки к ней. Вся Франция издевалась над ореховыми скорлупками Наполеона в Булонском лагере, а пятнадцать лет спустя мы поняли, что никогда Англия не была так близка к гибели. Вся Европа узнала тайну самого дерзкого замысла этого гиганта, лишь когда он пал. Так талантливый человек десять раз на день может показаться простаком. Люди, блистающие в салонах, изрекают, что он годен лишь прислуживать в лавке. Его ум дальнозорок; он не замечает столь важных в глазах света мелочей, которые окружают его в то время, как он беседует с будущим. И вот, жена принимает его за глупца.
Время, отделяющее появление в печати первых наших статей от настоящей, вынуждает нас вкратце резюмировать, так сказать, их сущность.
Сначала мы пытались дать понять, насколько всеобъемлюща и длительна власть художника, показав вместе с тем откровенно нищету, в которой проводит он жизнь, полную трудов и скорби, – почти всегда непризнанный, бедный и богатый, критикующий и критикуемый, полный сил и изнеможенный, вознесенный успехом и отверженный.
Затем мы исследовали: 1) причины пренебрежения к художнику со стороны великих мира сего, которые опасаются его, ибо аристократизм и власть таланта гораздо реальнее аристократизма имен и материального могущества; 2) причины беззаботного отношения к нему, проявляемого и ограниченными умами, не понимающими его высокого назначения, и пошлыми людьми, которые его боятся, и людьми религиозными, которые его отлучают от церкви.
Мы стремились показать, рассматривая художника то как творца, то как творение, что сам он является немалым препятствием к своему общественному признанию. Все отталкивают человека, который в своем стремительном прохождении к сердцу мира сминает людей, предметы, идеи. Мораль этих наблюдений может быть изложена в двух словах: великий человек всегда несчастен. Потому-то покорность для него высшая добродетель. В этом отношении Христос – величайший образец. Этот человек, принявший смерть в награду за божественный свет, которым озарил землю, поднятый на крест, где человек обратился в Бога, являет непревзойденное зрелище: это больше чем религия, это вечный образ человеческой славы. Данте в изгнании, Сервантес в госпитале, Мильтон в хижине, Корреджо, задыхающийся под тяжестью медяков, непризнанный Пуссен, Наполеон на острове Святой Елены – вот образы величественной и божественной картины, где представлен Христос на кресте, умирающий, чтобы воскреснуть, оставляющий смертное тело, чтобы царить в небесах. Человек и Бог: сначала человек, потом Бог; человек для большинства, Бог для немногих верующих, непонятый, Богом сразу обожаемый, наконец, ставший Богом, лишь приняв крещение в собственной крови.
Продолжая изучение причин, навлекающих на художника осуждение, мы увидим, что одной из них было бы достаточно для исключения его из окружающего внешнего мира. Действительно, художник прежде всего апостол некоей истины, орудие всевышнего, который пользуется им, чтобы дать новое развитие делу, свершаемому нами вслепую. Однако история человеческого духа единодушна в живом отвращении, в возмущении против новых открытий, истин и принципов, имевших наибольшее влияние на судьбу человечества. Масса глупцов, занимающих почетное положение, провозглашает, что существуют истины вредоносные, как будто открытие новой идеи не есть проявление божественной воли и само зло не входит в ее планы, как добро, невидимое для наших слабых глаз. И вот, вся ярость страстей обрушивается на художника, на творца, на инструмент. Человек, который отказался от христианских истин и затопил их потоками крови, сражается против святых идей философа, развивающего Евангелие, поэта, согласующего литературу своей страны с принципами национальной веры, живописца, восстанавливающего школу, физика, исправляющего заблуждения, гения, ниспровергающего нелепое учение, закостеневшее в своей рутине. И вот из этого апостольства, из глубокого внутреннего убеждения возникает тяжкое обвинение, выставляемое против людей талантливых почти всеми людьми, неспособными мыслить.
Послушать глупцов, так все художники завидуют друг другу. Будь художник королем, он послал бы на эшафот всех своих врагов, как Кальвин сжег Сервете, осуждая преследования церкви. Но художник – это религия. Как и священнослужитель, он стал бы позором человечества, если б не имел веры. Если не верить в самого себя, нельзя быть гением.
– Она вертится! – говорил Галилей, становясь на колени перед судьями.
Таким образом, непомерное самолюбие художников – это их богатство, ненависть – их добродетели, научные разногласия, литературные споры – верования, порождающие их талант. Если они злословят друг о друге, то очень скоро истинное чувство их снова объединяет. Если первое их побуждение зависть, то зависть эта – доказательство их страсти к искусству; но вскоре они слышат внутренний голос, сильный и правдивый, и он диктует им справедливые суждения и добросовестные восторги. К несчастью, люди поверхностные и лукавые, модники, которые любят только смеяться и в своем бессилии рады осуждать других, подхватили их ошибки; и из самых мирных споров, возникающих между художниками, вытекает довод, излагаемый светскими людьми так: «Как прикажете прислушиваться к людям, которые сами не могут сговориться!..»
А из этой аксиомы, выдвинутой посредственностью, проистекает новое несчастье, с которым подлинный художник борется неустанно. Действительно, публика, стадный люд, привыкла следовать приговорам тупого сознания, украшенного именем vox populi[3 - Глас народа (по-латыни).]. Так же как в политике, литературе или морали, искусный человек формулирует систему, идею, факт в одном слове, которое является для масс наукой и высшим разумом, так и в искусстве так называемым знатокам, восхищающимся на честное слово, требуются общепринятые шедевры. Например, толпа знает, что не ошибется, хваля Жерара, он приводит ее в восторг, как приводил в восторг Буше; но пусть появится безвестный талантливый человек и выступит с обширным мощным произведением, которое, очевидно, изменяет принятые рамки, на него никто не обратит ни малейшего внимания. Если он не появляется с барабанным боем, шутовством, насмешками и флагом, он может умереть от голода и нищеты наедине со своей музой. Буржуа пройдет мимо статуи, картины, драмы так же холодно, как мимо кордегардии, а если истинный знаток остановит его и попытается воодушевить, этот человек способен убедить вас, что искусство не поддается определению. Он непременно требует, чтобы во всем этом было что-нибудь существенное. «Что это доказывает?» – скажет он по примеру одного знаменитого математика. Итак, помимо препятствий, создаваемых в обществе для художника всеми его недостатками и достоинствами, против него выступает само искусство; если не его собственная особа, то его религия приводит его к отлучению.
Может ли поэзия пробить себе дорогу, можно ли приветствовать поэта как выдающегося человека, если его искусство подчинено умонастроениям толпы, если все его отталкивают, если ему приходится пользоваться вульгарным языком, чтобы выражать тайны чисто духовного содержания? Как внушить невежественной массе, что есть поэзия, независимая от идеи, что она кроется лишь в словах, в музыке речи, в смене согласных и гласных, но есть также поэзия идей, которая может обойтись без того, что образует поэзию слов? Например: «Ясный день не чище глубин моего сердца» – или же: «Клянусь всем, что есть самого святого, господа присяжные, я невиновен» – вот две фразы, совпадающие по идее. Одна принадлежит поэзии; она мелодична, она подкупает, очаровывает. Есть в этих словах нечто возвышенное, запечатленное в них трудом. Другая фраза кажется вульгарной.
Теперь пусть произнесет англичанин: «Ясноу деинь не тшшце глубин моеуо сердса!» – ничего не осталось.
Пусть Тальма придаст особый ритм фразе «Клянусь всем, что есть самого святого, господа присяжные, я невиновен!»; пусть прибережет вое богатства человеческого голоса для последних слов; пусть слова эти сопровождаются жестом; пусть, бросая призыв, которым начинается фраза, он взглянет на небо и возденет к нему руку; пусть слова «господа присяжные» своим проникновенным тоном пробудят в сердце узы, соединяющие людей с жизнью, – и в этой фразе зазвучит мощная поэзия. Наконец, в этих словах может зазвучать драма, которой они служат завязкой. Развиваясь, фраза может стать поэтичной.
В живописи дело обстоит так же, как в поэзии, как во всех искусствах; она образуется из нескольких качеств: цвет, композиция, экспрессия. Художник уже велик, если доводит до совершенства хотя бы один из этих принципов прекрасного, но никому еще не было дано объединить их всех на общем высоком уровне.
Итальянский художник задумает написать Святую Деву на земле так, словно она находится на небе. Фон картины будет лазурным. Ярко освещенную фигуру он наделит идеальностью, соответствующей этим аксессуарам. Эго будет совершенный покой счастья, мирная душа, чарующая кротость. Вы заблудитесь в бескрайнем лабиринте своих мыслей. Это бесконечное путешествие, восхитительное и неясное.
Рубенс изобразит ее великолепно одетой, все ярко, живо, вы словно касались этого тела, вы любуетесь мощью и богатством, это королева мира. Вы думаете о власти, вы захотите обладать этой женщиной.
Рембрандт погрузит Мать Спасителя в мрак хижины. Тень и свет будут так неотразимо правдивы, так реальны будут ее черты и все проявления обычной жизни, что вы остановитесь как зачарованный перед этой картиной, вспоминая свою мать и вечер, когда застали ее в темноте и молчании.
Миньяр пишет мадонну. Она так прелестна, так остроумна, что вы улыбнетесь, вспомнив возлюбленную дней своей юности.
Как может художник надеяться, что все эти тонкие, легкие оттенки будут уловлены? Разве людей, занятых богатством, наслаждениями, коммерцией, управлением, можно убедить, что столько разнородных произведений достигли, каждое в отдельности, цели искусства? Подите поговорите с этими умниками, непрестанно терзаемыми манией единообразия, которые хотят одинакового закона для всех, как одинаковой одежды, одинакового цвета, одинаковой доктрины, которые рассматривают общество, как огромную казарму! Одни требуют, чтобы все поэты были Расинами, ибо Жан Расин уже существовал, тогда как, исходя из его существования, нужно бы выступить против подражания его манере, и т. д. и т. д.
Несмотря на то что, связанные рамками газеты, мы недостаточно развили свои мысли, надеемся, нам все же удалось доказать некоторые истины, которые имеют значение для счастья художников и которые можно было бы свести к аксиоме. Итак, каждый человек, которого труд или природа одарили творческой силой, никогда не должен забывать, что нужно культивировать искусство ради самого искусства; не должен требовать от него других услад, помимо тех, которые оно дает, других сокровищ, помимо тех, которые роняет оно в тишине и уединении. Наконец, великий художник должен всегда оставлять свое превосходство за дверьми, когда появляется в свете, и не защищать себя сам, ибо, кроме времени, есть над нами помощник более сильный, чем мы. Творить и бороться, для этого нужны две человеческие жизни, а мы никогда не бываем настолько сильны, чтобы свершить две судьбы.
Дикари и народы, наиболее близкие к природному состоянию, проявляют больше величия в отношениях с высшими людьми, чем самые цивилизованные нации. У них существа, одаренные вторым зрением, барды, импровизаторы, считаются особыми творениями. А художники занимают почетное место на празднествах, все помогают им, уважают их наслаждения, равно как их сон и старость. Такие явления редки у цивилизованной нации, а чаще всего, когда загорается свет, его спешат погасить, ибо принимают за пожар.
1830 г.
«О художниках». Oeuvres, XXII, 143–156.
Искусство и художник: отрывки и изречения
Сущность художественного дарования
Физиологическая сторона творчества
Телесная конституция и духовное творчество. – Причины душевных болезней у художников.
Мы не даем себе свои характеры, мы получаем их при рождении, от причудливого устройства наших органов (вот почему я всегда считал нелепым осуждать гордость гениального человека, так же как восхвалять его скромность).
Бальзак – герцогине д’Абрантес, 1829 г.
Oeuvres, XXIV, 63.
* * *
Может быть, изучив все эти причины и обсудив каждую мелочь, можно прийти к новым соображениям относительно положения художников во Франции… Попробуем.
Начнем с соображений, так сказать, лично касающихся художника в поднятом нами немаловажном вопросе о достоинстве искусств. Многие социальные трудности исходят от художника, ибо все непохожее на толпу коробит, стесняет и раздражает толпу.
Завоевал ли художник свою власть, упражняя способность, свойственную всем людям; порождается ли его могущество уродством мозга и гений является человеческим недугом, как жемчуг болезнью раковины; отдает ли он всю свою жизнь разработке одного текста, одной-единственной мысли, запечатленной в нем Богом, – общепризнанно, что сам он не посвящен в тайну своего дарования. Он действует под влиянием определенных обстоятельств, сочетание которых окутано тайной. Он не принадлежит себе. Он игрушка крайне прихотливой силы.
Когда-нибудь, незаметно для него, повеет ветерок, и вдруг оказывается, что тетива спущена. За целое королевство, за миллионы не прикоснется он к кисти, не разомнет ни кусочка воска для отливки, не напишет ни строчки; а если и попробует, то не он будет держать кисть, воск или перо, а другой, его двойник, его созий – тот, что ездит верхом, сочиняет каламбуры, хочет пить, спать, у кого ума хватает лишь для придумывания сумасбродств.
Но вот вечером, посреди улицы, утром, в час пробуждения, или в разгар веселого пира пылающий уголь коснется его мозга, рук, языка; внезапно слово пробуждает мысли, они родятся, растут, бродят. Трагедия, картина, статуя, комедия показывают свои кинжалы, краски, контуры, сценические трюки. Это видение, столь же преходящее и краткое, как жизнь и смерть; это глубоко, как пропасть, возвышенно, как шум моря; это ослепительное богатство красок; это группа, достойная Пигмалиона, женщина, обладание которой убило бы сердце самого сатаны; ситуация, способная рассмешить умирающего. Приходит труд и зажигает все печи; молчание, одиночество открывают свои сокровища – нет ничего невозможного. Экстаз творчества заглушает раздирающие муки рождения.
Таков художник: жалкое орудие деспотической воли, он подчиняется хозяину. Когда он кажется свободным – он раб; когда, по видимости, он действует, отдается огню безумств и наслаждений – он бессилен, безволен, он мертв. Вечная антитеза, кроющаяся в величии его могущества, как и в небытии его жизни: всегда он бог или труп.
Существует масса людей, спекулирующих плодами мысли. Большинство из них жадны. Но надежду, набросанную на бумаге, никогда не удается реализовать достаточно быстро. Отсюда обещания, расточаемые художниками и так редко выполняемые; отсюда обвинения, ибо люди, занятые денежными делами, не понимают людей мысли. Светские люди воображают, будто художник может творить регулярно, как конторский мальчик, ежедневно смахивающий пыль с бумаг чиновников. Отсюда тоже несчастья.
Действительно, часто идея равна сокровищу, но идеи эти так же редки, как алмазные россыпи на земном шаре. Их нужно долго искать, или, пожалуй, даже ждать; нужно плыть по безбрежному океану раздумья и забрасывать в воду грузило.
Произведение искусства – это идея столь же могущественная, как идея, породившая лотерею, как физическое наблюдение, подарившее нам пар, как психологический анализ, заменивший системы координации и сравнения фактов. Итак, все проявления интеллекта идут вровень, и Наполеон столь же великий поэт, что и Гомер: он творил поэзию, а второй вел бои. Шатобриан был не менее великим живописцем, чем Рафаэль, а Пуссен был таким же великим поэтом, как Андрэ Шенье.
Но для человека, погруженного в неизведанную сферу вещей, не существующих для пастуха, который, вырезывая прелестную женскую фигуру из куска дерева, говорит: «Я обтешу ее!»; другими словами, для художников – внешний мир ничто! Они всегда неточно рассказывают о том, что видели в чудесном мире мысли. Корреджо опьянялся счастьем созерцать свою мадонну, сияющую лучезарной красотой, задолго до того, как сотворил ее. Он отдал вам ее, надменный султан, лишь упоительно насладившись ею. Когда поэт, художник, скульптор наделяют мощной жизнью свое произведение, это значит, что замысел возник в момент творчества. Лучшие работы художников именно таковы, тогда как произведения, которыми они особенно дорожат, напротив, оказываются самыми слабыми; художник заранее слишком сжился с их идеальными образами. Он слишком много чувствовал, чтобы выражать.
Трудно передать счастье, испытываемое художниками в этой погоне за идеями. Говорят, что Ньютон как-то утром глубоко задумался; на следующее утро его застали в той же позе, а он и не заметил, что прошли целые сутки. Подобные же факты рассказывают о Лафонтене и Кардане.
Эти услады вдохновения, свойственные художникам, являются, после капризного непостоянства их творческих сил, второй причиной, навлекающей на них общественное осуждение аккуратных людей. В часы беспамятства, во время долгой охоты ничто человеческое их не трогает, никакие денежные соображения их не волнуют: они забывают все. В этом смысле слова г-на Корбьера верны. Да, очень часто художнику нужны лишь «чердак да хлеб». Но после долгих странствований мысли, после жизни в многолюдных пустынях, в волшебных дворцах он, больше чем кто бы то ни было, нуждается в средствах развлечения, созданных цивилизацией для богачей и бездельников. Принцесса Леонора, подобная той, что Гёте создал рядом с Тассом, должна оправлять их золотые мантии и кружевные воротники. Неумеренное пользование властью вдохновенья, долгое созерцание своей цели – вот что приводит великих художников к нищете.
Если есть подвиг, достойный человеческой признательности, – это преданность женщин, посвятивших себя заботам об этих сынах славы, о слепцах, которые владеют миром и не имеют куска хлеба. Если бы Гомер встретил свою Антигону, она разделила бы его бессмертие. Форнарина и г-жа де ла Саблиер умиляли всех друзей Рафаэля и Лафонтена.
Итак, прежде всего художник не является, по выражению Ришелье, человеком из свиты и не обладает почтенной жаждой богатства, одушевляющей все мысли торговца. Он гонится за деньгами в случае непосредственной нужды. Ибо скупость означает смерть гения: душа творца должна быть слишком благородна, чтобы столь низменное чувство нашло в ней место. Его гений – вечный дар.
Во-вторых, в глазах толпы он лентяй; эти две странности, неизбежные следствия неумеренной работы мысли, считаются пороками. К тому же талантливый человек – почти всегда выходец из народа. Сын миллионера или патриция, выхоленный, сытый, привыкший жить в роскоши, мало расположен избрать поприще, пугающее трудностями. Если и обладает он чувством искусства, чувство это рассеется в преждевременных наслаждениях благами общественной жизни. Итак, два основных порока талантливого человека становятся тем более отвратительны, что они кажутся, в силу его положения в свете, результатом лени и добровольной нищеты, ибо часы его работы называют ленью, а его бескорыстность – трусостью.
Но это еще ничего. Человеку, привыкшему превращать свою душу в зеркало, где отражается целый мир, где появляются по его воле страны и их нравы, люди и их страсти, такому человеку, конечно, не хватает того рода логики, того упрямства, что обычно называют характером. Он немного распутен (да простят мне это выражение). Он увлекается, как дитя, всем, что его поражает. Он все понимает, все изведывает. Эту способность видеть обе стороны человеческой медали толпа называет ложными суждениями. Так, художник будет трусом в сражении, отважен на эшафоте; он может любить свою любовницу до поклонения и покинуть ее без видимой причины; он простодушно выскажет свою мысль о пустяках, обожествленных увлечением и восторгами глупцов; он охотно будет защитником любого правительства или безудержным республиканцем. В том, что люди называют характером, он проявляет непостоянство, правящее его творческой мыслью; он охотно отдает свое тело игре житейских событий, ибо душа его парит непрестанно. Он шествует, головой касаясь неба, а ногами попирая землю. Это дитя, это исполин. Какое торжество для царедворцев, просыпающихся с навязчивой идеей, посмотреть, как человек надевает рубашку, или отправиться для своих низких интриг к министру, – эти постоянные контрасты в человеке низкого происхождения, бедном и одиноком. Они подождут, пока он умрет и станет королем, чтобы следовать за его гробом.
Это еще не все. Мысль есть нечто противоестественное. В раннем возрасте мира человек был существом чисто внешним. Искусство же есть излишество мысли. Мы этого не замечаем; подобно наследникам, получившим огромное состояние, не подозревая, с каким трудом оно досталось родителям, мы приняли завещание двадцати веков; но если мы хотим полностью понять художника, беды и невзгоды его земного существования, то не должны упускать из виду, что в искусстве есть нечто сверхъестественное. Никогда даже самое прекрасное произведение не может быть понято. Его простота отталкивает, ибо ценителю нужно нечто загадочное. Наслаждения, достигнутые знатоком, сокрыты в храме, и первый встречный не всегда сумеет сказать: «Сезам, отворись!»
Чтобы выразить более логично это замечание, которому ни художники, ни профаны не уделяют должного внимания, мы попытаемся показать цель произведения искусства.
Когда Тальма, произнося одно только слово, объединял души двух тысяч зрителей в порыве единого чувства, это слово было как бы огромным символом, это было слияние всех искусств. В одном выражении он заключал всю поэзию эпической ситуации. Для любого воображения тут находились картина или история, пробужденные образы, глубокие переживания. Таково произведение искусства. На небольшом пространстве оно дает поражающее средоточие целого мира мыслей, своего рода вывод. Глупцы же, а их большинство, желают увидеть произведение искусства сразу. Они не знают даже слов Сезам, отворись, но они любуются дверью. Потому-то добрые люди ходят не больше одного раза в Итальянскую оперу или в музей и клянутся, что больше их туда не заманишь.
Художник, чья миссия улавливать самые отдаленные связи, достигать чудесных эффектов сближением двух заурядных вещей, часто должен казаться безрассудным. Там, где вся публика видит красное, он видит голубое. Он так близок к тайным причинам, что радуется несчастью, проклинает красоту; он восхваляет порок и защищает преступление; в нем видны все симптомы безумия, ибо применяемые им средства кажутся настолько же далекими от цели, насколько они близки к ней. Вся Франция издевалась над ореховыми скорлупками Наполеона в Булонском лагере, а пятнадцать лет спустя мы поняли, что никогда Англия не была так близка к гибели. Вся Европа узнала тайну самого дерзкого замысла этого гиганта, лишь когда он пал. Так талантливый человек десять раз на день может показаться простаком. Люди, блистающие в салонах, изрекают, что он годен лишь прислуживать в лавке. Его ум дальнозорок; он не замечает столь важных в глазах света мелочей, которые окружают его в то время, как он беседует с будущим. И вот, жена принимает его за глупца.
Время, отделяющее появление в печати первых наших статей от настоящей, вынуждает нас вкратце резюмировать, так сказать, их сущность.
Сначала мы пытались дать понять, насколько всеобъемлюща и длительна власть художника, показав вместе с тем откровенно нищету, в которой проводит он жизнь, полную трудов и скорби, – почти всегда непризнанный, бедный и богатый, критикующий и критикуемый, полный сил и изнеможенный, вознесенный успехом и отверженный.
Затем мы исследовали: 1) причины пренебрежения к художнику со стороны великих мира сего, которые опасаются его, ибо аристократизм и власть таланта гораздо реальнее аристократизма имен и материального могущества; 2) причины беззаботного отношения к нему, проявляемого и ограниченными умами, не понимающими его высокого назначения, и пошлыми людьми, которые его боятся, и людьми религиозными, которые его отлучают от церкви.
Мы стремились показать, рассматривая художника то как творца, то как творение, что сам он является немалым препятствием к своему общественному признанию. Все отталкивают человека, который в своем стремительном прохождении к сердцу мира сминает людей, предметы, идеи. Мораль этих наблюдений может быть изложена в двух словах: великий человек всегда несчастен. Потому-то покорность для него высшая добродетель. В этом отношении Христос – величайший образец. Этот человек, принявший смерть в награду за божественный свет, которым озарил землю, поднятый на крест, где человек обратился в Бога, являет непревзойденное зрелище: это больше чем религия, это вечный образ человеческой славы. Данте в изгнании, Сервантес в госпитале, Мильтон в хижине, Корреджо, задыхающийся под тяжестью медяков, непризнанный Пуссен, Наполеон на острове Святой Елены – вот образы величественной и божественной картины, где представлен Христос на кресте, умирающий, чтобы воскреснуть, оставляющий смертное тело, чтобы царить в небесах. Человек и Бог: сначала человек, потом Бог; человек для большинства, Бог для немногих верующих, непонятый, Богом сразу обожаемый, наконец, ставший Богом, лишь приняв крещение в собственной крови.
Продолжая изучение причин, навлекающих на художника осуждение, мы увидим, что одной из них было бы достаточно для исключения его из окружающего внешнего мира. Действительно, художник прежде всего апостол некоей истины, орудие всевышнего, который пользуется им, чтобы дать новое развитие делу, свершаемому нами вслепую. Однако история человеческого духа единодушна в живом отвращении, в возмущении против новых открытий, истин и принципов, имевших наибольшее влияние на судьбу человечества. Масса глупцов, занимающих почетное положение, провозглашает, что существуют истины вредоносные, как будто открытие новой идеи не есть проявление божественной воли и само зло не входит в ее планы, как добро, невидимое для наших слабых глаз. И вот, вся ярость страстей обрушивается на художника, на творца, на инструмент. Человек, который отказался от христианских истин и затопил их потоками крови, сражается против святых идей философа, развивающего Евангелие, поэта, согласующего литературу своей страны с принципами национальной веры, живописца, восстанавливающего школу, физика, исправляющего заблуждения, гения, ниспровергающего нелепое учение, закостеневшее в своей рутине. И вот из этого апостольства, из глубокого внутреннего убеждения возникает тяжкое обвинение, выставляемое против людей талантливых почти всеми людьми, неспособными мыслить.
Послушать глупцов, так все художники завидуют друг другу. Будь художник королем, он послал бы на эшафот всех своих врагов, как Кальвин сжег Сервете, осуждая преследования церкви. Но художник – это религия. Как и священнослужитель, он стал бы позором человечества, если б не имел веры. Если не верить в самого себя, нельзя быть гением.
– Она вертится! – говорил Галилей, становясь на колени перед судьями.
Таким образом, непомерное самолюбие художников – это их богатство, ненависть – их добродетели, научные разногласия, литературные споры – верования, порождающие их талант. Если они злословят друг о друге, то очень скоро истинное чувство их снова объединяет. Если первое их побуждение зависть, то зависть эта – доказательство их страсти к искусству; но вскоре они слышат внутренний голос, сильный и правдивый, и он диктует им справедливые суждения и добросовестные восторги. К несчастью, люди поверхностные и лукавые, модники, которые любят только смеяться и в своем бессилии рады осуждать других, подхватили их ошибки; и из самых мирных споров, возникающих между художниками, вытекает довод, излагаемый светскими людьми так: «Как прикажете прислушиваться к людям, которые сами не могут сговориться!..»
А из этой аксиомы, выдвинутой посредственностью, проистекает новое несчастье, с которым подлинный художник борется неустанно. Действительно, публика, стадный люд, привыкла следовать приговорам тупого сознания, украшенного именем vox populi[3 - Глас народа (по-латыни).]. Так же как в политике, литературе или морали, искусный человек формулирует систему, идею, факт в одном слове, которое является для масс наукой и высшим разумом, так и в искусстве так называемым знатокам, восхищающимся на честное слово, требуются общепринятые шедевры. Например, толпа знает, что не ошибется, хваля Жерара, он приводит ее в восторг, как приводил в восторг Буше; но пусть появится безвестный талантливый человек и выступит с обширным мощным произведением, которое, очевидно, изменяет принятые рамки, на него никто не обратит ни малейшего внимания. Если он не появляется с барабанным боем, шутовством, насмешками и флагом, он может умереть от голода и нищеты наедине со своей музой. Буржуа пройдет мимо статуи, картины, драмы так же холодно, как мимо кордегардии, а если истинный знаток остановит его и попытается воодушевить, этот человек способен убедить вас, что искусство не поддается определению. Он непременно требует, чтобы во всем этом было что-нибудь существенное. «Что это доказывает?» – скажет он по примеру одного знаменитого математика. Итак, помимо препятствий, создаваемых в обществе для художника всеми его недостатками и достоинствами, против него выступает само искусство; если не его собственная особа, то его религия приводит его к отлучению.
Может ли поэзия пробить себе дорогу, можно ли приветствовать поэта как выдающегося человека, если его искусство подчинено умонастроениям толпы, если все его отталкивают, если ему приходится пользоваться вульгарным языком, чтобы выражать тайны чисто духовного содержания? Как внушить невежественной массе, что есть поэзия, независимая от идеи, что она кроется лишь в словах, в музыке речи, в смене согласных и гласных, но есть также поэзия идей, которая может обойтись без того, что образует поэзию слов? Например: «Ясный день не чище глубин моего сердца» – или же: «Клянусь всем, что есть самого святого, господа присяжные, я невиновен» – вот две фразы, совпадающие по идее. Одна принадлежит поэзии; она мелодична, она подкупает, очаровывает. Есть в этих словах нечто возвышенное, запечатленное в них трудом. Другая фраза кажется вульгарной.
Теперь пусть произнесет англичанин: «Ясноу деинь не тшшце глубин моеуо сердса!» – ничего не осталось.
Пусть Тальма придаст особый ритм фразе «Клянусь всем, что есть самого святого, господа присяжные, я невиновен!»; пусть прибережет вое богатства человеческого голоса для последних слов; пусть слова эти сопровождаются жестом; пусть, бросая призыв, которым начинается фраза, он взглянет на небо и возденет к нему руку; пусть слова «господа присяжные» своим проникновенным тоном пробудят в сердце узы, соединяющие людей с жизнью, – и в этой фразе зазвучит мощная поэзия. Наконец, в этих словах может зазвучать драма, которой они служат завязкой. Развиваясь, фраза может стать поэтичной.
В живописи дело обстоит так же, как в поэзии, как во всех искусствах; она образуется из нескольких качеств: цвет, композиция, экспрессия. Художник уже велик, если доводит до совершенства хотя бы один из этих принципов прекрасного, но никому еще не было дано объединить их всех на общем высоком уровне.
Итальянский художник задумает написать Святую Деву на земле так, словно она находится на небе. Фон картины будет лазурным. Ярко освещенную фигуру он наделит идеальностью, соответствующей этим аксессуарам. Эго будет совершенный покой счастья, мирная душа, чарующая кротость. Вы заблудитесь в бескрайнем лабиринте своих мыслей. Это бесконечное путешествие, восхитительное и неясное.
Рубенс изобразит ее великолепно одетой, все ярко, живо, вы словно касались этого тела, вы любуетесь мощью и богатством, это королева мира. Вы думаете о власти, вы захотите обладать этой женщиной.
Рембрандт погрузит Мать Спасителя в мрак хижины. Тень и свет будут так неотразимо правдивы, так реальны будут ее черты и все проявления обычной жизни, что вы остановитесь как зачарованный перед этой картиной, вспоминая свою мать и вечер, когда застали ее в темноте и молчании.
Миньяр пишет мадонну. Она так прелестна, так остроумна, что вы улыбнетесь, вспомнив возлюбленную дней своей юности.
Как может художник надеяться, что все эти тонкие, легкие оттенки будут уловлены? Разве людей, занятых богатством, наслаждениями, коммерцией, управлением, можно убедить, что столько разнородных произведений достигли, каждое в отдельности, цели искусства? Подите поговорите с этими умниками, непрестанно терзаемыми манией единообразия, которые хотят одинакового закона для всех, как одинаковой одежды, одинакового цвета, одинаковой доктрины, которые рассматривают общество, как огромную казарму! Одни требуют, чтобы все поэты были Расинами, ибо Жан Расин уже существовал, тогда как, исходя из его существования, нужно бы выступить против подражания его манере, и т. д. и т. д.
Несмотря на то что, связанные рамками газеты, мы недостаточно развили свои мысли, надеемся, нам все же удалось доказать некоторые истины, которые имеют значение для счастья художников и которые можно было бы свести к аксиоме. Итак, каждый человек, которого труд или природа одарили творческой силой, никогда не должен забывать, что нужно культивировать искусство ради самого искусства; не должен требовать от него других услад, помимо тех, которые оно дает, других сокровищ, помимо тех, которые роняет оно в тишине и уединении. Наконец, великий художник должен всегда оставлять свое превосходство за дверьми, когда появляется в свете, и не защищать себя сам, ибо, кроме времени, есть над нами помощник более сильный, чем мы. Творить и бороться, для этого нужны две человеческие жизни, а мы никогда не бываем настолько сильны, чтобы свершить две судьбы.
Дикари и народы, наиболее близкие к природному состоянию, проявляют больше величия в отношениях с высшими людьми, чем самые цивилизованные нации. У них существа, одаренные вторым зрением, барды, импровизаторы, считаются особыми творениями. А художники занимают почетное место на празднествах, все помогают им, уважают их наслаждения, равно как их сон и старость. Такие явления редки у цивилизованной нации, а чаще всего, когда загорается свет, его спешат погасить, ибо принимают за пожар.
1830 г.
«О художниках». Oeuvres, XXII, 143–156.
Искусство и художник: отрывки и изречения
Сущность художественного дарования
Физиологическая сторона творчества
Телесная конституция и духовное творчество. – Причины душевных болезней у художников.
Мы не даем себе свои характеры, мы получаем их при рождении, от причудливого устройства наших органов (вот почему я всегда считал нелепым осуждать гордость гениального человека, так же как восхвалять его скромность).
Бальзак – герцогине д’Абрантес, 1829 г.
Oeuvres, XXIV, 63.
* * *