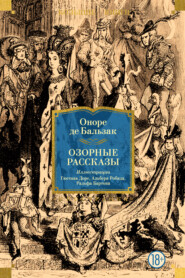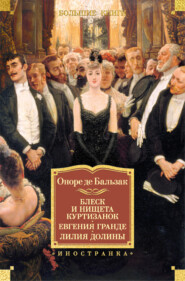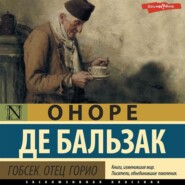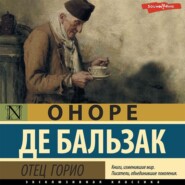По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Сочинения
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В то время как семья Вервеллей разбирала Пьера Грассу, он сам разбирал семью Вервеллей. Он был не в силах сидеть спокойно в мастерской, он пошел погулять по бульвару, он рассматривал рыженьких, которые попадались на встречу! Он предавался самым странным размышлениям: золото самый лучший метал, желтый цвет – цвет золота, римляне любили рыжих, и он станет римлянином и т. д. Притом, через два года после женитьбы, кто заботится о цвете волос своей жены? Красота пропадает… но безобразие остается! Деньги половина счастья. Вечером, ложась спать, живописец уже считал Виржини Вервелль хорошенькой.
Когда, в день второго сеанса, вошли трое Вервеллей, артист встретил их любезной улыбкой. Негодный! он побрился, надел чистое белье; он мило причесался, он надел панталоны к лицу и красные туфли a la poulaine. Семейство отвечало на его улыбку такой же лестной улыбкой. Виржини покраснела пуще своих волос, опустила глаза и, отвернувшись, начала рассматривать этюды. Пьер Грассу нашел ее кривлянья восхитительными. Виржина была грациозна; она по счастью не походила ни на отца, ни мать; на кого же она походила?
– А, понимаю! – говорил он про себя, – мамаша любовалась на красивого приказчика.
Во время сеанса, семья и художник слегка поспорили, и у живописца хватило смелости найти, что отец Вервелль остроумен. Эта лесть заставила всю семью скорым шагом проникнуть в сердце артиста, он подарил рисунок Виржини и эскиз матери.
– За даром? – спросили они.
Пьер Грассу не мог воздержаться от улыбки.
– Не следует так дарить картин: они денег стоят, – сказал ему Вервелль.
На третьем сеансе, отец Вервелль заговорил о прекрасной картинной галерее у себя на даче, в Виль-д'Аврэ: там есть Рубенс, Жерар Доу, Мьерис, Тербург, Рембрант, Поль Поттер, одна картина Тициана и т. д.
– Г. Вервелль наделал глупостей, – хвастливо сказала г-жа Вервелль, – он накупил картин на сто тысяч.
– Люблю искусство, – отозвался бывший торговец бутылками.
Когда был начат портрет г-жи Вервелль, портрет ее мужа был почти кончен, и восторгам семьи не было предела. Нотариус отозвался о живописце с величайшей хвалой. Пьер Грассу, по его словам, был честнейший малый на свете, один из самых порядочных артистов, вдобавок он скопил тридцать шесть тысяч франков; время нужды для него миновало, он получает ежегодно десять тысяч франков, он не проживает процентов; словом, его жена не может быть несчастна. Последняя фраза сильно накренила весы. Друзья Вервеллей только и слышали, что про славного живописца Фужера. В тот день, как Фужер начал портрет Виржини, он был уже in petto зятек Вервеллей. Все трое процветали в мастерской, которую привыкли считать одной из своих резиденций; это чистое, прибранное, милое артистическое помещение имело для них невыразимую привлекательность. Abyssus abyssum, буржуа притягивает буржуа.
С концу сеанса, лестница затряслась, и Жозеф Бридо с шумом отворил дверь; он влетел как буря, волосы у него развевались; показалась большая растерзанная фигура, повсюду, как молния, блеснул он глазами и, обойдя мастерскую, шумно подошел к Грассу, подбирая сюртук на животе, и стараясь, хотя и тщетно, застегнуть его, потому что пуговица отлетела.
– Дрова дороги, – сказал он Грассу.
– А!
– За мной гонятся англичане… Стой, ты пишешь этих?..
– Да замолчи же.
– Твоя правда.
Семейство Вервеллей было в высшей степени смущено этим странным видением, и лица у них, обыкновенно красные, стали вишнево-красными.
– Это выгодно! – сказал Жозеф. – A не отыщется ли у тебя не нужных бумажек?
– Много надо?
– Билет в пятьсот… За мной один из этих негоциантов бульдожьей породы, которые, как вцепятся, так не отпустят, пока не вырвут куска. И порода же!
– Я напишу сейчас записку к нотариусу.
– A у тебя есть нотариус?
– Да.
– В таком случае я понимаю, почему ты до сих пор рисуешь щеки розовыми тонами, превосходными для парикмахерских вывесок.
Грассу невольно покраснел: позировала Виржини.
– Бери натуру, какова она есть! – продолжал великий художник. – У девицы рыжие волосы. Что ж, разве это смертный грех? В живописи все великолепно. Положи на палитру киновари, напиши потеплей щеки, сделай на них коричневые крапинки, жизни поддай! Иль ты хочешь быть умней натуры?
– Возьми-ка, – сказал Фужер, – поработай, пока я напишу записку.
Вервелль докатился до стола и наклонился над ухом Грассу.
– Да этот мужлан напортит, – сказал купец.
– Если б он писал портрет вашей Виржини, то вышло бы в тысячу раз лучше моего, – с негодованием отвечал Грассу.
Услышав это, буржуа потихоньку отступил к своей жене, изумленной вторжением дикого зверя и несколько испугавшейся, что он принялся за портрет ее дочери.
– Слушай, следуй этим указаниям, – сказал Бридо, отдавая палитру и беря записку. – Я тебя не благодарю; теперь я могу воротиться в замок д'Артеза, где я расписываю столовую, а Леон де-Лора делает над дверьми чудные вещи. Приезжай посмотреть.
И он ушел не кланяясь: слишком уж нагляделся он на Виржини.
– Кто это такой? – спросила г-жа Вервелль.
– Великий художник, – отвечал Грассу.
Небольшое молчание.
– Уверены ли вы, что он не принес несчастия моему портрету? – сказала Виржини, – он так напугал меня.
– Он принес только пользу, – отвечал Грассу.
– Если он великий художник, то, по-моему, лучше великие художники, которые похожи на вас.
– Ах, maman, г. Грассу еще более великий художник, он меня напишет всю, – заметила Виржини.
Повадки гения взбудоражили этих привыкших к порядку буржуа.
Наступало то время осени, которое так мило зовут летом св. Мартына. С робостью неофита пред лицом гениального человека, Вервелль отважился пригласить Грассу приехать в ним на дачу в будущее воскресенье: он знал, как мало привлекательна буржуазная семья для художника.
– Ну, вы, художники! – говорил он, – вам требуются волнения, великолепные зрелища и умные люди; но у нас будут хорошие вина, и при том, я рассчитываю, что моя галерея вознаградит вас за скуку, какую артист, как вы, может испытывать в купеческой среде.
Это идолопоклонство чрезвычайно польстило самолюбию бедного Пьера Грассу, стол мало привыкшему к подобным любезностям. Этот честный артист, эта позорная посредственность, это золотое сердце, эта примерная жизнь, этот глупый рисовальщик, этот добрый малый, украшенный королевским орденом почетного легиона, отправился в поход, чтобы насладиться последними хорошими днями в году, в Виль-д'Авре. Живописец скромно поехал в общественной карете, и не мог не залюбоваться на красивую дачу купца, расположенную посреди парка в пять десятин, на холме, в самом красивом месте. Жениться на Виржини значило сделаться со временем владельцем этой дачи! Вервелли встретили его с восторгом, радостью, добродушием, с откровенной буржуазной глупостью, которые смутили его. То был день его торжества. Жениха повели гулять по усыпанным песком аллеям, которые были, как подобает, вычищены для приезда великого человека. Даже у деревьев был какой-то причесанный вид, трава была скошена. В чистом деревенском воздухе слышался бесконечно возбуждающий запах кухни. Все в доме говорили: «У нас сегодня великий художник!» Бедняжка Вервелль точно яблоко катался по саду, дочка извивалась точно угорь, а мамаша следовала за ними благородной и важной походкой. Все трое не отходили от Пьера Грассу в течение семи часов. После обеда, которого длина не уступала его великолепию, г. и г-жа Вервелль прибегли к главному театральному эффекту, в открытию галереи, освещенной лампами с рассчитанным эффектом. Трое соседей, бывших торговцев, дядя с наследством, приглашенные ради чествования великого артиста, старая девица Вервелль и гости проследовали за Грассу в галерею, любопытствуя узнать его мнение о коллекции маленького Вервелля, который уничтожал их баснословной стоимостью картин. Торговец бутылками, по-видимому, вздумал соперничать с королем Луи-Филиппом и Версальскими галереями. Картины, в великолепных рамах, были снабжены золотыми ярлычками, где черными буквами стояло:
Рубенс.
Пляска фавнов и нимф.
Рембрандт.
Внутренность анатомического театра. Доктор Тромп читает лекцию ученикам.
Было всего полтораста картин, покрытых лаком, обметенных веничком; некоторые были задернуты зелеными занавесками, которых не отдвигали в присутствии девиц.