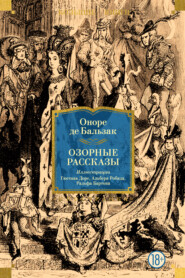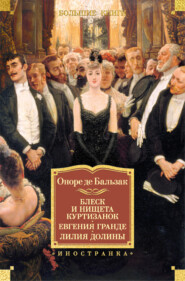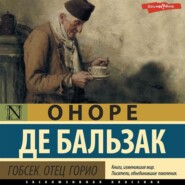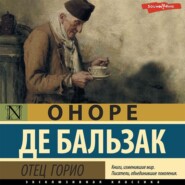По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Шагреневая кожа
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Разумеется…
– Слушайте, господа!.. способ убить своего дядюшку. Тсс! (Слушайте, слушайте!) Возьмите сначала дядюшку, толстого и жирного, по крайней мере семидесятилетнего, – это лучший сорт дядюшек. (Всеобщее оживление.) Накормите его под каким-нибудь предлогом паштетом из гусиной печенки…
– Ну, у меня дядя длинный, сухопарый, скупой и воздержный.
– О, такие дядюшки – чудовища, злоупотребляющие долголетием!
– И вот, – продолжал господин, выступивший с речью о дядюшке, – в то время как он будет предаваться пищеварению, объявите ему о несостоятельности его банкира.
– А если выдержит?
– Дайте ему хорошенькую девочку!
– А если он?.. – сказал другой, делая отрицательный знак.
– Тогда это не дядюшка… Дядюшка – это по существу своему живчик.
– В голосе Малибран пропали две ноты.
– Нет!
– Да!
– Ага! Ага! Да и нет – не к этому ли сводятся все рассуждения на религиозные, политические и литературные темы? Человек – шут, танцующий над пропастью!
– Послушать вас, я – дурак?
– Напротив, это потому, что вы меня не слушаете.
– Образование – вздор! Господин Гейнфеттермах насчитывает свыше миллиарда отпечатанных томов, а за всю жизнь нельзя прочесть больше ста пятидесяти тысяч. Так вот, объясните мне, что значит слово «образование». Для одних образование состоит в том, чтобы знать, как звали лошадь Александра Македонского или что дога господина Дезаккор звали Беросилло, и не иметь понятия о тех, кто впервые придумал сплавлять лес или же изобрел фарфор. Для других быть образованным – значит выкрасть завещание и прослыть честным, всеми любимым и уважаемым человеком, но отнюдь не в том, чтобы стянуть часы (да еще вторично и при пяти отягчающих вину обстоятельствах), а затем, возбуждая всеобщую ненависть и презрение, отправиться умирать на Гревскую площадь.
– Натан останется?
– Э, его сотрудники народ неглупый!
– А Каналис?
– Это великий человек, не будем говорить о нем.
– Вы пьяны!
– Немедленное следствие конституции – опошление умов. Искусства, науки, памятники – все изъедено эгоизмом, этой современной проказой. Триста ваших буржуа, сидя на скамьях палаты, будут думать только о посадке тополей. Деспотизм, действуя беззаконно, совершает великие деяния, но свобода, соблюдая законность, не дает себе труда совершить хотя бы самые малые деяния.
– Ваше взаимное обучение фабрикует двуногие монеты по сто су, – вмешался сторонник абсолютизма. – В народе, нивелированном образованием, личности исчезают.
– Однако не в том ли состоит цель общества, чтобы обеспечить благосостояние каждому? – спросил сенсимонист.
– Будь у вас пятьдесят тысяч ливров дохода, вы и думать не стали бы о народе. Вы охвачены благородным стремлением помочь человечеству? Отправляйтесь на Мадагаскар: там вы найдете маленький свеженький народец, сенсимонизируйте его, классифицируйте, посадите его в банку, а у нас всякий свободно входит в свою ячейку, как колышек в ямку. Швейцары здесь – швейцары, глупцы – глупцы, и для производства в это звание нет необходимости в коллегиях святых отцов.
– Вы карлист!
– А почему бы и нет? Я люблю деспотизм, он подразумевает известного рода презрение к людям. Я не питаю ненависти к королям. Они так забавны! Царствовать в палате, в тридцати миллионах миль от солнца, – это что-нибудь да значит!
– Резюмируем в общих чертах ход цивилизации, – говорил ученый, пытаясь вразумить невнимательного скульптора, и пустился в рассуждения о первоначальном развитии человеческого общества и о первобытных народах. – При возникновении народностей господство было в известном смысле господством материальным, единым, грубым; впоследствии, с образованием крупных объединений, стали утверждаться правительства, прибегая к более или менее ловкому разложению первичной власти. Так, в глубокой древности сила была сосредоточена в руках теократии: жрец действовал и мечом и кадильницей. Потом стало два высших духовных лица: первосвященник и царь. В настоящее время наше общество, последнее слово цивилизации, распределило власть соответственно числу всех элементов, входящих в сочетание, и мы имеем дело с силами, именуемыми промышленностью, мыслью, деньгами, словесностью. И вот власть, лишившись единства, ведет к распаду общества, чему единственным препятствием служит выгода. Таким образом, мы опираемся не на религию, не на материальную силу, а на разум. Но равноценна ли книга мечу, а рассуждение – действию? Вот в чем вопрос.
– Разум все убил! – вскричал карлист. – Абсолютная свобода ведет нации к самоубийству; одержав победу, они начинают скучать, словно какой-нибудь англичанин-миллионер.
— Что вы нам скажете нового? Нынче вы высмеяли все виды власти, но это так же пошло, как отрицать Бога! Вы больше ни во что не верите. Оттого-то наш век похож на старого султана, погубившего себя распутством! Ваш лорд Байрон, дойдя до последней степени поэтического отчаяния, в конце концов стал воспевать преступления.
– Знаете, что я вам скажу! – заговорил совершенно пьяный Бьяншон. – Большая или меньшая доза фосфора делает человека гением или же злодеем, умницей или же идиотом, добродетельным или же преступным.
– Можно ли так рассуждать о добродетели! – воскликнул де Кюрси. – О добродетели, теме всех театральных пьес, развязке всех драм, основе всех судебных учреждений!
– Молчи, нахал! Твоя добродетель – Ахиллес без пяты, – сказал Бисиу.
– Выпьем!
– Хочешь держать пари, что я выпью бутылку шампанского единым духом?
– Хорош дух! – вскрикнул Бисиу.
– Они перепились, как ломовые, – сказал молодой человек, с серьезным видом поивший свой жилет.
– Да, в наше время искусство правления заключается в том, чтобы предоставить власть общественному мнению.
– Общественному мнению? Да ведь это самая развратная из всех проституток! Послушать вас, господа моралисты и политики, вашим законам мы должны во всем отдавать предпочтение перед природой, а общественному мнению – перед совестью. Да бросьте вы! Все истинно – и все ложно! Если общество дало нам пух для подушек, то это благодеяние уравновешивается подагрой, точно так же как правосудие уравновешивается судебной процедурой, а кашемировые шали порождают насморк.
– Чудовище! – прерывая мизантропа, сказал Эмиль Блонде. – Как можешь ты порочить цивилизацию, когда перед тобой столь восхитительные вина и блюда, а ты сам того и гляди свалишься под стол? Запусти зубы в эту косулю с золочеными копытцами и рогами, но не кусай своей матери…
– Чем же я виноват, если католицизм доходит до того, что в один мешок сует тысячу богов, если Республика кончается всегда каким-нибудь Наполеоном, если границы королевской власти находятся где-то между убийством Генриха Четвертого и казнью Людовика Шестнадцатого, если либерализм становится Лафайетом?
– А вы не обнимались с ним в Июле?
– Нет.
– В таком случае молчите, скептик.
– Скептики – люди самые совестливые.
– У них нет совести.
– Что вы говорите! У них по меньшей мере две совести.
– Учесть векселя самого неба – вот идея поистине коммерческая! Древние религии представляли собою не что иное, как удачное развитие наслаждения физического; мы, нынешние, мы развили душу и надежду – в том и прогресс.
– Ах, друзья мои, чего ждать от века, насыщенного политикой? – сказал Натан. – Каков был конец «Истории богемского короля и семи его замков» – такой чудесной повести!
– Что? – через весь стол крикнул знаток. — Да ведь это набор фраз, высосанных из пальца, сочинение для сумасшедшего дома!