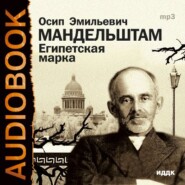По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Стихотворения
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В стихах «Евхаристия» две первые строки предлагают реалии латинской мессы, а в следующей строке речь о греческом языке. Тот же самый прием можно увидеть в словосочетании «Россия Александра», где под этим именем следует разуметь и императора Александра I, и Пушкина.
С.С. Аверинцев даже предлагает концепцию, согласно которой художественный мир Мандельштама – это каталог тем и мотивов, нечто подобное тому, что составил В.Я. Пропп для русской сказки. Отсюда и непроизвольная, серьезная пародийность (вспомним слова В.Б. Шкловского о насыщенности мандельштамовского стиха именами и славянизмами).
От себя отмечу и еще один своеобразный эффект, «двойную экспозицию», которая, упрощая понимание стиха, затрудняет его толкование, комментирование из-за одновременного существования нескольких временных и тематических планов. Скажем, Мандельштам видит реалии послереволюционной действительности как бы сквозь зыбкие силуэты реалий прошлого. Приведу лишь один пример.
В стихотворении « – Нет, не мигрень, – но подай карандашик ментоловый…» есть строка «Дальше сквозь стекла цветные, сощурясь, мучительно вижу я…» Речь идет, разумеется, о воспоминании, о давних годах, но это не отменяет и нынешней точки зрения – цветные стекла на верандах существовали целые десятилетия, они стали приметами и этого времени, хотя пришли из традиции дореволюционной. Так что строку эту можно и нужно воспринимать, учитывая «двойственность» подобного взгляда. Нетрудно предположить, что память начала свою работу именно потому, что вид цветных стекол на веранде вызвал картины прошлого. Однако только ли прошлое и настоящее тут сосуществуют? А вдруг «дальше» и «ближе» относится не к памяти, а к зрению: вот она, веранда, вот цветные стекла, сквозь которые видно небо и землю, и это небо, и эта земля по сути своей не изменились, они таковы и в прошлом, и в настоящем?
Но только ли вещи, предметы пронзают времена и пространства? Тут следует вспомнить слова, сказанные о Мандельштаме, казалось бы, предельно рассудочным М.А. Зенкевичем: «…когда я о нем думал, что он по векам там бродит, и так далее… Так ведь это оттого, что еврейская кровь древнее нашей, мы-то в то время еще скифами где-то были…». И после паузы: «А они… Рим и все это… Это у них, так сказать, в крови, они бродят по своей истории…»
Это сказал человек куда более образованный, чем Мандельштам, человек, последовательно и полно изложивший в стихах философско-культурологическую концепцию акмеизма.
Возможно, именно так следует понимать мандельштамовское утверждение: «Нет, никогда, ничей я не был современник…», предъявляемое как доказательство надменного безразличия Мандельштама к действительности толкователями и критиками. И, возможно, именно в том смысл строчек:
…Вечные сны, как образчики крови,
Переливай из стакана в стакан…
Чтобы чувствовать, не обязательно знать.
В подтверждение такого вывода можно предложить еще один аргумент. Сам процесс сочинения стихов у Мандельштама был странствием, как бы в уменьшенном масштабе повторяя те самые скитания по векам и пространствам, которые проделал его народ и которые отразились в его собственных строках. В.Б. Шкловской рассказывает о временах петроградского Дома искусств: «По дому, закинув голову, ходил Осип Мандельштам. Он пишет стихи на людях. Читает строку за строкой днями. Стихи рождаются тяжелыми. Каждая строка отдельно… Осип Мандельштам пасся, как овца, по Дому, скитался по комнатам, как Гомер». Это не образное сравнение, а меткая характеристика. В.Б. Шкловский и сам отлично чувствовал подобные вещи, психосоматикой был связан с историческими событиями.
Зато М. Слонимский, чья комната попала в орбиту стихотворных странствий поэта, вспоминал, как тот бродил кругами, все заходя к нему в комнату, произнося ту или иную строку. И так всю ночь, измучив хозяина и не замечая его, пока стихотворение не было сочинено. Записав его на листке, Мандельштам сказал: «Передайте куда-нибудь, пожалуйста». И удалился.
Даже само отношение Мандельштама к стихам имеет исторические аналогии. Певец, особенно в восточной традиции, не поет сам от себя, песня внушена ему свыше, он только уста, которыми говорят боги. Мандельштам бормотал ту или иную строчку, как бы прислушиваясь к внушаемому извне. Слово, которое он «позабыл сказать» из знаменитого стихотворения, на самом деле «слово не услышанное» или «не понятое». И потому оно возвращается назад, улетает из этого мира. Зато в стихах законченных, верно услышанных, а потому абсолютных, каждое слово стоит на своем месте. Здесь лад совершенства, след божественного прикосновения.
Мемуаристка вспоминает, как он удивлялся тому, что кто-то забыл строку или слово из классического стихотворения. Ведь это невозможно. Оно уже существует. И говорил собеседнице: не можете вспомнить, так найдите. Ведь это слово единственное.
В жизни Мандельштама, в бытовой ее стороне, нетрудно разглядеть те же закономерности.
К.И. Чуковский, может быть, из свойственной ему парадоксальности и полемической насмешки как-то написал, что он помнит Мандельштама другим, не таким, как обычно его вспоминают: «Почти все мемуаристы изображают Осипа Мандельштама тщедушным и хилым. Впалая грудь, изможденные щеки. Таким и был он в последние годы. Но мне вспоминается другой Мандельштам – сильный, красивый и стройный. Его молодая привычка: выпячивать грудь и гордо вскидывать кудрявую голову подбородком вперед – делала его похожим на драчливую птицу…
Помню, в предосеннюю пору мы вышли с ним и с другими друзьями на пустынный куоккальский пляж.
День был мрачный и ветреный, купальщиков не было. И вдруг Осип Эмильевич молча сбросил с себя легкую одежду, и не успели мы удивиться, как он оказался в воде и быстро поплыл по направлению к Кронштадту. Плыл он саженками, его сильные руки, казавшиеся белыми на тусклом фоне свинцового моря, ритмически взлетали над водой против ветра.
Не помню, кто был тогда с нами, – кажется, Борис Григорьев, Николай Кульбин, Юрий Анненков. Мы подошли к Мандельштаму, едва только он воротился. Я хотел принести полотенце и теплую куртку (дом был недалеко, в двух шагах), но Мандельштам, не сказав ни слова, стал бегать по холодному пляжу так быстро, что нельзя было не залюбоваться его здоровьем и молодостью. Бегал он долго без устали. И оделся лишь после того, как обсушил и согрел свое крепкое тело».
Воспоминания убедительны. Тем не менее образ постаревшего Мандельштама не только более привычен, но и сильнее насыщен смыслом, более весом. Кто-то из хорошо знавших поэта, сказал, что никогда не видел человека, который бы старел так страстно, с такой жадностью, с такой готовностью, почти наслаждением, как Мандельштам.
Но это не было собственно старение. Это было приближение к тому внутреннему возрасту, что есть у каждого. Можно было бы сказать: возрасту психологическому.
Мандельштам середины тридцатых годов ни единой чертой не похож, по крайней мере, физически, на человека, изображенного К.И. Чуковским.
«Мандельштам невысок, тощий, с узким лбом, небольшим изогнутым носом, с острой нижней частью лица в неряшливой почти седой бородке, с взглядом напряженным и как бы не видящим пустяков. Он говорит, поджимая беззубый рот, певуче, с неожиданной интонационной изысканностью русской речи. Он переполнен ритмами, как переполнен мыслями и прекрасными словами. Читая, он покачивается, шевелит руками; он с наслаждением дышит в такт словам – с физиологичностью корифея, за которым выступает пляшущий хор. Он ходит смешно, с слишком прямой спиной и как бы приподнимаясь на цыпочках.
Мандельштам слывет сумасшедшим и действительно кажется сумасшедшим среди людей, привыкших скрывать или подтасовывать свои импульсы. Для него, вероятно, не существует расстояния между импульсом и поступком, – расстояния, которое составляет сущность европейского уклада. …Должно быть, он очень разный. И в состоянии скандала, должно быть, он натуральнее. Но благолепный Мандельштам… нелеп. Ему не совладать с простейшими аксессуарами нашей цивилизации. Его воротничок и галстук – сами по себе. Что касается штанов, слишком коротких, из тонкой коричневой ткани в полоску, то таких штанов не бывает. Эту штуку жене выдали на платье.
Его бытовые жесты поразительно непрактичны… Он располагает обыденным языком, немного богемным, немного вульгарным… Но стоит нажать на важную тему, и с силой распахиваются входы в высокую речь… Он говорит словами своих стихов: косноязычно (с мычанием, со словцом «этого…», беспрерывно пересекающим речь), грандиозно, бесстыдно. Не забывая все-таки хитрить и шутить». Это Мандельштам 1933 года, как отразился он в дневнике Л.Я. Гинзбург. А в 1934 году он признался А.А. Ахматовой: «Я к смерти готов».
Ни расхождения Мандельштама с эпохой, ни его безбытность нельзя преувеличивать или переоценивать. Самые близкие для него люди, которые его кормили или у которых он ночевал, признавали: Н.Я. Мандельштам делила с мужем изгнание и нищету, но была белоручкой и отчасти лентяйкой. Вот очередной анекдот, связанный с Мандельштамом. Как-то он явился к В.Г. Шкловской-Корди, закрывая шапкой дырку сзади на штанах, и стал просить ее помочь купить штаны, благо, деньги у него есть. Решительная жена В.Б. Шкловского, которая сталкивалась и не с такой нищетой и умела противостоять бытовым неурядицам, предложила снять штаны, она их заштопает. И тут воспротивилась Н.Я. Мандельштам – нет, они пойдут и купят новые. Оказывается, если штаны заштопать, то Мандельштам узнает, что это можно делать, а она тщательно скрывала этот факт. Н.Д. Вольпин, поэтесса, силою обстоятельства ставшая переводчицей (у нее семья Мандельштамов нередко ночевала), признавалась – Мандельштам зарабатывал больше, чем все из ее знакомых переводчиков, но деньги в руках не держались, упархивали в никуда. Мандельштам мог в самые голодные дни сменять пайковый хлеб на сладкое и тут же его съесть, а потом голодать.
Отсутствие собственного дома во многом связано с враждебными обстоятельствами: Мандельштам просил дать комнату, писательская организация отказывала. Когда же он получил наконец квартиру в Нащокинском переулке, в доме, где жил в том числе и М.А. Булгаков, то вскоре съехал. Он понимал, что за квартиру придется платить слишком дорого – кривить душой, лгать.
Мандельштам скитался по чужим углам, принимая чужое гостеприимство и чужой хлеб как должное. Так певцы на Востоке – желанные гости в любой юрте. И не он поет в благодарность за кров и пищу, а его с благоговением кормят и поят, предоставляют ночлег за то, что он – певец.
Что же до расхождений с эпохой, то Мандельштам совершенно искренне пытался найти в ней место. Он не кривил душой, когда писал рецензию, например, на сборник стихов поэтов-метростроевцев. Отнюдь не исключено, что их труд он рассматривал в свете какой-нибудь культурологической концепции, предположим, учения о «полой земле». Сходные идеи можно увидеть и в строке «На Красной площади всего круглей земля…», ведь упоминавшаяся «общеакмеистическая концепция» предельно детерминирована. Недаром М.А. Зенкевич так характеризовал стихотворение из «Дикой порфиры»: «…в стихах о зоологическом музее подчеркивалось «скрытое единство живой души и тупого вещества».
И отношение Мандельштама к И.В. Сталину, либо – скажем точнее – сталинский образ в стихах Мандельштама – плод той же концепции. Человек возник как высшее проявление природы, как венец трагедий и катаклизмов, Сталин – венец человеческой истории, кровавой, жестокой, но телеологичной.
Мне кажется, мы говорить должны
О будущем советской старины,
Что ленинское-сталинское слово —
Воздушно-океанская подкова,
И лучше бросить тысячу поэзий,
Чем захлебнуться в родовом железе,
И пращуры нам больше не страшны:
Они у нас в крови растворены.
Но образ двоился, стоило лишь вглядеться:
Как подкову, дарит за указом указ —
Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз.
Это не были счеты с эпохой. Когда Мандельштама предостерегали: не надо читать прилюдно эти стихи, он возражал – не могу не читать, ведь они написаны.
Двойственность, хотя и другая, была и в самом Мандельштаме, об этом рассказывала его вдова: «Иногда мне казалось, что жить уже больше нельзя, что невыносимо… А Ося вдруг говорил: «Почему ты думаешь, что ты должна быть счастлива?» Это удивительно помогало, и до сих пор помогает».
А вот иное: «…стоило прийти приятелям и принести ему вина и немного еды, он забывал сразу, что он трагический поэт».
Мандельштам жил как восточный певец, а писал как акмеист. Так было в любых обстоятельствах.
Про Мандельштама в лагере рассказывают легенды. Говорили, что он читал переводы из Петрарки, а его угощали сгущенным молоком. Легенда наивная, а все же, нечто такое могли рассказывать и о каком-нибудь великом манасчи, исполнителе киргизского эпоса «Манас». Как у мифического восточного певца, неизвестно, где его могила. Но можно сказать иначе, он не превратился в лагерную пыль, не распался в прах, а воплотился в частицы, которые несутся наподобие электронов в пространстве, как писал в «Дикой порфире» М.А. Зенкевич, тогда еще акмеист.
Б. Филевский
Стихотворения 1908 – 1925 годов
Камень
* * *
Звук осторожный и глухой
Плода, сорвавшегося с древа,
Среди немолчного напева
Глубокой тишины лесной…
1908