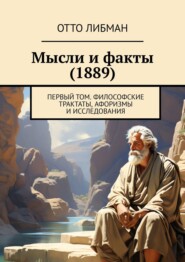По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Мысли и факты – Кульминация теорий. Том 2. Философские трактаты, афоризмы и исследования
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Сознание свободы остается, и если сопоставить с ним наиболее распространенные принципы практического познания человеческой природы, то даже в психологической области обнаруживается своего рода антиномия. Вспыльчивый холерик волит и действует совсем не так, как хладнокровная флегма; от грубияна справедливо ожидать не вежливости, от труса – не героизма; ни один здравомыслящий человек не доверит ценный вклад отъявленному негодяю, а если чувственный человек окажется в одной и той же ситуации, то Наедине с красивой женщиной чувственный мужчина окажется в такой же ситуации, как Иосиф в свое время с развратным Потифаром, он, конечно, поступит совсем не так, как целомудренный Иосиф. Темперамент и характер, врожденные и приобретенные черты характера, личные наклонности, влечения, желания и страсти, вся физическая и психическая конституция человека предопределяют ему в каждый момент его жизни волю и действие под принуждением и влиянием мотивов именно так, как это соответствует его личной конституции и его сиюминутному состоянию, и так, как не поступил бы в точно такой же ситуации человек, отличающийся от него самого. Это понимание, заложенное, как известно, в бесчисленных пословицах, относится к простейшим элементам человеческого знания; оно является аксиомой практической мудрости, и каждый опытный человек руководствуется им в общении и отношениях с другими людьми, как механик – законом тяготения и законом рычага. Но сознание свободы все же остается, как и сознание ответственности за свои поступки и поведение, как и нравственная самокритика нашей личной совести. Этот психологический факт, независимо от того, основан он на иллюзии или на чем-то другом, требует психологического объяснения, и, как будет показано далее, такое объяснение в определенном смысле действительно возможно.
Если обратиться к популярному понятию «свобода», то под свободой здесь понимается способность желать и действовать не так, как происходит на самом деле. Если эту «способность действовать иначе» теперь отнести к одному и тому же индивидуально определенному моменту времени в жизни индивида, то возникает концепция свободы индетерминизма, согласно которой воля индивида якобы полностью освобождена от ограничений принципа причинности; таким образом, все решения, действия и бездействия индивида, а значит, и весь его жизненный путь, могли бы сложиться совершенно иначе, чем это происходит в действительности при точно таких же обстоятельствах. Такая точка зрения несовместима с убеждением в строгой универсальности принципа причинности в психологии и в жизни человеческой души, поэтому тот, кто придерживается этого убеждения, должен будет отвергнуть индетерминизм как недальновидный самообман. Тем не менее, как я уже говорил, сознание свободы присуще каждому здравомыслящему человеку, и сознание возможности быть другим никак нельзя отрицать, если не хочешь столкнуться с фактами непосредственного внутреннего опыта. Спиноза, как уже отмечалось выше, ищет объяснение этому загадочному психо-логическому феномену в том, что человек знает, как он желает и действует, но не имеет представления о причинах, «a quibus vel hoc vel illud volendum determinatur»[17 - Ethica, I, appendix; IV, praefatoio; II, propos. 48; conf. Epistola 62.].
Однако этого объяснения еще недостаточно, поскольку оно лишь негативно; помимо этого незнания есть еще и нечто позитивное, что Спиноза упускает из виду и о чем мы еще поговорим.
Кстати, каждый, кто хоть в какой-то степени знает себя, кто не остается в плену бездумной наивности ребенка и естественного человека, прекрасно знает, что чувство свободы и чувство зависимости присутствуют в нас очень отчетливо и порой вступают в странный конфликт друг с другом. С одной стороны, я на каждом шагу завишу от внутренних и внешних обстоятельств, так что в любой момент я хочу и делаю только то, к чему меня побуждают обстоятельства, сложившиеся в данный момент; и это чувство зависимости, это непосредственное осознание "решимости нашей воли" может усилиться до того трагического конфликта с самим собой.
Трагический конфликт с самим собой, тот болезненный, даже мучительный конфликт между собственными поступками и собственными оценочными суждениями, который нашел свое классическое выражение в известных стихах:
Video meliora proboque,
Deteriora serquor.
Овидий. Metamorph. VII, v. 20.
С другой стороны, я ежеминутно осознаю, что при точно таких же обстоятельствах, сложившихся в данный момент и влияющих на мою волю, я мог бы желать и действовать совсем не так, как происходит сейчас. Эти два понятия противоречат друг другу, но при этом сосуществуют в нас; здесь мы сталкиваемся с ощутимой антиномией внутри себя.
Откуда она берется? Как это можно объяснить? -
Загадка не разрешается путем приписывания ее другой, столь же великой загадке. Но как справедливо приветствуется как существенное продвижение в понимании, когда кто-то сводит несколько необъяснимых природных явлений к одному необъяснимому первофеномену или признает большинство до сих пор "понятных" природных сил следствиями одной непонятной фундаментальной силы, так и наше понимание будет существенно продвинуто, если нам удастся свести несколько психологических загадок к одной первичной и фундаментальной загадке. Но в данном случае дело обстоит именно так.
Во-первых. Мы обладаем сознанием времени, и в этом, как мы видели ранее, кроется великий парадокс.[18 - См. выше с. 14; ср. т. I этих работ, с. 307—375, с. 469—470]
Ибо время возникает и существует для нас только в том смысле, что чередование внешних и внутренних событий проходит мимо неподвижной точки Я, которая сохраняется в чередовании и остается тождественной самой себе. Как мелодия невозможна без слушателя, который остается тождественным самому себе
Как никакая мелодия невозможна без слушателя, который остается тождественным самому себе, так и никакое время, никакой fluxus temporis невозможен без «Я», которое остается тождественным самому себе. «Я», для которого только и может существовать время и, должно поэтому пониматься как вневременное, как безвременное базовое условие протекания времени.
Мы не можем объяснить этот загадочный факт, но истина заключается в том, что "Я", остающееся тождественным самому себе, не находится во времени, а время находится в нем. "Я" должно как бы полностью выйти из чередования и смены собственных душевных состояний, пропустить их мимо себя, синтетически связать более ранние с более поздними в линейной последовательности и в то же время отличить последние от первых, тем самым возвысившись над собственной душевной жизнью, если мы хотим, чтобы вообще возникло сознание времени. Без тождества "Я" с самим собой все внутренние и внешние события распадаются на разрозненные сиюминутные образы, подобно тому как жемчужины, нанизанные на нитку жемчуга, рассыпаются, как только рвется проходящая через них нить. Как на самом деле возможен этот выход из потока событий, мы не знаем и не понимаем, но это должно быть так, чтобы время, fluxus temporis, изменение вообще стало для нас возможным. Вневременная идентичность "Я" является основным условием сознания времени и в то же время представляет собой первичную загадку.
Во-вторых. Мы обладаем сознанием свободы. "Я" чувствует себя свободным в том смысле, что у него есть ясное сознание возможности при точно таких же, четко определенных обстоятельствах, под влиянием точно таких же мотивов "хотеть и действовать" иначе, чем это происходит в данный момент. Сознание этой "возможности действовать иначе" неизменно присуще каждому разумному существу и не может быть изгнано из мира никаким, сколь бы твердым, убеждением в истинности строгого детерминизма. Если, исходя из безусловной универсальности принципа причинности, мы отвергаем детерминизм как несостоятельную иллюзию, т.е. отрицаем предположение, что в один и тот же индивидуально определенный момент времени "я" могло бы с таким же успехом завещать и делать противоположное тому, что оно завещает и делает, то, поскольку жизнь души находится в состоянии непрерывного изменения и развития, остается открытой возможность того, что тот же субъект при повторении точно таких же обстоятельств может завещать и действовать по-другому. И поскольку теперь, благодаря загадочному тождеству "я", сохраняющемуся при смене событий, субъект сознания всегда считает себя одним и тем же субъектом или, скорее, признает себя одним и тем же субъектом, несмотря на временное изменение и развитие своей душевной жизни, он, в сущности, прав в своем убеждении, не быть принужденным данными обстоятельствами, действующими на него мотивами к данному конкретному акту воли и данному конкретному способу действия, а быть способным при точно таких же обстоятельствах волить и действовать совершенно иначе, чем это происходит именно сейчас, в данный момент. Таким образом, сознание времени, с одной стороны, и сознание свободы, с другой, восходят к одной и той же первичной и фундаментальной тайне, а именно к непостижимому тождеству и постоянству самости, которое одновременно является высшим фундаментальным условием всякого познания и всякого опыта.
Тот, кто, подобно Ньютону, приписывает падение камня, вращение Луны вокруг Земли, вращение планет и комет вокруг Солнца одной и той же фундаментальной силе – тяготению, объясняет с помощью этой редукции эти явления движения, хотя сама фундаментальная сила остается непостижимой, необъяснимой, загадкой. Точно так же и в том же смысле тот, кто приписывает сознание времени, с одной стороны, и сознание свободы, с другой, одному и тому же фундаментальному факту, а именно постоянству и идентичности "Я", объясняет посредством этой редукции эти два психологических феномена, хотя фундаментальный факт, постоянство и идентичность "Я", остается неразгаданной загадкой.
Здесь кроется психологическое объяснение, о котором шла речь выше. Одновременно оно проливает свет на происхождение индетерминизма. Если рассматривать индетерминизм как ошибку из-за его несовместимости с принципом причинности, то эта ошибка понятна из того обстоятельства, что то, что может быть истинным для всего хода жизни индивида из-за сохранения "я" в изменяющихся состояниях души, ошибочно перенесено на один момент жизни. Однако один и тот же человек мог бы при тех же обстоятельствах не хотеть того же самого, чего он хочет, но не в один и тот же момент времени, а в разные моменты времени.
Однако все это соображение, против справедливости которого трудно будет выдвинуть обоснованное возражение, изначально носит лишь психологический характер и оставляет совершенно незатронутой конечную метафизическую проблему великой тайны. Если она предлагает правдоподобное объяснение феномена сознания свободы, выводя его как следствие самосознания "Я", то гораздо более глубокий вопрос о том, скрывается ли за этим феноменом реальная свобода, остается без ответа. Этот вопрос ставит критически мыслящего философа на предел человеческой проницательности, и ответ на него может быть только следующим.
Субъектом сознания свободы, реально существующего в каждом здравомыслящем человеке, является "стоящее и пребывающее "Я" трансцендентальной апперцепции", то есть "Я", сохраняющееся в изменяющихся состояниях души и осознающее свою идентичность с самим собой, которое, загадочным образом выходя из потока событий и пропуская этот поток мимо себя, является сознанием времени и сознанием времени.
Это сознание времени и сознание времени в первую очередь и именно в силу своей вневременности или независимости от времени может приписывать себе свободу, способность быть другим. А как же "скрытый" на заднем плане метафизический субстрат самосознания, таинственный носитель всего нашего мира идей, загадочное нечто-другое, которое мыслит "я есть" и "я мыслю", не зная, из чего оно состоит, что оно есть на самом деле? Обладает ли это таинственное нечто-другое свободой, "способностью к абсолютной инициативе" или "способностью начать каузальный ряд как таковой"? – Трансцендентальная философия как таковая уже не может сказать об этом ничего определенного, поскольку в противном случае она скатилась бы к догматической метафизике сверхчувственного и перешагнула бы тщательно очерченные ею самой критические границы познания. Мы не знаем, это остается для нас тайной, как остается для нас тайной и то, насколько глубоко корень нашей индивидуальности может проникать в общий мир-землю. Об этом можно сказать, вновь придав ходу мысли уже неоднократно использованный телеологический поворот: Если нравственное сознание, нравственное суждение о ценности, различие между заслугой и виной – не более чем заблуждение. Если моральное сознание, моральное суждение, различие между заслугой и виной – это не просто заблуждение, не просто самообман, не просто иллюзия, не имеющая реального смысла, то мы должны предпослать этому свободу. Таким образом, в гипотетическом суждении, пограничной проблеме, которая уже не может быть решена теоретическими научными средствами, это рассмотрение достигает своей конечной, финальной цели.
* * *
Мыслить главные мысли, да еще такие, которые одновременно являются великими истинами, настоящими открытиями, а не индивидуальными ошибками и заблуждениями, всегда остается прерогативой немногих; но когда такие мысли однажды придуманы и провозглашены, они переживают смену поколений и поколений, тогда семь непоколебимо стоят в потоке истории, как непоколебимые валуны в стремительно несущемся горном потоке. Трансцендентальная философия прошла свой столетний юбилей и вошла во второе столетие нетронутой, так же как логика Аристотеля вошла в третье тысячелетие нетронутой после всех своих судеб и метаморфоз. Она вошла в свое третье тысячелетие нетронутой как общая идея, как неизвестная ранее проблема, основанная на связях, которую мыслящие умы будущих эпох всегда будут пытаться решить заново. Как много или мало останется от буквы часто критикуемой критики Бернунфта, не может предсказать никто, кроме вдохновенного пророка; но дух трансцендентальной философии бессмертен, и именно он обрел конкретную, осязаемую форму в предыдущих исследованиях.
Обзор из критической метафизики
Первая книга: Субъект и объект, идеализм и реализм
I.
Нерешенные, отчасти неразрешимые проблемы, необъяснимые, может быть, навсегда необъяснимые факты – вот что окружает со всех сторон горизонт нашего знания, так что человеческое знание, как и сознание человека над -avpt, напоминает ярко освещенный остров, возникающий из глубокой ночи и, именно благодаря своей яркости, заставляющий темноту этой окружающей ночи казаться еще темнее. Из чрева этой тьмы берут начало мифы и мифологии, легенды о богах, религиозные догмы и предания о чудесах всех эпох и народов, а также та реальная или мнимая наука, которая с незапамятных времен носит название метафизики. Метафизика претендует на роль универсальной науки. Ибо в то время как все отдельные науки ставят перед собой задачу исследования отдельных, ограниченных областей знания, она делает своим объектом целое, Все, ?? ???, и, таким образом, имеет дело с тем, что, строго говоря, вообще не дано нам в виде материального объекта, а лишь стоит перед нашим внутренним взором как надэмпирическая идея и неизбежное пограничное понятие. Великие мыслители всех времен посвящали коллективные интеллектуальные силы и всю свою жизнь, разрабатывали теории и строили системы, чтобы проникнуть в таинственный мрак и постичь это нечто; Проникновенная глубина, гениальная интуиция, расчленение понятий, диалектическая игра идей, математический вывод из аксиом и определений, остроумие, юмор и ирония, но и мистический экстаз, обостренный до уровня видений, – все силы интеллекта, разума и творческого воображения были поставлены на службу метафизике для достижения желанной цели; И вот что несомненно: метафизика, как непреложная конечная задача мысли, составляет бессмертное свойство человеческой природы. Ни одна наука не в состоянии заменить ее; везде мы видим, что в конечном счете вынуждены вступать в противоречия, противоречия и «антиномии», требующие какого-то решения; в противоречия, например, между устойчивым бытием и изменчивыми событиями, между неизменными господствующими законами и родовыми типами и вечно меняющейся бесформенной материей; в противоречия между слепой причинностью и целенаправленностью природы, планомерно работающей над достижением определенных целей, механизмом и телеологией, свободой и необходимостью; в «антиномии», например, между нормативными законами нашего мышления и естественными законами жизни мозга, сопровождающими наше мышление; но прежде всего в изначальную оппозицию субъекта и объекта, познающего и познаваемого, эго и не-эго. Требуется решение, примирение, и метафизика хочет нам его предложить». Однако вопрос о том, возможно ли это, представляется слишком обоснованным, учитывая прометеевские масштабы задачи, а двухтысячелетняя философская история показывает, что скептицизм и критика всегда следовали за каждой серьезно задуманной метафизикой, как тень по пятам. Если, с одной стороны, рассматривать в целом типичные и специфические ограничения человеческой способности познания, если, с другой стороны, смотреть на непрекращающийся спор между догматическими системами, если приходится наблюдать борьбу между реализмом и идеализмом, материализмом и спиритуализмом, теизмом, пантеизмом, атеизмом и другими партийными состояниями, атеизмом и другими партийными точками зрения, то возникает сомнение в том, что мыслительный аппарат человека обладает такими понятиями или хотя бы зачаточными способностями к их выработке, которые необходимы для создания общепризнанной, окончательной метафизики. Этот вполне понятный скептицизм нашел свое самое остроумное сатирическое выражение в поэме Вольтера «Les Systemes».[19 - Вольный перевод можно найти в моем «Weltwanderung» (Штутгарт, I. G. Cottasche Buchhandlung, 1899), стр. 6.]
Но перед лицом глубокой серьезности метафизических проблем и смыслового содержания подлинных, великих философских идей сатира ускользает от нас, мы теряем улыбку, и существует определенный уровень мышления, на котором скептик, если он не играет софистически, а мыслит действительно серьезно, становится скептиком по отношению к самому скептицизму. Вспомним также, что подобный спор существует практически во всех науках, от физики до юриспруденции, причем эти науки не перестают быть необходимыми и полностью оправданными. Метафизика с ее типичными точками зрения, которые являются лишь различными способами ее осмысления, стоит как исторический факт, и как проблема и потребность она остается бессмертной для человеческого разума, подобно тому как пища и питье остаются необходимыми для человеческого тела. Даже Кант, сокрушитель догматической метафизики, иногда признает, что ему выпала участь «быть влюбленным в метафизику», и говорит в своих Пролегоменах: «Того, что человеческий разум когда-нибудь совершенно откажется от метафизических исследований, так же мало можно ожидать, как и того, что мы, чтобы не создавать всегда желания, предпочтем однажды совсем перестать дышать». Prol. z. j. k. Metaph. §60. – Это зависит прежде всего от тщательного самоанализа, который решает «quid valeant humeri, quid ferre recusent»; это зависит от существенного различия между догматической и критической метафизикой, ибо если последняя невозможна, то последняя все же остается возможной; и для того чтобы провести строгую линию демаркации между ними, необходимо сначала предпринять эту работу.
II.
В истории духовной жизни каждого человека, особенно склонного к размышлениям, безусловно, важным является момент, когда он впервые обнаруживает, что существуют иллюзии чувств; и почти столь же важным, вероятно, является другой момент, когда он обнаруживает, что существуют и иллюзии понимания. В такие моменты не только спасительно колеблется наивная самоуверенность, но и пробуждается рефлексия по поводу феноменального характера и субъективной обусловленности всего данного нам мира, существующего в нашем сознании как реальный факт; приходит осознание: из того, что я вижу вещи так, слышу их так, ощущаю их так руками, думаю о них так умом, вовсе не следует, что они действительно, сами по себе и независимо от меня, так устроены. И именно в этом понимании кроется зародыш идеализма. Конечно, сначала оно носит лишь отрицательный, скептический характер, и только дальнейший шаг мысли приводит к положительному убеждению или утверждению: то, что я вижу глазами, схватываю руками, думаю мыслями, существует только как представление, только в воображении, только как содержание моего сознания; дальше «моего» содержания сознания я никогда в жизни не могу выйти; с этого момента принцип идеалистического взгляда на мир должен быть определенно понят. Однако как только идеалистическое утверждение позитивно выражается и осмысливается, оно же оказывается в высшей степени парадоксальным. Противодействие ему возбуждает в нас некое естественное чувство, первобытный реалистический инстинкт, размышление о том, насколько мы подвержены влиянию и ограничению наших чувств, воли, действий и мыслей извне, со стороны чуждой нам силы; мы не можем не верить в абсолютную реальность мира, соответствующего нашим представлениям и лежащего в их основе, даже если его существование не может быть строго доказано. Конечно, есть мир и в наших снах, и вся наша жизнь может быть одним длинным сном. Но откуда берутся эти сны? Что-то заставляет нас их видеть. Таким образом, рефлектирующий субъект вступает в борьбу с самим собой, в колебания вперед-назад, в борьбу между реалистическим инстинктом и идеалистическим самосозерцанием, классическое изображение которой заложено в великолепном ходе мыслей первых двух медитаций Картезия. Но если эта интеллектуальная борьба не просто прерывается в пользу практического ведения жизни, а ведется с философской последовательностью и корректностью, то она приводит к тому, что мы вообще ничего не знаем и в последней инстанции не знаем, кроме содержания собственного сознания. Сознание есть первичный факт ??? ??????. Как изображения вещей, возникающие в камере-обскуре, полностью зависят и обусловлены оптической конструкцией камеры и господствующими в ней оптическими законами, так и картина мира, существующая в человеческом сознании, полностью определяется и зависит от интеллектуальной конституции и метакосмических законов этого сознания. Существа, устроенные иначе, чем мы, имеют не наш мир, а совершенно иной, соответствующий их иному типу сознания. Поэтому Лихтенберг глубокомысленно говорит: «Если думать об идеализме на разных этапах жизни, то обычно это происходит так: сначала в детстве улыбаются над его глупостью; чуть дальше находят это понятие забавным, остроумным и простительным, любят обсуждать его с людьми, которые по возрасту или положению еще находятся на первой стадии. В возрасте путешествий дразнить себя и других этим вполне разумно, но в целом вряд ли стоит опровергать и противоречит природе. Дальше думать об этом не стоит, так как человек считает, что думал об этом достаточно часто. Но дальше идеализм, при серьезном размышлении и не малом знакомстве с человеческими вещами, приобретает совершенно неодолимую силу».[20 - G. Chr. Lichtenberg’s Miscellaneous Writings. Новое издание; Геттинген, 1853, т. I, с. 81.]
Но если, спустившись с высоты таких достаточно общих рассуждений, перейти к конкретному обсуждению проблемы, рассмотреть все «за» и «против», доводы и контрдоводы, то становится очевидным, что идеализм и реализм отнюдь не находятся в совершенно исключительной оппозиции друг к другу, что речь идет о лестнице большего или меньшего, от признания субъективности наших цветовых и звуковых ощущений до совершеннейшего солипсизма, который гибнет и погибает от своего внутреннего абсурда.
Есть четыре аргумента, убедительность которых необходимо проверить:
a. Относительность перцептивных предикатов.
b. Противоречия в обыденном представлении о мире.
c. Коррелятивность субъекта и объекта.
d. Трансцендентальная обусловленность эмпирической реальности.
III.
Было бы поистине созданием чертополоха после Антикиры, если бы мы захотели предоставить философски образованному уму специальное доказательство того, что мы как чувственные существа вечно опутаны неразрывной паутиной отношений и что поэтому такие воспринимаемые качества, как свет и цвет, звук и шум, тепло и холод, запах и вкус, твердость и мягкость вещей, ведут совершенно относительное существование, поскольку они зависят от типичной организации наших органов чувств и, следовательно, стоят или падают, появляются или исчезают вместе с этой организацией. Для существ, обладающих другими органами чувств, воспринимаемые вещи наделены совершенно иными качествами, чем для нас. Маленькие певчие птицы слышат звуки такой высоты, которая не существует для ушей человека; собаки чувствуют запахи, которых нет для человеческого обоняния; для слепого нет красного, для слепого нет зеленого в природе; о том, какой сенсорный мир может быть воспринимаем и существовать для таких существ, как устрицы, медузы и полипы, мы не имеем никакого адекватного представления. Известное учение Локка о субъективности вторичных качеств, по сути, является древним и на протяжении столетий повторяется почти в тех же выражениях философами самых разных взглядов; Платон разделяет его с Демокритом, Секст Эмпирик – с Декартом, Кант – с Гербартом, и не составит труда собрать воедино обширную подборку относящихся к нему отрывков из философской литературы всех эпох. В первом разделе "Теэтета" Платон борется с тезисом сенсуалистов "???????? ????? ????????", совершенно справедливо указывая, что одно и то же удовольствие северянин ощущает тепло, а южанин – холод, что одно и то же вино для здорового на вкус сладкое, а для больного – горькое; из чего следует, что эти воспринимаемые органами чувств качества не могут обладать абсолютной реальностью. Аналогичные примеры и рассуждения встречаются у Аркесилая и других представителей средней академии; скептические ?????? Фрона, Тимона, Энесидема и Секста в бесконечных вариациях вновь и вновь ссылаются на ту же относительность чувственного содержания. Это можно сравнить с тем, что говорит Эартезий в Princip. Philos. II, § 4, и с тем, что разделяет Локк в "Очерке о человеческом понимании" II, гл. 8, §§ 7 и далее. Как мало я, замечает, в частности, Локк, могу считать боль, которую я испытываю при прикосновении к огню, свойством пламени, так мало я могу считать тепло и яркость, которые я испытываю при взгляде на пламя, свойством огня rc. rc. rc. rc. И, наконец, добавим цитату: Гербарт во "Введении в философию" § 118 говорит: "То, что есть вещи, не познается через органы чувств. – Все свойства вещей, данные в восприятии, относительны.
Обстоятельства не просто мешают восприятию, а определяют его таким образом, что без этих случайных обстоятельств вещи вообще не обладали бы этими свойствами. Тело имеет цвет, но не без света; что это за свойство в темноте? Оно звучит, но не без воздуха; что это за свойство в вакууме? Оно тяжелое, но только на земле; на солнце его тяжесть была бы больше; в бесконечном пустом пространстве оно перестало бы существовать. Она хрупка, когда ее разбиваешь; тверда или мягка, когда хочешь проникнуть в нее; легкоплавка, когда в нее добавляют огонь; – и так никакое свойство не указывает на то, что она есть, оставаясь совершенно неподвижной, сама для себя." -
К этому же сводится и учение Иоганна Мюллера о специфических сенсорных энергиях, основанное на экспериментах и наблюдениях и прочно вошедшее в современную физиологию.
Из этой паутины отношений, в которой мы живем и дышим, как в своей среде и жизненной стихии, не вырваться, как рыба в воде и птица в воздухе; ни микроскоп, ни телескоп, ни весы, ни термометр не помогут нам увидеть невидимое, услышать неслышимое, почувствовать непроницаемое; мы остаемся в ловушке и запутаны в круге качеств, который является придатком и атрибутом нашей чувствительности. И этого вполне достаточно для практического ведения жизни, где важно лишь, чтобы в эмпирическом мире чувств ожидаемый нами успех совпадал с тем, который реально реализуется, а вот для теоретического стремления к абсолютному знанию это остается удручающим фактом.
Если бы философской рефлексии было позволено остановиться и отдохнуть на этой стадии размышлений, то результат был бы примерно таким же, к которому пришли древние (Демокрит) и современные (Картезий и Локк), что в целом соответствует и позиции современных естествоиспытателей; можно предположить, что после вычета всех субъективных атрибутов специфически человеческой организации святых останется объективно реальный и абсолютный остаток: пространственная протяженность, форма и размер, покой и движение тел, существующих в пространстве и времени. Однако этот остаток нам не дается, так как здесь вмешиваются другие, очень тонкие соображения, чтобы еще больше развенчать эмпирическую картину мира.
IV.
Странная, кажущаяся абсурдной диалектика Зенона Элейского не могла бы, несмотря на свою странность, сохраниться в течение тысячелетий и заставлять проницательных мыслителей вплоть до наших дней постоянно пересматривать ее, если бы она действительно, как считает Аристотель, была простой игрой софизмов и не содержала, при всех своих тонких парадоксах, весьма солидного ядра истины. Их истинность – очень серьезная, трудная проблема мысли. Эти "старые", причудливые истории о гонке Ахилла с черепахой, которую он не может догнать, потому что, получив фору, она все время делает новые, хотя и все меньшие, скачки; о человеке, который не может двигаться и не может пройти самое короткое расстояние, потому что, каким бы коротким оно ни было, он всегда должен предварительно пройти половину половины половины этого расстояния. Для этого необходимо бесконечно долгое время; также о летящей стреле, которая стоит неподвижно, потому что в каждый момент занимает определенное положение и, следовательно, никогда не меняет своего положения, – они содержат в себе бессмертную проблему непрерывности, т.е. бесконечной делимости и замкнутой бесконечности. Аристотель считает первые два ????? заблуждениями и полагает, что может опровергнуть их, ссылаясь на параллелизм бесконечной делимости пространства и времени (??? ????? ??? ??? ??? ???? ?????????? ? ?????? ?????????? ??? ?? ???????. VI, 9). Поскольку время, как и пространство, делится на бесконечность, то, по его мнению, бесконечное число точек ограниченного пространства может быть пройдено и за ограниченное расстояние времени. Однако, как уже давно замечено, это контррассуждение не доходит до сути дела, оно не работает, так как даже если полностью отбросить и исключить пространство и рассматривать только время, остается загадочная проблема, которая заключается в том, как за конечный, ограниченный промежуток времени можно пройти и проехать бесконечное число промежуточных точек времени.
Поскольку это невозможно постичь, проницательный элеат выводит простую феноменальность движения, а если бы проблема была поставлена в общем виде, то из нее следовало бы вывести нереальность всякого континуума вообще, а значит, и времени, пространства и т. д. Это великая, смелая, оригинальная мысль. Поэтому у Зенона нашлось множество последователей среди самых выдающихся философов вплоть до новейшего времени. Пьер Бейль в статье 2sn <m своего victionnLir полностью соглашается со старым элеатом, усиливает его аргументы интересными геометрическими примерами и защищает его против Аристотеля.[21 - Эта проницательная статья Бейля чрезвычайно достойна прочтения. Она не только содержит оправдание Зенона и в некоторой степени предвосхищает основной результат трансцендентальной эстетики Канта, но и очень подходит для того, чтобы открыть нам глаза на некоторые нереальности, которые незаметно сопровождают нас на каждом шагу.]
Епископ Беркли в своей небольшой работе «Аналитик» и в «Трактате о принципах человеческого знания» (CX ff., CXXX ff.) из тех же самых затруднений делает вывод против Ньютона о несуществовании абсолютного пространства, абсолютного времени «и движения. Юм повторяет в более краткой и изящной форме то, что объяснил Беркли (Enquiry, Sect. XII, 2 часть), чтобы скептически доказать недостаточность человеческого разума перед лицом диалектических загадок метафизики. Теория антиномий Аанта находит в противоречии текучей и замкнутой бесконечности косвенное основание для доказательства трансцендентной идеальности пространства и времени; на том же диалектическом основании построена и «синехология» Гербарта, и вся его метафизика.
Можно было бы предположить, что математическая наука континуума, то есть дифференциальное и интегральное исчисление, сможет помочь нам выйти из затруднительного положения, но она отнюдь не преодолевает трудности, а скорее обходит их и даже еще яснее и сильнее ставит их перед глазами. Ведь если вдаваться в обсуждение проблемы, то она заключается в понятии непрерывной величины, в отличие от quantum discretum, в том, что при ней продолжающееся деление никогда не может закончиться, а может продолжаться всегда в силу своей безразрывности, и, следовательно, уходит в бесконечность. На сколько равных частей делится лонтинуум при продолженном делении, из стольких же частей он восстанавливается при составлении, причем число частей обратно пропорционально их малости; так:
a = 10
/10 = …1000
/1000 = ? a/?.