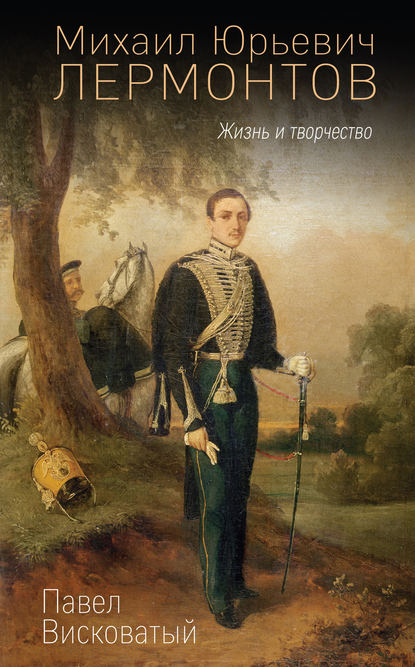По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество
Жанр
Год написания книги
1891
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И что другую тратил не умней…
В глазах его открытых, но печальных,
Нашли бы вы без наблюдений дальних
Презренье, гордость; хоть он был не горд,
Как глупый турок иль богатый лорд,
Но все-таки себя в числе двуногих
Он почитал умнее очень многих [т. II, стр. 185].
Впрочем, надо сознаться, что Лермонтов, говоря о «Саше» или «Сашке» в поэме этого имени, столько же относится к самому себе, сколько к Полежаеву. В герое поэмы слиты оба типа. Они имели много общего, много неразгаданного, и много личной субъективной силы крылось в них. Жажда к личной свободе и избыток огромных сил в этих двух характерах, проявившихся как раз в то время, когда все подводилось под один уровень и не терпелось ничего самобытного, делает их страдания весьма схожими, делает судьбу их схожею, с той только разницей, что за одним стояла богатая и влиятельная родня да преданная бабушка, а другой был безродный бедняк, от которого отказался богатый дядя. Но оба они сошли непонятыми в раннюю могилу под военной шинелью, под которой держали их насильно и против воли[94 - Что Полежаев против воли должен был служить в военной службе, известно всем; но что Лермонтов, несмотря на свои связи, насильно удерживался в ней, знают немногие. В своем месте мы скажем об этом.]. Оба избыток сил, которым выход был заказан, тратили непроизводительно, особенно в первой молодости, не зная, куда девать кипучую страсть, и не находя ответа на призыв любящей души. Следующая характеристика «Сашки» одинаково может относиться и к Лермонтову, и к Полежаеву – личностям роковым:
Он был рожден под гибельной звездой,
С желаньями безбрежными, как вечность.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
И в пустыне света
На дружный зов не встретили ответа [т. II, стр. 199].
Да, Лермонтов почуял это родство своей натуры с полежаевской, и о нем-то говорит он:
И ты, чья жизнь, как беглая звезда,
Промчалася неслышно между нами,
Ты мук своих не выразил словами,
Ты не хотел насмешки выпить яд
С улыбкою притворной, как Сократ,
И не разгадан глупою толпою.
Ты умер – чуждый жизни… Мир с тобою!
И мир твоим костям! Они сгниют,
Покрытые одеждою военной…
[CXXXVII, стр. 222 и д.]
Еще в других местах поэмы встречаются слова симпатии к Полежаеву, отличающиеся теплотой и искренностью тона.
Несмотря на то что Лермонтов как будто чуждался товарищей по аудитории, он не отставал от них, когда дело касалось, так сказать, всей корпорации, когда предпринималось что-нибудь, сопряженное с общею опасностью и ответственностью. В этом случае Лермонтов являлся солидарным с другими – ни искренность, ни гордость его характера не дозволяли ему отделиться от других. Он ощущал вполне то, что так выхваляет Аксаков – «чувство общей связи товарищества».
Выказалось это в известной маловской истории, бывшей в начале 1831 года. Профессор Малов на этико-политическом отделении читал историю римского законодательства или теорию уголовного права. Его любимой темой было рассуждение о человеке. Он заставлял студентов писать на эту тему, чем надоедал им, как и вообще выводил их из терпенья назойливым и придирчивым своим характером. Грубый и необразованный, он довел-таки студентов до того, что они решились сделать ему «скандал».
Сговорившись с некоторыми из товарищей своих по другим отделениям, студенты собрались в аудиторию. Через край полная аудитория, рассказывает очевидец, волновалась и издавала глухой, сдавленный гул. Малов обыкновенно начинал свои лекции словами: «Человек, который…» Едва он на этот раз начал лекцию своим обычным выражением, как началось шарканье. «Вы выражаете ваши мысли ногами, как лошади!» – раздраженно заметил профессор и попытался овладеть шумом, вновь приступая к лекции. «Человек, который…» – произнес он опять. – «Прекрасно! Fora!» – кричат студенты. – «Человек, который…» – «Bis! Прекрасно!..» Бедный Малов замечает: «Господа, я должен буду уйти!..» Ему кричат: «Прекрасно, браво!..» Наконец поднялась целая буря. Студенты вскочили на лавки, раздались свистки, шиканье, крики: «Вон его, вон!..» Потерявшийся Малов сошел с кафедры, продираясь к дверям. С шиканьем и свистом провожали его слушатели. Все шли за ним по коридору, по лестнице. Торопливо одевшись, Малов вышел на университетский двор. Студенты бросили вслед ему забытые им калоши. Они проводили его до ворот и вышли на улицу. Таким образом, дело получило формально более серьезный характер. Малова вообще не любили, и часто студенты встречали его шиканьем или устраивали ему шумные скандалы в аудиториях. Это проходило безнаказанным или без серьезных последствий; но на этот раз история получила публичность, да и вообще к студентам, как уже замечено, стали относиться строже. Родители и молодежь, уже наученные опытом и зная, что такая история может повлечь за собой более или менее строгие наказания – отдачу в солдаты, а не то и отправление их в отдаленную ссылку, – ожидали кары.
Особенно грозила опасность тем из участников, которые, принадлежа к другим факультетам, пришли в аудиторию в качестве вспомогательного войска[95 - Историю с Маловым рассказывают Герцен [«Былое и думы», т. I, глава VI] и Дудышкин в материалах для биогр. Лермонтова, изд. 1863 г., т. VI. О Малове, не любимом студентами и часто подвергавшемся шиканью, упоминает Ляликов [Русский Архив 1875 года, кн. III, стр. 385].].
К последним принадлежал Лермонтов. Он ждал наказания, что видно из стихотворения, написанного им в то время другу и товарищу по университету Н. И. Поливанову [т. I, стр. 177].
На этот раз, однако, опасность миновала.
Университетское начальство, боясь, чтобы не было назначено особой следственной комиссии и делу придано преувеличенное значение, отчего могли возникнуть неприятности и для него, поспешило само подвергнуть наказанию некоторых из студентов и по возможности уменьшить вину их. Сам Малов был сделан ответственным за беспорядок и в тот же год получил увольнение[96 - Михаил Яковлевич (род. в 1709 году, ум. 1849) вышел кандидатом из Московского университета в 1811 г.; с 1823 г. читал историю римского законодательства на этико-политическом отделении; с 1828 г. был сделан экстраординарным профессором, а в 1831 г. уволен от должности с пенсией в 400 рубл. асс. [«Биографич. словарь» профессора Малова; «Былое и думы» Герцена, гл. VI].]. Из студентов лишь некоторые приговорены к легкому наказанию – заключению в карцер.
Ректор Двигубский, благоразумно избегавший затрагивать студентов с влиятельною родней, кажется, вовсе не подвергнул Лермонтова взысканию. Герцен же, как предводитель курса, пришедшего с медицинского факультета, посидел под арестом. Обыкновенное мнение, что Лермонтов из-за этой истории должен был покинуть Московский университет, совершенно ошибочно;[97 - Догадка об удалении Лермонтова из университета вследствие истории с Маловым впервые печатно высказана Дудышкиным в материалах для биографии Лермонтова, стр. VІ [изд. «Соч. Лермонтова», 1860 г.]. Взято это было Дудышкиным все из того же опыта биографии Хохрякова, материалами коего он так много пользовался, не указав, впрочем, источника. Приводя дословно целые страницы из тетради Хохрякова, г. Дудышкин в рассказе о маловской истории изменил только слова г. Хохрякова: «а вот что мы слышали» на – «а вот что нам рассказывали». Догадка Дудышкина была принята за достоверное и А. Н. Пыпиным [«Биография Лермонтова», издан. 1873 года, стр. XXIV], несмотря на то, что уже г-жа Ладыженская в статье своей «Замечания на воспоминания Екатерины Алекс. Хвостовой» [Русский Вестник 1872 года, № 2, стр. 660] – отвергает рассказ об исключении Лермонтова. А. Н. Пыпин усомнился в ее показаниях. Что же касается письма, приводимого Дудышкиным, затем Пыпиным и другими, писанного будто близким к Лермонтову человеком по поводу этой истории, то письмо это писано позднее, в 1832 году, по поводу попытки Лермонтова вступить в Петербургский университет, как увидим ниже. Относительно выхода Лермонтова из Московского университета вследствие «истории», г. Поливанов [Русск. Стар. 1875 г., т. XII, стр. 813] замечает, что отцу его [т. е. товарищу Лермонтова) казалось сомнительным исключение Лермонтова из университета. «При господствующей тогда строгости вряд ли мог исключенный быть принят в школу гвардейских юнкеров».] но весьма возможно, что участие его в ней, равно как и некоторые столкновения с другими профессорами, заставили университетское начальство смотреть на него косо и желать отделаться от дерзкого питомца. По рассказам товарища, у Лермонтова в то же время были столкновения с профессорами: Победоносцевым и другими.
«Перед рождественскими праздниками, – говорит Вистенгоф, – профессора делали репетиции, то есть проверяли знания своих слушателей за пройденное полугодие и, согласно ответам, ставили баллы, которые брались в соображение на публичных переходных экзаменах. Профессор Победоносцев, читавший изящную словесность, задал какой-то вопрос Лермонтову. На этот вопрос Лермонтов начал отвечать бойко и с уверенностью. Профессор сначала слушал его, а потом остановил и сказал:
– Я вам этого не читал. Я бы желал, чтобы вы мне отвечали именно то, что и проходили. Откуда могли вы почерпнуть эти знания?
– Это правда, господин профессор, – отвечал Лермонтов, – вы нам этого, что я сейчас говорил, не читали и не могли читать, потому что это слишком ново и до вас еще не дошло. Я пользуюсь научными пособиями из своей собственной библиотеки, содержащей все вновь выходящее на иностранных языках.
Мы переглянулись. Ответ в этом роде был дан уже и прежде профессору Гастеву, читавшему геральдику и нумизматику».
Дерзкими выходками этими профессора обиделись и припоминали это Лермонтову на публичном экзамене. Вистенгоф замечает при этом, что эти столкновения с профессорами открыли товарищам глаза относительно Лермонтова. «Теперь человек этот нам вполне высказался. Мы поняли его», – то есть уразумели, как полагает Вистенгоф, заносчивый и презрительный нрав Лермонтова[98 - По рассказу Вистенгофа выходит, впрочем, что столкновение Лермонтова с профессором Победоносцевым было в первое полугодие после его поступления. Но тут г. Вистенгоф, должно быть, запамятовал. Известно, что лекции в университете прекратились осенью 1830 года, по случаю холеры, и опять начались в январе 1831 года, следовательно, и репетиции перед Рождеством могли быть только в 1831 году. Затем Вистенгоф утверждает, что Победоносцев на публичных (переходных) экзаменах отомстил Лермонтову. Весной 1831 года экзаменов не было (о чем замечено выше), а были они весной 1832 г. На словах Вистенгоф заметил мне, что положительно знает, что Лермонтов вышел из университета не вследствие «истории», а «скорее из самолюбия, потому что оборвался на экзамене и считал, что Победоносцев к нему придирается, что может быть и была правда». Выходит, столкновение с Победоносцевым было в конце 1831 года. Весной на экзаменах он ему припомнил выходку, и уже 1 июня Лермонтов подает прошение об увольнении из университета.].
Надо, однако же, сказать, что при тогдашнем печальном преподавании и презрительным отношении к нему даже лучших студентов такие выходки Лермонтова не представляли ничего необыкновенного. К. Аксаков рассказывает, что «Коссович (известный наш санскритист) тоже уединился от всех, не занимался университетским ученьем, не ходил почти на лекции, а когда приходил, то приносил с собою книгу и не отнимал от нее головы все время, как был в аудитории. Коссович, который в это время вступил на свою дорогу филологического призвания и глотал один язык за другим, трудясь дельно и образовывая себя, был оставлен на втором курсе и только впоследствии, занявшись университетскими предметами, вышел кандидатом».
Белинский тоже равнодушно не мог слушать некоторых лекций. Однажды Победоносцев в самом азарте объяснений вдруг остановился и, обратившись к Белинскому, сказал:
«Что ты, Белинский, сидишь так беспокойно, как будто на шиле, и ничего не слушаешь?.. Повтори-ка мне последние слова, на чем я остановился?» «Вы остановились на словах, что я сижу на шиле», – отвечал спокойно и не задумавшись Белинский. При таком наивном ответе студенты разразились смехом. Преподаватель с гордым презрением отвернулся от неразумного, по его разумению, студента и продолжал свою лекцию о хриях, инверсах и автонианах, но горько потом пришлось Белинскому за его убийственно-едкий ответ[99 - Пыпин: жизнь Белинского, I, стр. 65.].
Итак, выходка Лермонтова не представляла ничего необычайного, но легко могла рассердить профессора обидностью тона и явно презрительным отношением к его преподаванию, высказанным в присутствии всей аудитории.
Когда подошли публичные переходные экзамены, профессора дали почувствовать строптивому студенту, что безнаказанно нельзя презирать их лекций.
Произошло ли новое столкновение с Победоносцевым, вследствие которого Лермонтов не хотел далее экзаменоваться, или же экзаменовался он неудачно, но только продолжать курс в Московском университете оказалось неудобным. Быть может, именно тут начальство, припоминая выходки Лермонтова, постаралось намекнуть на то, что удобнее было ему продолжать курс в другом университете. Во всяком случае, решено было родными и самим Михаилом Юрьевичем из Московского университета выйти и поступить в Петербургский. 1 июня 1832 года Лермонтов вошел с прошением в правление университета об увольнении его из оного и о выдаче надлежащего свидетельства для перехода в Императорский Санкт-Петербургский университет. Таковое свидетельство и было выдано просителю 18-го числа того же месяца. Замечательно, что в свидетельстве ничего не говорится о том, на каком Лермонтов числился курсе, а только то, что, поступив в число студентов 1 сентября 1830 года, слушал лекции по словесному отделению.
Снабженный свидетельством о пребывании в университете, Лермонтов с бабушкой летом 1832 года отправились в Петербург, где поместились в квартире на берегу Мойки, у Синего моста, в доме, который позднее принадлежал журналисту Гречу.
Однако Петербургский университет отказался зачесть Лермонтову годы пребывания в Московском университете, и таким образом ему пришлось бы поступить вновь на первый курс. К тому же как раз в это время заговорили об увеличении университетского курса на столько, чтобы студенты оканчивали его не в три, а в четыре года. Это испугало Лермонтова; он видел несправедливость в том, что ему не хотели зачесть лет, проведенных в Москве. Поступив в Петербурге в число студентов, ему пришлось бы окончить курс в 1836 году. Этим он тяготился, ему хотелось на свободу, стать независимым человеком. Еще незадолго перед тем писал он в альбом Саши Верещагиной:
Отворите мне темницу,
Дайте мне сиянье дня,
Черноглазую девицу,
Черногривого коня:
Я пущусь по дикой степи,
И надменно сброшу я
Образованности цепи
И вериги бытия [т. I, стр. 255 и д.].
Свободолюбивая натура Лермонтова тяготилась всякими стеснениями. Он всюду чувствовал «вериги бытия».
Порядки университета и общества в юношеском преувеличении казались ему цепями.
Лермонтову хотелось во что бы то ни стало вырваться из положения зависимого. Вот почему он задумал поступить юнкером в полк и в училище, из которого он мог выйти уже в 1834 году и, следовательно, выигрывал два года.
К тому же многие из его друзей и товарищей по университетскому пансиону и Московскому университету как раз в это время тоже переходят в школу. Еще за год вступил в нее любимейший из товарищей Лермонтова по университетскому пансиону Михаил Шубин, а одновременно с ним – Поливанов из Московского университета, друзья и близкие родственники – Алексей (Монго) Столыпин и Николай Юрьев да Михаил Мартынов – сосед по пензенскому имению[100 - О близкой дружбе Лермонтова с Шубиным рассказывал мне А. З. Зиновьев. Он очень хвалил Шубина, называл его человеком прекрасных душевных свойств. Шубин этот впоследствии, как и Лермонтов, был переведен в армию из лейб-гусар за то, что ударил камер-лакея. Относительно Поливанова см. Русск. Старину 1875 года, т. XII, стр. 812, о прочих в историч. очерке Николаев. кавалер. училища, выпуски 1833, 34 и 35 гг. За полгода до выхода Лермонтова из «школы» вышел из нее в гвардию граф Ник. Серг. Толстой, тоже перешедший в «школу» из Московского университета [Сушков. Моск. унив. пансион, стр. 75]. Толстой – автор сочинения «Заволжские очерки, взгляды и рассказы». Еще раньше поступил в «школу» из Моск. унив. пансиона Ник. Назимов, да и многие другие.].
Неудивительно, что все это подстрекало Лермонтова, пылкий характер которого, конечно, не мог удовлетвориться деятельностью в службе гражданской, а в то время ведь всякий непременно должен был служить или в военной, или в гражданской службе. Его натура, жаждавшая бурь и сильных ощущений, насыщенная с детства рассказами Капэ о наполеоновских войнах и родных, о кавказских приключениях, конечно, влекла к жизни военной. Недаром в юношеских произведениях он прославлял бои и выказывал симпатию к военному быту и военным людям. Страсть к литературе одна, вероятно, заставляла его насиловать натуру свою и уступать желаниям бабушки, которая и слышать не хотела, чтобы внук подвергал себя опасностям боевой жизни. Позднее еще, когда Лермонтов юнкером лейб-гвардии гусарского полка стоял в Петергофе и в лагерное время захворал, выказалось, по рассказам очевидцев, вся нелюбовь Арсеньевой к военной карьере внука. Бабушка приехала к начальнику Лермонтова полковнику Гельмерсену просить отпустить больного домой. Гельмерсен находил это лишним и старался уверить бабушку, что для внука ее нет никакой опасности. Во время разговора он сказал:
– Что же вы сделаете, если внук ваш захворает во время войны?
– А ты думаешь, – бабушка, как известно, всем говорила «ты», – а ты думаешь, что я его так и отпущу в военное время?! – раздраженно ответила она.
– Так зачем же он тогда в военной службе?
– Да это пока мир, батюшка!.. А ты что думал?[101 - Из рассказов г-жи Гельмерсен, рожден. Россильон, бывшей при беседе мужа своего с бабушкой Лермонтова. Г-жа Гельмерсен скончалась в Дерпте в конце 80-х годов.]
В глазах его открытых, но печальных,
Нашли бы вы без наблюдений дальних
Презренье, гордость; хоть он был не горд,
Как глупый турок иль богатый лорд,
Но все-таки себя в числе двуногих
Он почитал умнее очень многих [т. II, стр. 185].
Впрочем, надо сознаться, что Лермонтов, говоря о «Саше» или «Сашке» в поэме этого имени, столько же относится к самому себе, сколько к Полежаеву. В герое поэмы слиты оба типа. Они имели много общего, много неразгаданного, и много личной субъективной силы крылось в них. Жажда к личной свободе и избыток огромных сил в этих двух характерах, проявившихся как раз в то время, когда все подводилось под один уровень и не терпелось ничего самобытного, делает их страдания весьма схожими, делает судьбу их схожею, с той только разницей, что за одним стояла богатая и влиятельная родня да преданная бабушка, а другой был безродный бедняк, от которого отказался богатый дядя. Но оба они сошли непонятыми в раннюю могилу под военной шинелью, под которой держали их насильно и против воли[94 - Что Полежаев против воли должен был служить в военной службе, известно всем; но что Лермонтов, несмотря на свои связи, насильно удерживался в ней, знают немногие. В своем месте мы скажем об этом.]. Оба избыток сил, которым выход был заказан, тратили непроизводительно, особенно в первой молодости, не зная, куда девать кипучую страсть, и не находя ответа на призыв любящей души. Следующая характеристика «Сашки» одинаково может относиться и к Лермонтову, и к Полежаеву – личностям роковым:
Он был рожден под гибельной звездой,
С желаньями безбрежными, как вечность.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
И в пустыне света
На дружный зов не встретили ответа [т. II, стр. 199].
Да, Лермонтов почуял это родство своей натуры с полежаевской, и о нем-то говорит он:
И ты, чья жизнь, как беглая звезда,
Промчалася неслышно между нами,
Ты мук своих не выразил словами,
Ты не хотел насмешки выпить яд
С улыбкою притворной, как Сократ,
И не разгадан глупою толпою.
Ты умер – чуждый жизни… Мир с тобою!
И мир твоим костям! Они сгниют,
Покрытые одеждою военной…
[CXXXVII, стр. 222 и д.]
Еще в других местах поэмы встречаются слова симпатии к Полежаеву, отличающиеся теплотой и искренностью тона.
Несмотря на то что Лермонтов как будто чуждался товарищей по аудитории, он не отставал от них, когда дело касалось, так сказать, всей корпорации, когда предпринималось что-нибудь, сопряженное с общею опасностью и ответственностью. В этом случае Лермонтов являлся солидарным с другими – ни искренность, ни гордость его характера не дозволяли ему отделиться от других. Он ощущал вполне то, что так выхваляет Аксаков – «чувство общей связи товарищества».
Выказалось это в известной маловской истории, бывшей в начале 1831 года. Профессор Малов на этико-политическом отделении читал историю римского законодательства или теорию уголовного права. Его любимой темой было рассуждение о человеке. Он заставлял студентов писать на эту тему, чем надоедал им, как и вообще выводил их из терпенья назойливым и придирчивым своим характером. Грубый и необразованный, он довел-таки студентов до того, что они решились сделать ему «скандал».
Сговорившись с некоторыми из товарищей своих по другим отделениям, студенты собрались в аудиторию. Через край полная аудитория, рассказывает очевидец, волновалась и издавала глухой, сдавленный гул. Малов обыкновенно начинал свои лекции словами: «Человек, который…» Едва он на этот раз начал лекцию своим обычным выражением, как началось шарканье. «Вы выражаете ваши мысли ногами, как лошади!» – раздраженно заметил профессор и попытался овладеть шумом, вновь приступая к лекции. «Человек, который…» – произнес он опять. – «Прекрасно! Fora!» – кричат студенты. – «Человек, который…» – «Bis! Прекрасно!..» Бедный Малов замечает: «Господа, я должен буду уйти!..» Ему кричат: «Прекрасно, браво!..» Наконец поднялась целая буря. Студенты вскочили на лавки, раздались свистки, шиканье, крики: «Вон его, вон!..» Потерявшийся Малов сошел с кафедры, продираясь к дверям. С шиканьем и свистом провожали его слушатели. Все шли за ним по коридору, по лестнице. Торопливо одевшись, Малов вышел на университетский двор. Студенты бросили вслед ему забытые им калоши. Они проводили его до ворот и вышли на улицу. Таким образом, дело получило формально более серьезный характер. Малова вообще не любили, и часто студенты встречали его шиканьем или устраивали ему шумные скандалы в аудиториях. Это проходило безнаказанным или без серьезных последствий; но на этот раз история получила публичность, да и вообще к студентам, как уже замечено, стали относиться строже. Родители и молодежь, уже наученные опытом и зная, что такая история может повлечь за собой более или менее строгие наказания – отдачу в солдаты, а не то и отправление их в отдаленную ссылку, – ожидали кары.
Особенно грозила опасность тем из участников, которые, принадлежа к другим факультетам, пришли в аудиторию в качестве вспомогательного войска[95 - Историю с Маловым рассказывают Герцен [«Былое и думы», т. I, глава VI] и Дудышкин в материалах для биогр. Лермонтова, изд. 1863 г., т. VI. О Малове, не любимом студентами и часто подвергавшемся шиканью, упоминает Ляликов [Русский Архив 1875 года, кн. III, стр. 385].].
К последним принадлежал Лермонтов. Он ждал наказания, что видно из стихотворения, написанного им в то время другу и товарищу по университету Н. И. Поливанову [т. I, стр. 177].
На этот раз, однако, опасность миновала.
Университетское начальство, боясь, чтобы не было назначено особой следственной комиссии и делу придано преувеличенное значение, отчего могли возникнуть неприятности и для него, поспешило само подвергнуть наказанию некоторых из студентов и по возможности уменьшить вину их. Сам Малов был сделан ответственным за беспорядок и в тот же год получил увольнение[96 - Михаил Яковлевич (род. в 1709 году, ум. 1849) вышел кандидатом из Московского университета в 1811 г.; с 1823 г. читал историю римского законодательства на этико-политическом отделении; с 1828 г. был сделан экстраординарным профессором, а в 1831 г. уволен от должности с пенсией в 400 рубл. асс. [«Биографич. словарь» профессора Малова; «Былое и думы» Герцена, гл. VI].]. Из студентов лишь некоторые приговорены к легкому наказанию – заключению в карцер.
Ректор Двигубский, благоразумно избегавший затрагивать студентов с влиятельною родней, кажется, вовсе не подвергнул Лермонтова взысканию. Герцен же, как предводитель курса, пришедшего с медицинского факультета, посидел под арестом. Обыкновенное мнение, что Лермонтов из-за этой истории должен был покинуть Московский университет, совершенно ошибочно;[97 - Догадка об удалении Лермонтова из университета вследствие истории с Маловым впервые печатно высказана Дудышкиным в материалах для биографии Лермонтова, стр. VІ [изд. «Соч. Лермонтова», 1860 г.]. Взято это было Дудышкиным все из того же опыта биографии Хохрякова, материалами коего он так много пользовался, не указав, впрочем, источника. Приводя дословно целые страницы из тетради Хохрякова, г. Дудышкин в рассказе о маловской истории изменил только слова г. Хохрякова: «а вот что мы слышали» на – «а вот что нам рассказывали». Догадка Дудышкина была принята за достоверное и А. Н. Пыпиным [«Биография Лермонтова», издан. 1873 года, стр. XXIV], несмотря на то, что уже г-жа Ладыженская в статье своей «Замечания на воспоминания Екатерины Алекс. Хвостовой» [Русский Вестник 1872 года, № 2, стр. 660] – отвергает рассказ об исключении Лермонтова. А. Н. Пыпин усомнился в ее показаниях. Что же касается письма, приводимого Дудышкиным, затем Пыпиным и другими, писанного будто близким к Лермонтову человеком по поводу этой истории, то письмо это писано позднее, в 1832 году, по поводу попытки Лермонтова вступить в Петербургский университет, как увидим ниже. Относительно выхода Лермонтова из Московского университета вследствие «истории», г. Поливанов [Русск. Стар. 1875 г., т. XII, стр. 813] замечает, что отцу его [т. е. товарищу Лермонтова) казалось сомнительным исключение Лермонтова из университета. «При господствующей тогда строгости вряд ли мог исключенный быть принят в школу гвардейских юнкеров».] но весьма возможно, что участие его в ней, равно как и некоторые столкновения с другими профессорами, заставили университетское начальство смотреть на него косо и желать отделаться от дерзкого питомца. По рассказам товарища, у Лермонтова в то же время были столкновения с профессорами: Победоносцевым и другими.
«Перед рождественскими праздниками, – говорит Вистенгоф, – профессора делали репетиции, то есть проверяли знания своих слушателей за пройденное полугодие и, согласно ответам, ставили баллы, которые брались в соображение на публичных переходных экзаменах. Профессор Победоносцев, читавший изящную словесность, задал какой-то вопрос Лермонтову. На этот вопрос Лермонтов начал отвечать бойко и с уверенностью. Профессор сначала слушал его, а потом остановил и сказал:
– Я вам этого не читал. Я бы желал, чтобы вы мне отвечали именно то, что и проходили. Откуда могли вы почерпнуть эти знания?
– Это правда, господин профессор, – отвечал Лермонтов, – вы нам этого, что я сейчас говорил, не читали и не могли читать, потому что это слишком ново и до вас еще не дошло. Я пользуюсь научными пособиями из своей собственной библиотеки, содержащей все вновь выходящее на иностранных языках.
Мы переглянулись. Ответ в этом роде был дан уже и прежде профессору Гастеву, читавшему геральдику и нумизматику».
Дерзкими выходками этими профессора обиделись и припоминали это Лермонтову на публичном экзамене. Вистенгоф замечает при этом, что эти столкновения с профессорами открыли товарищам глаза относительно Лермонтова. «Теперь человек этот нам вполне высказался. Мы поняли его», – то есть уразумели, как полагает Вистенгоф, заносчивый и презрительный нрав Лермонтова[98 - По рассказу Вистенгофа выходит, впрочем, что столкновение Лермонтова с профессором Победоносцевым было в первое полугодие после его поступления. Но тут г. Вистенгоф, должно быть, запамятовал. Известно, что лекции в университете прекратились осенью 1830 года, по случаю холеры, и опять начались в январе 1831 года, следовательно, и репетиции перед Рождеством могли быть только в 1831 году. Затем Вистенгоф утверждает, что Победоносцев на публичных (переходных) экзаменах отомстил Лермонтову. Весной 1831 года экзаменов не было (о чем замечено выше), а были они весной 1832 г. На словах Вистенгоф заметил мне, что положительно знает, что Лермонтов вышел из университета не вследствие «истории», а «скорее из самолюбия, потому что оборвался на экзамене и считал, что Победоносцев к нему придирается, что может быть и была правда». Выходит, столкновение с Победоносцевым было в конце 1831 года. Весной на экзаменах он ему припомнил выходку, и уже 1 июня Лермонтов подает прошение об увольнении из университета.].
Надо, однако же, сказать, что при тогдашнем печальном преподавании и презрительным отношении к нему даже лучших студентов такие выходки Лермонтова не представляли ничего необыкновенного. К. Аксаков рассказывает, что «Коссович (известный наш санскритист) тоже уединился от всех, не занимался университетским ученьем, не ходил почти на лекции, а когда приходил, то приносил с собою книгу и не отнимал от нее головы все время, как был в аудитории. Коссович, который в это время вступил на свою дорогу филологического призвания и глотал один язык за другим, трудясь дельно и образовывая себя, был оставлен на втором курсе и только впоследствии, занявшись университетскими предметами, вышел кандидатом».
Белинский тоже равнодушно не мог слушать некоторых лекций. Однажды Победоносцев в самом азарте объяснений вдруг остановился и, обратившись к Белинскому, сказал:
«Что ты, Белинский, сидишь так беспокойно, как будто на шиле, и ничего не слушаешь?.. Повтори-ка мне последние слова, на чем я остановился?» «Вы остановились на словах, что я сижу на шиле», – отвечал спокойно и не задумавшись Белинский. При таком наивном ответе студенты разразились смехом. Преподаватель с гордым презрением отвернулся от неразумного, по его разумению, студента и продолжал свою лекцию о хриях, инверсах и автонианах, но горько потом пришлось Белинскому за его убийственно-едкий ответ[99 - Пыпин: жизнь Белинского, I, стр. 65.].
Итак, выходка Лермонтова не представляла ничего необычайного, но легко могла рассердить профессора обидностью тона и явно презрительным отношением к его преподаванию, высказанным в присутствии всей аудитории.
Когда подошли публичные переходные экзамены, профессора дали почувствовать строптивому студенту, что безнаказанно нельзя презирать их лекций.
Произошло ли новое столкновение с Победоносцевым, вследствие которого Лермонтов не хотел далее экзаменоваться, или же экзаменовался он неудачно, но только продолжать курс в Московском университете оказалось неудобным. Быть может, именно тут начальство, припоминая выходки Лермонтова, постаралось намекнуть на то, что удобнее было ему продолжать курс в другом университете. Во всяком случае, решено было родными и самим Михаилом Юрьевичем из Московского университета выйти и поступить в Петербургский. 1 июня 1832 года Лермонтов вошел с прошением в правление университета об увольнении его из оного и о выдаче надлежащего свидетельства для перехода в Императорский Санкт-Петербургский университет. Таковое свидетельство и было выдано просителю 18-го числа того же месяца. Замечательно, что в свидетельстве ничего не говорится о том, на каком Лермонтов числился курсе, а только то, что, поступив в число студентов 1 сентября 1830 года, слушал лекции по словесному отделению.
Снабженный свидетельством о пребывании в университете, Лермонтов с бабушкой летом 1832 года отправились в Петербург, где поместились в квартире на берегу Мойки, у Синего моста, в доме, который позднее принадлежал журналисту Гречу.
Однако Петербургский университет отказался зачесть Лермонтову годы пребывания в Московском университете, и таким образом ему пришлось бы поступить вновь на первый курс. К тому же как раз в это время заговорили об увеличении университетского курса на столько, чтобы студенты оканчивали его не в три, а в четыре года. Это испугало Лермонтова; он видел несправедливость в том, что ему не хотели зачесть лет, проведенных в Москве. Поступив в Петербурге в число студентов, ему пришлось бы окончить курс в 1836 году. Этим он тяготился, ему хотелось на свободу, стать независимым человеком. Еще незадолго перед тем писал он в альбом Саши Верещагиной:
Отворите мне темницу,
Дайте мне сиянье дня,
Черноглазую девицу,
Черногривого коня:
Я пущусь по дикой степи,
И надменно сброшу я
Образованности цепи
И вериги бытия [т. I, стр. 255 и д.].
Свободолюбивая натура Лермонтова тяготилась всякими стеснениями. Он всюду чувствовал «вериги бытия».
Порядки университета и общества в юношеском преувеличении казались ему цепями.
Лермонтову хотелось во что бы то ни стало вырваться из положения зависимого. Вот почему он задумал поступить юнкером в полк и в училище, из которого он мог выйти уже в 1834 году и, следовательно, выигрывал два года.
К тому же многие из его друзей и товарищей по университетскому пансиону и Московскому университету как раз в это время тоже переходят в школу. Еще за год вступил в нее любимейший из товарищей Лермонтова по университетскому пансиону Михаил Шубин, а одновременно с ним – Поливанов из Московского университета, друзья и близкие родственники – Алексей (Монго) Столыпин и Николай Юрьев да Михаил Мартынов – сосед по пензенскому имению[100 - О близкой дружбе Лермонтова с Шубиным рассказывал мне А. З. Зиновьев. Он очень хвалил Шубина, называл его человеком прекрасных душевных свойств. Шубин этот впоследствии, как и Лермонтов, был переведен в армию из лейб-гусар за то, что ударил камер-лакея. Относительно Поливанова см. Русск. Старину 1875 года, т. XII, стр. 812, о прочих в историч. очерке Николаев. кавалер. училища, выпуски 1833, 34 и 35 гг. За полгода до выхода Лермонтова из «школы» вышел из нее в гвардию граф Ник. Серг. Толстой, тоже перешедший в «школу» из Московского университета [Сушков. Моск. унив. пансион, стр. 75]. Толстой – автор сочинения «Заволжские очерки, взгляды и рассказы». Еще раньше поступил в «школу» из Моск. унив. пансиона Ник. Назимов, да и многие другие.].
Неудивительно, что все это подстрекало Лермонтова, пылкий характер которого, конечно, не мог удовлетвориться деятельностью в службе гражданской, а в то время ведь всякий непременно должен был служить или в военной, или в гражданской службе. Его натура, жаждавшая бурь и сильных ощущений, насыщенная с детства рассказами Капэ о наполеоновских войнах и родных, о кавказских приключениях, конечно, влекла к жизни военной. Недаром в юношеских произведениях он прославлял бои и выказывал симпатию к военному быту и военным людям. Страсть к литературе одна, вероятно, заставляла его насиловать натуру свою и уступать желаниям бабушки, которая и слышать не хотела, чтобы внук подвергал себя опасностям боевой жизни. Позднее еще, когда Лермонтов юнкером лейб-гвардии гусарского полка стоял в Петергофе и в лагерное время захворал, выказалось, по рассказам очевидцев, вся нелюбовь Арсеньевой к военной карьере внука. Бабушка приехала к начальнику Лермонтова полковнику Гельмерсену просить отпустить больного домой. Гельмерсен находил это лишним и старался уверить бабушку, что для внука ее нет никакой опасности. Во время разговора он сказал:
– Что же вы сделаете, если внук ваш захворает во время войны?
– А ты думаешь, – бабушка, как известно, всем говорила «ты», – а ты думаешь, что я его так и отпущу в военное время?! – раздраженно ответила она.
– Так зачем же он тогда в военной службе?
– Да это пока мир, батюшка!.. А ты что думал?[101 - Из рассказов г-жи Гельмерсен, рожден. Россильон, бывшей при беседе мужа своего с бабушкой Лермонтова. Г-жа Гельмерсен скончалась в Дерпте в конце 80-х годов.]