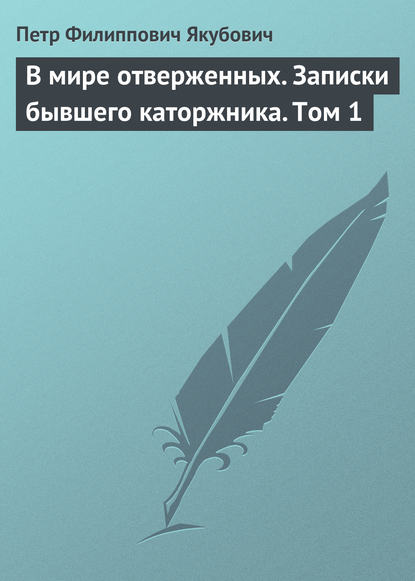По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
В мире отверженных. Записки бывшего каторжника. Том 1
Автор
Год написания книги
1896
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Якубович показывает, как на каторге "постоянный кошмар злых бесчеловечных порядков, обычаев, привычек", не исправляет, а окончательно портит человека (история Огурцова и Миши Пенто). В эпизоде избиения казаком Васькой больного арестанта Якубович подчеркнул, что даже добрый по натуре человек совершает здесь зверские поступки потому только, что их безнаказанно "принято совершать".
Терроризирующий режим каторги приводит Лучезарова и его "образцовую" тюрьму к полному краху. Но Якубович понимает, что убрать одного жестокосердного начальника – это еще не значит хоть сколько-нибудь оздоровить атмосферу каторжного застенка. Уходят Лучезаровы, но остаются их подручные Пальчиковы, Безыменные, Ломовы – те же "бесчеловечные дубины". В конце книги возникает образ новой каторги – Сахалина, которого "страшились, как смертной казни". Это был "живой гроб, из которого нет возврата назад".
В каторжном Шелае автор обобщил материал карийских и акатуйских наблюдений, свидетельствовавших о глубоком антагонизме между заключенными и "начальством". Каторжники, подчеркивал Якубович, – "все без исключения отличались страшной ненавистью к "железным носам", дворянам, купцам, чиновникам". При посещении каторги губернатором "все недовольство, какое накоплялось в ней годами… все это моментально вспыхнуло, как порох от поднесенной к нему горящей спички, и приняло форму страстного, неудержимого протеста". В стихийном протесте каторжников (особенно Семенова) побудительным мотивом является "непримиримая ненависть ко всем существующим традициям и порядкам, начиная с экономических и кончая религиозно-нравственными".
Но если прошлая жизнь "на воле" научила заключенных ненавидеть барина и чиновника, то она не научила их бороться с ними. Еще менее научить этому могла тюрьма. Отсюда – неспособность к борьбе, характерная для большинства обитателей каторжного Шелая. Естественное чувство протеста у заключенных приобретает порой характер диких, анархических порывов. Якубович отмечает, что каторжниками "проповедовались такие разрушительные теории, какие не снились ни одному анархисту в мире".
В арестантской массе Якубович отмечает суеверие, но за редкими исключениями он не заметил в пей следов религиозного умиления. Характерно, что в книге нет описаний ни одного религиозного праздника (Достоевский посвящает этому вопросу целую главу). Молитва, читаемая по утрам, походила скорее на богохуление. В рассказах заключенных "с обычною бранью против закона, веры, бога" автор отмечает особенную злобу и ожесточение против попов. В духовенстве каторга видела защитников власти. Очень характерна сцена посещения камеры немцем-миссионером. Розданные им Евангелия немедленно пошли на курево и другие "еще более низменные потребности".
В книге Якубовича воинствующий гуманистический пафос писателя-демократа противостоит ханжеской религиозно-филантропической морали, проповедуемой "верхами" для "заблудших". Перед писателем стояла трудная задача: найти в испорченном, озлобленном и одичавшем существе искры человеческого достоинства. Не впадая в идеализацию, писатель подводит к выводу, что даже в самой закоренелой душе преступника можно пробудить человеческое, обнаружить скрытую, искаженную невыносимыми условиями трудовую основу народного характера.
Якубовичу удалось убедительно показать (и в этом он видел главную задачу своей книги), "как обитатели и этого ужасного мира, эти искалеченные, темные, порой безумные люди, подобно всем нам, способны не только ненавидеть, но и страстно, глубоко любить, падать, но и подниматься, жаждать света и правды и не меньше нас страдать от всего, что стоит преградой на пути к человеческому счастью".
В книге Якубовича немало мест, перекликающихся с заключительными словами из "Записок из мертвого дома" Достоевского: "И сколько в этих стенах погребено напрасно молодости: сколько великих сил погибло здесь даром". Аналогичный мотив пронизывает и "записки" Якубовича: "Эта злосчастная каторга, утопающая во тьме, в крови и грязи, она сама не знает, сколько здоровых, светлых зерен таится в ее сердце".
В рассуждениях безнадежно "отпетого" Мишки Шустера о необходимости жить честным трудом автор уловил пробуждение совести и "глубокую искренность". В угрюмом Петре Семенове, осужденном на каторгу за бесконечные грабежи и побеги он нашел задушевность, чувство чести и товарищества, умение сдерживать "дикую натуру". Семенов умел не только работать с огоньком, но и толково объяснить Ивану Николаевичу, как надо бурить, потому что "без учителя не учатся", Во время работы Семенов преображался и казался титаном, от мощных ударов которого содрогалась гора. Лицо его порой озарялось улыбкой и "пленяло чисто детским простодушием". В неповоротливом Ногайцеве во время работы "чуялся тот же богатырь сказочных времен". В его страшном преступлении автор отмечает отсутствие цинизма и "сознательной развращенности". "Дай мне волю, – говорит Ногайцев, – я опять настоящим человеком стану". В арестантских стихах вечно заспанного увальня Владимирова ("Медвежье Ушко") автор неожиданно уловил "довольно сложный процесс мысли и чувства, в сущности очень близкий и родственный тому, – пишет он, – который сам я переживал и чувствовал". В Чирке, этом предмете вечных насмешек и шутовства, автор разглядел природный ум и добродушие. Чувство прекрасного присуще "Осиновому боталу" – взбалмошному Егору Ракитину, плясуну и песеннику, который мечтает на воле выучить "расчудесную книгу" – "Братья-разбойники" Пушкина. Даже в парашнике Яшке Тарбагане-этой тюремной "траве без названья", найдена "искра": в его голове "постоянно бродила мечта о воле".
Вера автора в светлые стороны человеческой натуры простых людей сказалась в создании им трогательных женских образов, от которых веет глубоким драматизмом (Авдотья Финогеновна, Анна Аркадьевна, Настя Буренкова, Пелагея Концова, Юзефа, Ёнталэ, Таня, Елена). Эту особенность отметила и критика, подчеркнув "удивительную чистоту и целомудренность отношений поэта к женщине – другу, к женщине – матери и сестре". Глубоко волнуют психологически тонко написанные Якубовичем образы детей (Хася, Брухэ, Сурэлэ, Абрашка, Рухеню Боруховичи, Кася Мусяла, Кеша Ракитин).
Якубович верит в перерождение "преступной души" и считает, что для этого. нужны не "авторитет кулака", не проповеди миссионеров, а коренное изменение социальных условий. Чтобы бороться с преступностью, прежде всего необходимо дать "народу работу и кусок хлеба" – таков вывод автора.
В связи с проблемой перевоспитания "отверженных" в книге остро поставлен вопрос о роли каторжного труда. Отношение к подневольному труду, который был методом наказания, мучительства и калечения людей, было проникнуто у каторжников нескрываемой ненавистью. На каждом шагу они ловко водили за нос надсмотрщиков, умели "тянуть волынку", хотя и знали, как надо работать, если эта работа сверх каторжного "урока" хоть минимально оплачивалась горным ведомством.
Якубович подметил, что безвозмездный каторжный труд, который заключенные воспринимали как "даровую работу на барина", особенно развращает и ожесточает арестантов. Вместе с тем жажда свободного труда "на воле" пробуждает стихийное стремление отверженных к совместным действиям (помощь товарищам в побеге, выступление против Лучезарова).
"В мире отверженных" – не только книга об уголовной каторге, но и волнующий рассказ о политических ссыльных. С любовью и художественным тактом написаны образы политических – Ивана Николаевича, Башурова, Штейнгарта. Их деятельность пробуждала стихийные стремления заключенных отстоять хотя бы немногие права, которые цинично и безнаказанно попирались администрацией каторги. Политическим удалось своими силами организовать медицинскую помощь, обучение неграмотных; в столкновениях с "начальством" они выступали подлинными защитниками обездоленных.
Образ Ивана Николаевича, от имени которого ведется рассказ, занимает в книге наиболее значительное место. С первых же страниц читатель понимал, что Иван Николаевич – "политический", а не осужденный за убийство из ревности, о чем упоминалось в предисловии, рассчитанном на цензуру. Якубович убедительно просил в отдельном издании "обойтись совсем без отводящего глаза предисловия а lа Достоевский".[14 - Письмо А. И. Иванчину-Писареву от 25 февраля 1896 года (Институт русской литературы Академии наук СССР).]
Автор подчеркивает прежде всего политические симпатии и стремления Ивана Николаевича. С большим волнением он рассказывает о трагической участи революционного поэта М. Л. Михайлова и Н. Г. Чернышевского, о могилах польских повстанцев 1863 года. Во время работы в шахте в его воображении возникают образы декабристов, томившихся до него "в каторжных норах". Он с любовью цитирует стихи Тараса Шевченко, сравнивает себя с Кротом из поэмы Некрасова "Несчастные" и т. д. Все эти места вычеркивались или смягчались цензурой.
Наконец, весь нравственный облик Ивана Николаевича, его просветительская деятельность среди уголовных говорили о том, что это человек "совсем особого рода", "без кривизны" – "политический".
Среди уголовных типов Иван Николаевич социально и духовно одинок, хотя, в отличие от Достоевского, отношения с каторжниками с самого начала у него установились в основном дружеские. Преследуя цель полного разобщения политических, устранения возможности взаимной поддержки, царское правительство распределяло их среди уголовных, рассылая народовольцев, в отличие от декабристов, не в одну, а разные каторжные тюрьмы. Однако и здесь, без панибратства и заигрывания, Иван Николаевич нашел путь к сердцам каторжных, "Миколаичу" они поведали свои думы и не ошиблись. Любовь автора к "отверженным", "не. была только красивым порывом, но была любовью деятельной, любовью, не знавшей преград, не боявшейся жертв" – писала большевистская "Звезда".
Иван Николаевич – не автопортрет Якубовича, хотя многие черты его нравственного облика, несомненно, близки автору (товарищество, гуманизм, умение понять внутренний мир отверженных, тонкое чувство прекрасного). Однако писатель стремился создать типичный образ передового современника, человека революционной народнической складни, который и в жестоких условиях каторжной тюрьмы, среди одичалых и озлобленных уголовников не сломился и не растерял качеств "народного заступника". Подчас в авторском повествовании писатель как бы подменяет рассказчика. Это связывает литературного героя книги – "современника" с живой и конкретной личностью поэта-народовольца; заставляет читателя угадывать его задушевные мысли, чувства и настроения.
Некоторые черты своей личной биографии и факты из жизни близких ему людей Якубович использовал, работая над образами других "политических". Так, в исповеди Штейнгарта отразились некоторые факты личных отношений писателя. со своей невестой Р. Ф. Франк. Эпизод приезда Тани (в ней улавливаются черты сестры писателя – М. Ф. Якубович) напоминает встречу Якубовича с Р. Ф. Франк в Горном Зерентуе.
Нельзя согласиться с высказанным в критике мнением (М. Янко, Д. Якубович), будто в образе Ивана Николаевича не отразились черты политического борца и революционного поэта. Это необоснованный упрек. На каторге герой Якубовича не отказался от активной революционной борьбы, но изменил ее формы. В остроге для него были закрыты все пути для открытой политической пропаганды, так как неграмотные арестанты путали слово "идеал" со словом "дьявол", а "ученик" со словом "учитель". Поэтому его Иван Николаевич изменяет тактику борьбы, выдвигая на первый план проблемы просвещения, связывая моральные вопросы с задачами освободительного движения.
Сама тема каторги, выдвигая вопрос о социальной природе "преступления и наказания", подсказывала постановку этических проблем, но философское и художественное решение их в книге отличалось от концепций Л, Толстого и Достоевского. В решении этих проблем у Якубовича не было намека на возрождающую силу религии или внезапное духовное "воскресение" героев (Раскольников, Нехлюдов), Мировоззрение Якубовича формировалось под воздействием гуманистических идей революционных просветителей. В 1898 году в полемике с декадентами он утверждал, что с юных лет он "воспитался на Белинском и его художественных идеях".[15 - "Русское богатство", 1898, № 8, стр. 112.] По мнению Якубовича, русская литература "не знает ничего более сильного и энергичного", чем знаменитое "Письмо Белинского к Гоголю", "которое, будучи вместе с тем и письмом к русскому обществу, сыграло такую крупную роль в истории его самосознания…"[16 - Там же, стр. 107.]
Очень высоко ценил Якубович этическую программу великих революционных просветителей 1860-х годов – Чернышевского, Добролюбова и Некрасова. Писатель глубоко и органично впитал гуманистические традиции передовой русской литературы, самоотверженно защищавшей честь и достоинство-человека.
Воинствующий демократический пафос нравственных идей Белинского и "шестидесятников" ощущается в произведении Якубовича и когда он с возмущением говорит о кошмаре ч<злых бесчеловечных порядков", и когда гневно выступает против телесных наказаний я защищает нравственное достоинство "отверженных", которые жаждут "мыслить и чувствовать по-человечески", и когда страстно разоблачает реакционные утверждения "верхов", будто народу "грамота даже вредна". В излагаемых на страницах книги взглядах писателя-народовольца на прогресс и просвещение народных масс оживают передовые традиции революционно-демократической мысли XIX века.
Книга Якубовича, продолжая демократические традиции русской литературы, многими своими положениями перекликается с идеями Белинского, С нравственными идеалами поэзии Пушкина и Некрасова, Писатель ставит в ней вопрос о демократическом нравственном идеале свободного человека, о моральном долге интеллигенции перед угнетенным народом, о неизбежной переоценке нравственных норм в борьбе за свободу и человеческое достоинство.
Писатель подчеркивает, что века рабства и гнета оставили свои тяжелые следы в духовном облике человека каторги и явились сильной помехой для возрождения "отверженных" к трудовой жизни. Тем не менее мораль уголовного каторжника, несмотря на всю свою уродливость, была открыто враждебна морали Лучезаровых и оказывалась порой более человечной, Как волновалась, например, тюрьма, узнав о приказе разорить сотни гнезд ласточек с птенчиками под крышей тюрьмы, потому что от них "сор на фундаментах". Арестанты признают, что они варвары, но "до такого варварства не доходили". Арестанты "тоже люди, хоть и убитые богом", – говорит Сокольцев, "Ссыльный"– тоже человек", – подтверждает Годунов. "Я разве не человек?" – спрашивает еврей Борухович, и т, д. Подлинная человечность "отверженных" сказалась также в отсутствии у них чувства национальной розни и антисемитизма. "Русская каторга абсолютно чужда всякой религиозной, а тем более расовой непримиримости. Вот народ, который знает лишь две породы людей – угнетателей и угнетенных", – таков вывод автора.
Идея обучать "отверженных", приобщить их к художественному слову возникает у Ивана Николаевича в первые же дни знакомства с заключенными, так как в каторжной тюрьме во многих камерах царила "поголовная безграмотность". В условиях каторги литература была едва ли не единственным средством борьбы с нравственным одичанием, Гуманная и свободолюбивая поэзия Пушкина и Лермонтова, мир образов Гоголя и Шекспира непосредственно воздействовали на впечатлительных, хотя и темных, безграмотных слушателей, приобщали их к нормальной духовной жизни общества, нравственно облагораживали их.
Слушая "с пожирающим интересом" чтение "Дубровского", "Капитанской дочки", "Бориса Годунова" Пушкина, "Мертвых душ" Гоголя, "Отелло" и "Короля Лира" Шекспира, большинство каторжников "отдавалось настроению автора и получало те же впечатления, какие получают все нормальные читатели и слушатели". Знаменательно, что и в самой среде "учеников" Ивана Николаевича, безграмотных и темных каторжников, автор уловил искры подлинной поэтической одаренности. В книге широко отразилось устное народное творчество как одно из средств познания народной судьбы и характера. Якубович использовал различные жанры фольклора (песни, легенды, сказки, пословицы и поговорки, прозвища, меткие выражения). Приводя несколько народных песен, автор тонко передал манеру исполнения, особенности голоса и поведения исполнителей (Ракитин, Маразгали), воздействие их на слушателей. Тем самым Якубович раскрыл через песню душевные переживания каторжников, их талантливость, поэтическую восприимчивость, углубил их психологическую и национальную характеристику. Той же цели служило и использование автором лексических и фразеологических особенностей народного языка, интонационного склада народной речи. Языковое богатство книги без намека на стилизацию воспринимается как отражение многообразных народных характеров и быта.
Признавая необходимость просветительской деятельности, направленной на распространение передовых идей, Якубович понимал, что одного просвещения для преодоления ужаса каторги недостаточно. Он рассматривал свою "школу" на каторге лишь как одно из средств для пробуждения сознания, главное же, по мнению писателя – это изменение общественного строя, обрекающего народ на нищету и бесправие.
Однако в книге Якубовича отразились и некоторые утопические стороны народнического мировоззрения. Рассуждая о средствах изменения общества, Иван Николаевич развивал перед каторжниками мысль "о силе и власти просвещения". В его просветительской утопии ощущается влияние народнической теории "естественного прогресса". В своей книге писатель еще не мог поставить вопрос о роли пролетариата в революционно-освободительной борьбе. Но не эти слабые стороны идейно-художественного содержания "В мире отверженных" определяли пафос прогрессивной книги. Сблизившись с миром народных страданий на каторге и в ссылке, Якубович полнее ощутил историческую силу пробуждающихся народных масс. В образе богатыря Семенова, исступленно дробящего гранитные глыбы, Иван Николаевич увидел олицетворение проснувшихся народных сил и остро почувствовал свое "дворянское худосочие". Ему думалось в эти минуты: "Вот правдивый образ народа и интеллигенции! Как он могуч и как вместе с тем и слеп, этот несчастный труженик – народ, и как жалка ты, зрячая интеллигенция".
Иван Николаевич видит, как в каторжной массе накопились огромные силы, которые бурлили, бессильно ища выхода. Их пробуждению препятствовали не только условия тюремной изоляции, но и противоречивость нравственных понятий "отверженных". Анархическое бунтарство в среде заключенных уживалось нередко с равнодушием, пассивностью и даже рабским смирением. Отдельные попытки открытого протеста кончались неудачей: татарин Бандулов, выступивший против Разгильдеева, был "затоптан ногами", лезгин Шах-Ламас, бросившийся с ножом на Лучезарова, затравлен в карцере, В самой безысходной противоречивости настроений каторжной тюрьмы, в мучительных раздумьях автора над судьбами "отверженных" современный автору передовой читатель видел необходимость коренных социальных перемен, которые могли уничтожить не только варварски жестокий институт царской каторги, но и породивший его эксплуататорский буржуазно-дворянский общественный строй.
"В мире отверженных" – книга большого дыхания. Советский читатель с интересом прочтет ее и по достоинству оценит это выдающееся произведение революционера-народовольца, который, по словам большевистской "Звезды", "отдал себя целиком на служение Родине для счастья грядущего человечества".
Б. Двинянинов
В преддверии[2 - Глава первоначально называлась: "Дорога". П. Ф. Якубович, приговоренный к каторжным работам, был отправлен этапом в Карийскую каторжную тюрьму (Читинской области). Начало "арестантской жизни", этапный путь и все, что ему предшествовало, описаны в первой главе.Этой главе в журнальном тексте предпослано рассчитанное на цензуру вступление "Вместо предисловия", в котором читателю представляется "доктор Мельшин", якобы издающий записки убийцы Д. Отвечая украинскому поэту П. А. Грабовскому на его недоумения по поводу "необходимости переодевания", Якубович писал: "Вы сами можете понять, что не от воли автора зависело обойтись без него… Что сделано оно, быть может, неудачно – это другой вопрос, но автор и не заботился сделать переодевание удачнее: напротив, он хотел употребить явный и избитый шаблон" ("Из переписки П. Ф. Якубовича". – Журнал "Русское богатство", 1912, № 5, стр. 50, 56). В отдельных изданиях это вступление сначала подверглось авторскому сокращению, а затем и совершенно им отброшено. Приводим текст "Вместо предисловия" полностью:"Прежде всего спешу предупредить читателя, что предлагаемые его вниманию записки отнюдь не принадлежат нижеподписавшемуся, который является не больше как издателем их. Они попали мне в руки совершенно случайно. Находясь в постоянных разъездах по делам службы, сам я редко бываю дома – в том небольшом городке Забайкалья, который служит местом жительства моей семьи; по этой причине я очень туго сближаюсь и с своими соседями. Да мало, признаться, и интересуюсь ими. В редкие выпадающие мне досуги я предпочитаю заглянуть в газету или в новую книжку журнала, чем сидеть за винтом и неизбежно сопровождающим его в Сибири графином очищенной. Такое поведение не совсем, правда, благоприятно отзывается на – моей репутации среди обывателей, прозвавших меня медведем и гордецом; но я не претендую на это и ничуть не был удивлен или огорчен, когда приехавший в одну из моих отлучек новый обыватель, поселившийся совсем рядом с моей квартирой, странностью своего поведения заткнул даже и меня за пояс. Это был господин средних лет, довольно красивый, с сильной проседью в голове и бороде, поселенец из дворян с небезызвестной фамилией. Стоустая молва в весьма трогательных чертах передавала историю совершенного им из ревности убийства и находила его невинно пострадавшим. Хорошее, по-видимому, состояние, благовоспитанные манеры, тихий нрав, представительная наружность – все невольно располагало к Д.; но сам он с первого же шага на новом месте показал, что не только сближаться, но и знакомиться ни с кем не намерен. Незадолго до прибытия в наш город он получил право разъезда по Сибири, но желания куда-нибудь уехать не обнаруживал. Посетовали, посудачили, почесали обыватели язычки насчет образа жизни новоприбывшего – и махнули рукой. Я тоже заинтересовался было тем фактом, что Д. выписал на новый год массу газет и журналов, не только русских, но и иностранных (до тех пор не было у меня в этом отношении соперников); но любопытство мое было чисто пассивного характера: ни малейшего шага к сближению я не сделал, и, живя в нескольких всего саженях друг от друга, мы так и остались один для другого прекрасными незнакомцами. Одно еще знал я о жизни Д.: что он очень много пишет, что целые груды рукописей хранятся у него в корзинке и в ящиках стола. Сведения эти исходили от его квартирной хозяйки, и потому, само собой понятно, содержание рукописей оставалось для меня terra incognita.(Неизвестным (лат.).)19 мая нынешнего года, вернувшись домой после двухнедельного отсутствия, я, к удивлению своему, узнал, что Д. уже нет в живых: на другой день после моего отъезда его нашли мертвым, с пером в руке, склонившимся над письменным столом. Смерть произошла моментально, от разрыва сердца. Имущество покойного было описано, запечатано, и дальнейшая судьба его мне неизвестна; корзина с писанными бумагами была предварительно вынесена хозяйкой в ее собственную комнату. Эта добрая женщина отличалась непомерным любопытством, свойственным почти всем сибирячкам, и желание допытаться, о чем таком вечно пишет ее жилец, уже давно ее подмывало. Через несколько дней после похорон Д. она притащила эти бумаги к моей жене, с которой вела большую дружбу, и обе с нетерпением дожидались моего приезда. Я сам с большим интересом приступил к разбору этих рукописей и с первых же страниц должен был признаться, что они могут занять и не одно праздное любопытство. Это было подробное описание всей каторжной жизни покойного… После "Записок из Мертвого Дома" Достоевского других подобных попыток в нашей литературе я не встречал. Существует, правда, множество рассказов о бродягах, о каторжных и поселенцах, этапные и тюремные описания, но связного, крупного произведения, посвященного этому "миру отверженных" и написанного человеком, который сам бы в течение нескольких лет жил в нем, был его сочленом, – существования в новой русской литературе другого такого сочинения я по крайней мере не знаю. Сам автор во многих местах записок проводит сравнение (чисто внешнее, конечно: он весьма скромен) между собой как писателем и Достоевским. Вполне справедливо, мне кажется, указывает он на несколько десятков лет, отделяющих его мемуары от "Записок из Мертвого Дома", на то, что за этот период времени, внесший такие крупные изменения во весь строй русской действительности, не могли остаться совершенно теми же, что были при Достоевском, ни внешний, ни внутренний облик Мертвого Дома.Эти замечания дают мне повод думать, что автор придавал некоторую ценность своему труду и, очевидно, готовил его к печати. В бумагах его есть даже черновое письмо в редакцию одного из толстых журналов, по-видимому, впрочем, не отосланное за преждевременной смертью.Вот соображения, побудившие меня предать эти записки опубликованию. Печатаю пока только первую часть, которую мне удалось разобрать и проредактировать. В редактировании моем она нуждалась в том смысле, что писана была, очевидно, начерно: слог отличался местами шероховатостью; встречались также скучные повторения; пришлось кое-где сократить и поставить в известные рамки лирические излияния. Но еще раз подчеркиваю: никаких существенных изменений не внесено мною в эти записки, и читатель должен глядеть на меня только как на редактора-издателя их. На мой личный взгляд, они отличаются искренностью и правдивостью; но брать на себя ответственность за излагаемые факты я, однако, не желаю. Не знаю даже, буквально ли это скопированная действительность или же факты, прошедшие сквозь призму художественного анализа и обобщения…Пускай судят обо всем этом критики и лица, более меня компетентные в знании арестантского мира и его нравов.Д-р Л. МельшинИюнь 1894 г."]
Бледные тени! Ужасные тени!
Злоба, безумье, любовь…
Едем мы, братец, в крови по колени, —
"Полно – тут пыль, а не кровь…"
Н. Некрасов[1 - Эпиграф из стихотворения Н. А. Некрасова "Благодарение господу богу…". В стихотворении изображена знаменитая Владимирская дорога, по которой гнали арестантов в Сибирь.]
Много лет довелось мне прожить в мире отверженных, и прожить не в качестве постороннего наблюдателя, а непосредственно участвуя во всех мелочах их жизни, лежа рядом на тех же нарах, питаясь той же омерзительной баландой, работая ту же работу, деля отчасти и умственные и нравственные интересы. Часто поэтому подмывало меня и до сих пор не покидает желание передать свои впечатления бумаге, поведать о них свету.
Правда, страшно браться за задачу, которая однажды была уже блистательно выполнена великим художником. Несмотря на то, что цели, которые я ставлю себе, очень скромны и я совершенно чужд претензии на художественность письма, мною все-таки овладевает невольное чувство боязни, когда я вспоминаю о существовании "Записок из Мертвого Дома": таково очарование гения…
Я долго колебался… И только мысль о том, что столько изменений произошло в этом мрачном мире со времен Достоевского, что его эпоха отделена от нас уже несколькими десятками лет, так многообразно отразившимися на всех сторонах и явлениях русской жизни, а между тем не слишком-то часто случается в истории, чтобы такие писатели, как Достоевский, шли в каторгу, – одна только эта мысль побудила меня взяться наконец за перо и оттолкнуть все сомнения. Исполню свою задачу так, как позволят мои силы, не становясь на ходули и добиваясь одной награды – признания искренности.
Для начала попытаюсь изобразить путь в Сибирь по этапам, составляющий как бы преддверие мира отверженных. Насколько мне известно, никто еще достодолжным образом не описал в нашей литературе всех красот и прелестей этого невольного вояжа – к счастию, с проведением сибирской железной дороги[3 - Условия этапного пути, и, в частности, его наиболее тяжелого участка – от Красноярска до Иркутска, описанные автором, относятся к 1887 году. Сибирская железная дорога начала строиться в 1892 году, а участок ее от Красноярска до Иркутска был открыт только в 1899 году.] отходящего уже в область истории. Но, с другой стороны, спешу оговориться: читатель не найдет в этой части моих очерков непосредственного изображения арестантского мира. Будучи "политическим преступником", я ехал в каторгу с сравнительным комфортом – пользовался отдельным от уголовной партии помещением на этапах, имел подводу и пр. Одним словом, я был в то время еще дилетантом-каторжником, только что начавшим знакомиться с новым своим положением; наблюдения мои неизбежно должны были отличаться поэтому некоторой поверхностностью и подчас прямой неверностью. Тем не менее я надеюсь, что. и здесь могу сказать кое-что любопытное и неизвестное большой публике.
I
Начало своей каторжной жизни, как это ни странно, я помню очень смутно. Многое рисуется мне будто во сне, и за некоторые факты я не поручусь даже – точно ли они были в действительности или же только пригрезились мне. Это произошло оттого, конечно, что я был и физически и нравственно болен, хотя никому из врачей, свидетельствовавших меня, не приходило этого в голову. Я очень долго сидел под следствием, в тяжелом одиночном заключении, без книг, на одной казенной пище, в угнетенном душевном состоянии.[4 - Якубович пробыл в одиночном заключении в Трубецком бастионе Петропавловской крепости два года (1884–1886), и в Доме предварительного заключения еще полгода.] Особенно тяжелы были последние недели. заключения, когда из далекой провинциальной глуши притащилась в столицу моя старая мать (какая-то добрая душа "обрушила утес на ее грудь", сообщила ей обо всем). Она вся поседела и согнулась от горя, хотя за какие-нибудь три года перед тем я видел ее вполне 'бодрой, черноволосой еще женщиной – никто не давал ей на вид больше сорока лет. На свиданиях со мною она старалась казаться по-прежнему веселой и бодрой: наивная душа, она думала ободрить меня этим! Но я не мог не видеть ее опухших от слез и покрасневших глаз, не мог не улавливать по временам глубокой-глубокой грусти в ее ласкающем взгляде, не мог не догадываться, что она неустанно хлопочет, обивает пороги, кланяется, молит, плачет…
Ах, проклятые, проклятые дни!.. Сколько высосали вы крови из сердца, сколько влили в него яда, сколько отняли лучших сил… Мимо, мимо! Не хочу вспоминать… Одно скажу: страшно было последнее свидание с матерью. В тюремных снах я часто испытывал кошмары, но ни один из них никогда не мог сравниться с болью и ужасом нашего прощания!..
Расстались мы часа в три дня, а в шесть, как объявил мне смотритель, должны были заковать меня и обрить. Помню как сейчас, что я тогда испытывал. Кандалов я до тех пор не видел, как не видел и бритых голов; из книжных описаний тоже мог составить лишь слабое понятие, по той простой причине, что не имел надобности и охоты вникать в них. Все это я представлял себе совсем иначе и, нужно сознаться, гораздо хуже. Мне почему-то казалось, например, что, когда закуют в кандалы, уже нельзя будет свободно двигаться, и потому я спешил насладиться последними минутами свободы, торопливо расхаживая по своей маленькой клетке, позволявшей делать всего три шага в один конец. И вот наступила роковая минута; меня повели в баню – и там ошельмовали: обрили гладко-нагладко ровно половину головы (правую половину в продольном направлении) и заковали крепко-накрепко в десятифунтовые кандалы с железными кольцами, так тесно обнимавшими щиколотку ноги, что с трудом проходило между ними и телом нижнее белье. Через несколько дней у меня распухли ноги, так что принуждены были перековать меня в более просторные и легкие оковы. Впоследствии я убедился, что в Сибири, особенно Восточной, начальстве в этом отношении снисходительнее: и на кандалы и на бритье там склонны глядеть как на устарелую и ни к чему не нужную формальность. Партии сплошь и рядом идут раскованные, держа кандалы в мешках вместе с прочими казенными вещами; головы бреются тоже без особенного педантизма, а в каторжных тюрьмах часто и вовсе не бреются. Не то в России и в Западной Сибири. Давно, кажется, пора бы понять, что никогда и никому не мешали бежать и скрыться кандалы или бритая голова: обнаженный череп легко прикроет парик или даже просто шапка; любые кандалы можно разбить в пять минут, хорошенько ударив по кольцу дверью или поленом и разбив заклепки; иногда достаточно бывает и простого сплющения кольца, чтобы ступня ноги свободно прошла через него. Серьезно мешают побегу только тюремные стены и конвой.
Кандалы и бритье головы, несомненно, имеют в виду одну только цель – надругание над достоинством человека, лишенного прав.[5 - Аналогичная мысль была высказана Ф. М. Достоевским в "Записках из мертвого дома": "Кандалы – одно шельмование, стыд и тягость, физическая и нравственная… Бежать же они никогда никому помешать не могут" (часть вторая, глава 1. Гошпиталь).] Не в столь отдаленную старину на лицах и плечах колодников выжигались каленым железом особые клейма, и до сих пор еще можно встретить в Сибири, в каторжных богадельнях и на поселении дряхлых стариков, имеющих эти ужасные печати. Но современное просвещение запрещает уже подобного рода варварство, находя его одной из разновидностей средневековой пытки; оставлены только кандалы и бритье голов… И нужно ли доказывать, что и это лишь своего рода уцелевший пережиток? Можно ли не жалеть, когда время от времени замечается на этот счет поворот в сторону реакции, издаются циркуляры о строгом и неукоснительном выполнении закона, и арестантам начинают снова по-настоящему брить головы и надевать на ноги оковы? Припоминая свой личный опыт, я могу, впрочем, сказать, что с этими последними мое внутреннее чувство гораздо легче мирилось, нежели с бритьем: кандалы в значительной степени опоэтизированы преданием и народной песней, они являются в глазах арестантов своего рода почетом, а не поруганием… Совсем иное чувство испытываешь, глядя на приготовления солдата-цирюльника к своему отвратительному делу. Бритье головы, кроме нравственной муки, причиняет еще обыкновенно и чисто физическую боль: неумелые руки и тупые бритвы режут до крови кожу на голове, расцарапывают на ней мелкие прыщики, делают ссадины на естественных неровностях черепа… Кровь, смешанная с обильно струящимся по голове грязным мылом, совершающий свою операцию равнодушный и безмолвный палач, гримасы и вскрикивания оперируемой им жертвы – все это превращает в подлинную пытку те минуты, когда приходится ждать своей очереди, чтобы быть так же ошельмованным и так же изувеченным. Не говорю уже о необходимости морозить потом голый череп во время ужасных сибирских холодов и схватывать, неизвестно чего ради, простуду, кашель и насморк.
Кандалы не раз уже были подробно описаны в русской литературе. На каждую ногу надевают по большому железному кольцу, настолько свободному, чтоб между ним и телом могло проходить белье, и настолько тесному, чтоб его нельзя было снять с ноги, и кузнецы наглухо заклепывают их. От этих колец идут две цепи, состоящие из маленьких колечек; они сходятся в одном более значительном кольце, к которому прикрепляется ремень, заменяющий арестантам пояс. Таким образом, самые цепи висят и при движении хлопают по ногам и ударяются друг о дружку – "бряцают", "лязгают". Кольца, надетые на ноги, вертятся и причиняют боль, для устранения которой служат кожаные "подкандальники" и "поджильники". В Восточной Сибири, где начальство не так педантично, как в России, и арестанты носят кандалы только для формы, кольца надеваются прямо на сапоги, и тогда никаких подкандальников и поджильников не нужно. Я давно уже не ношу кандалов и объяснить теперь достаточно ясно, пожалуй, не мог бы, как умудряются арестанты надевать на ноги белье и штаны в том случае, если кандалы не снимаются; однако хорошо помню, что как только явилась необходимость в этом, я отлично сообразил все без чужой помощи. Нужда научит калачи есть…
Еще хорошо запомнился мне день отъезда, или, лучше сказать, одна мучительная сцена, сопровождавшая этот отъезд. В этот день мать не пустили ко мне на свидание (прощание, как я рассказывал уже, происходило накануне, в день заковки). Рано утром меня посадили в закрытую карету и помчали на станцию железной дороги. И вот тут увидел я нечто необычайное, что положительно растерзало мне сердце. Подле самого окна быстро мчавшейся кареты я увидел дорогое лицо, искаженное мукой нечеловеческих усилий казаться веселым; я подумал сначала, что брежу, галлюцинирую… Заглядываю в окно – и что же вижу? Моя мать – бедная, больная старуха – с раскрасневшимся лицом и выбившимися из-под шляпки жидкими прядями белых как снег волос бежит рядом с-каретой; бежит, не слыша под собой ног и, видимо, не ощущая усталости, что-то говорит и делает рукой воздушные поцелуи… Бедняга! Она опоздала к тому моменту, когда меня сажали в карету, потому что с раннего утра бегала хлопотать о свидании (накануне ничего не могла добиться), и вот теперь ей хотелось искупить свой проступок ("опоздала!") и еще раз проститься с бесконечно любимым сыном. Я махал ей в окно рукой (махал и сердитый охранитель мой), знаками умоляя остановиться, не мучить ни себя, ни меня; но долго еще бежала она, пока наконец телесная немощь не одержала верх, и карета не умчалась навсегда! Тогда и я, помню, откинулся на спинку кареты и горько заплакал. Больше я не видел матери, да и никогда в жизни не увижу, потому что давно уже спит она вечным сном на одном из сырых кладбищ бездушного города. Но, уже находясь в Сибири, я получил от нее письмо, одно место которого неизгладимыми чертами врезалось в моей памяти и теперь еще жжет сердце. горячей всякого огня, больней всяких слез.