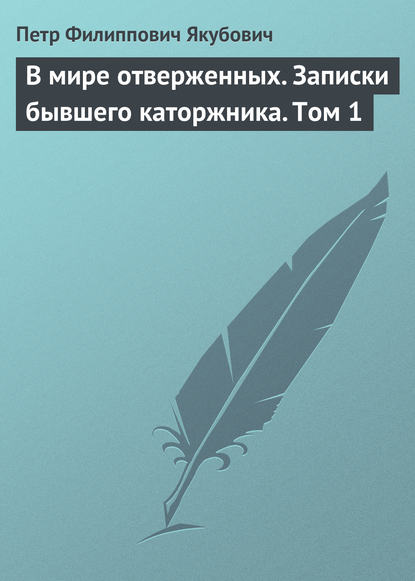По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
В мире отверженных. Записки бывшего каторжника. Том 1
Автор
Год написания книги
1896
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Какие секретцы?
– Да знаете, у каждого из них котелочек там, щепочки в запасце, угольки…
Стоило ли продолжать спор с этим неисправимым оптимистом? Да он и сам поторопился, впрочем, уйти. В камеру втащили парашу, дверь быстро захлопнулась, ключ загремел в тяжелом замке, и мы очутились одни. Арестанты остались целы потому только, что не спали всю ночь, пили чай и бегали по камере, играя в чехарду и занимаясь другими полезными упражнениями… Мне припомнилось при этом утешение веселого фельдфебеля:
"У них такие секретцы есть". Да, живуч и тягуч русский человек, ко многому приспособиться умеет, многими житейскими "секретцами" обладает!
Начальник описываемого этапа слыл, между прочим, просвещенным человеком и даже либералом; он приходил иногда в камеру политических, запросто беседовал с ними и высказывал самые передовые, порой даже смелые взгляды…
Этапы в большинстве случаев очень ветхи и стары; некоторые из них строились еще в 30-х годах нынешнего столетия, и хотя ремонтные деньги, надо думать, отпускаются в известные сроки, но серьезных перестроек и поправок почему-то не приходится замечать. Можно подумать, что здания эти существуют скорее для крыс, нежели для людей, – такое в них множество этих отвратительных животных, бегающих во время ночи по телам арестантов, поднимающих шумные драки и противным писком своим не дающих спокойно заснуть. Помню, как однажды огромная крыса до крови укусила палец спавшему рядом со мной человеку…
Встречаются, между прочим, погорелые этапы, вместо которых в течение десяти и более лет "не успели" еще выстроить новых. В таких местах партии или проходят два станка в один день, или останавливаются в частном помещении, в обыкновенной крестьянской избе, к окнам которой приделаны железные решетки и в которой нет даже нар – ничего, кроме неизбежной параши. Вся партия спит вповалку на голом полу. Не мудрено, что в подобных условиях, при плохом и недостаточном питании, при непрерывной ходьбе и в страшные сибирские морозы, при жизни в грязи и холоде, организм арестантов, и без того уже истощенный годами предварительного заключения в тюрьме, часто не выдерживает и легко поддается всевозможным тифам, горячкам и другим эпидемическим болезням. Целыми десятками остаются они в больницах и десятками же отправляются отдыхать на близлежащие сопки, где даже убогий крест не отметит места их вечного упокоения… Но и в больницу попасть не так-то легко. Больницы имеются только в больших городах и селах, и я живо помню несколько случаев, когда к этапу, имевшему лазарет, привозились уже одни остывшие трупы… А сколько настрадается несчастный больной, прежде чем умрет! Бросят его, как полено, на подводу, прикроют халатом и везут от этапа до нового этапа. Привезут – и в этапе тоже бросят где-нибудь на полу, в грязи и стуже. Если нет у него родственника или близкого товарища, то никто не позаботится ни напоить, ни накормить, ни спросить, что болит и что нужно. До того ли тут? Каждый заботится о себе, боится, как бы самому не оплошать и не пасть жертвой в этой ужасной битве за жизнь, за сегодняшний день. Огрубело у каждого сердце, окаменело… Я видал ужасные сцены, как, например, арестанты, спотыкаясь о подобных больных, в ответ на их стон принимались угощать их самыми забористыми ругательствами и пожеланиями скорей отправиться на тот свет – и никто не думал вступиться за несчастных!.. Варварские нравы, читатель, не правда ли? И мы, интеллигенты, помню, возмущались ими. Но были ли мы сами лучше и добрее арестантов? Почему мы не брали этих больных к себе, в свое более просторное помещение, не ухаживали за ними, не делились с ними последним? Почему? Да потому, что и у нас своя рубашка была ближе к телу, потому, что и нам жилось не легче уголовной партии.
В год моего путешествия свирепствовала на этапах странная болезнь, похожая не то на тиф, не то на нервную горячку и унесшая в могилу множество народа. Болезнь эта, начинавшаяся с сильной головной боли, особенно косила образованных людей, как менее сильных и привычных к этапным лишениям, и на моих глазах, умерло несколько юношей, любимых и уважаемых всеми товарищами.
В холодный осенний день, когда снег лежал уже на земле, но реки еще не стали, мы переплывали на маленьком баркасе, едва не потонувшем под тяжестью повозок, солдат и арестантов, через реку Бирюсу[10 - Бирюса – река в Иркутской области. Через деревню Бирюсинскую проходил большой Сибирский тракт.], находящуюся невдалеке от селения того же имени с этапом посредине. Мы закоченели от холода, ощущали сильный голод и с нетерпением ждали отдыха в теплом и уютном помещении (назавтра предстояла дневка). Кто-то из солдат обрадовал нас известием, что этап большой, чистый и что в нем найдется отдельная камера не только для нашей группы, но и для наших женщин. Последнее было особенно всем приятно. Этап оказался действительно просторным и новым сравнительно зданием, совсем непохожим на те крысиные норы, какие представляют из себя большинство сибирских тюрем. Мы вбежали в отведенный нам коридор, радостные, улыбающиеся, с оживлением и шумом. Унтер-офицер местной команды, встретивший нас, тоже улыбался при виде общей радости и предложил на выбор целых три камеры.
– Эта вот лучше всех будет, – сказал он, отворяя одну из дверей, – отсюда три дня только назад уехал Л.
– Как три дня назад? – удивились мои спутники. – Ведь он был в прошлой партии, которая прошла две недели назад.
– Так-то так: да он выпросил позволение остаться при больном С., похоронил его, потом еще прожил здесь два дня и уехал с конвойным догонять свою партию.
– Похоронил С.?! С. умер?..
Все как громом были поражены этой вестью… С. был молодой польский поэт, прелестные переводы которого из Надсона и оригинальные стихи нравились даже мне, плохо понимавшему по-польски, и которого за месяц перед тем все мы видели здоровым, сильным, полным бодрости и энергии. Этапное здание сразу потемнело в наших глазах, стало унылым, холодным, неприветным; и когда, шатаясь и бледнея, вошли мы в одну из камер и увидали враждебно высившиеся в вечерних сумерках пустые нары, на нас пахнуло вдруг холодом смерти. Здесь он страдал, здесь умер, почти одинокий, беспомощный, вдали от друзей и родины!.. Правда, любезный унтер, видимо уже каявшийся в том, что сболтнул о смерти С., уверял, будто он умер не в этой, а в соседней камере, куда мы отказались поэтому идти, но утешение было небольшое. В стене нашего помещения была огромная щель в эту страшную камеру, и, помню, я с мучительным любопытством заглядывал в нее, всматриваясь в сумрачную пустоту, где, чудилось мне, бродил дух поэта. И завывавший по временам в трубе ветер казался мне его стонами…
Но еще больней, чем эта весть о совершившемся уже факте, была обострившаяся благодаря ему тревога за товарищей и знакомых, оставшихся позади или бывших впереди нас. Что-то с ними? Не унесла ли беспощадная смерть еще кого-нибудь близкого, дорогого? И смерть, точно, не щадила в тот год самых нежных привязанностей, поражая друзей, невест, братьев…
Настроение было, разумеется, совсем отравлено, и дневка вконец испорчена. Малейшее недомогание кого-нибудь казалось уже предвестником грозной болезни; и в самом деле, на другой же день серьезно захворал один из конвойных солдат, очень симпатичный малый, с которым внезапно сделался сильный жар с бредом; несмотря на все старания наших доморощенных врачей поднять больного на ноги, его пришлось оставить в Бирюсе. Выздоровел он или умер, мы так и не узнали.
Среди моих спутников не было ни одного человека, основательно изучившего медицину, и тем не менее больные арестанты, конвойные солдаты и даже местные жители толпами валили к нам на этап, ни днем, ни ночью не давая покоя. Слава об их уменье лечить гремела по всему пути. И каких только болезней, какого горя не перевидали мы! Какой заразы не приносилось в наше помещение! Приходили тифозные, чахоточные, сифилитики. Приносились грудные младенцы с распухшими шеями, посиневшими личиками и закатившимися глазками; показывались страшные болячки, гноящиеся раны, один вид которых приводил в ужас и прогонял самый жадный голод… И при отсутствии лекарств и достаточных знаний как больно было видеть все эти устремленные на нас глаза, полные мольбы и наивной веры, и чувствовать свое бессилие что-нибудь сделать, оказать какую-нибудь помощь!
IV
В Иркутской тюрьме, где мне пришлось расстаться с административными политическими ссыльными, я захворал и задержался на несколько месяцев.[11 - По пути следования, на одном из этапов в Иркутске, в начале декабря 1887 года (после трехлетней разлуки) Якубович случайно встретился со своей невестой Р. Ф. Франк (1861–1922), тоже политической ссыльной, следовавшей в Якутскую область. Товарищ П. Ф. Якубовича народоволец А. В. Прибылев вспоминает: "…хлопоты о разрешении венчаться… уже приходили к концу, когда оба они должны были двинуться в дальнейший путь по разным дорогам и тем отложить на долгое время закрепление своего союза…" ("От Петербурга до Кары в 80-х годах". М., "Колос", 1923, стр. 75–76).]
В дальнейшем пути, пользуясь, как и прежде, значительными привилегиями сравнительно с прочими арестантами, я благодаря отвычке от одиночества нередко им тяготился и испытывал жестокую скуку. Может быть, благодаря именно этому я обратил внимание на красоту и величие забайкальской природы. Особенно поразил меня только что вскрывшийся Байкал, через который мы переезжали на одном из первых пароходов. Как сейчас вижу это грозно-зеленое, клокочущее и скачущее чудовище. В отдалении, за разъяренными валами, виднеются огромные желтые скалы, и грезится, что они так близко – рукой подать, а между тем до них двадцать – тридцать верст!
Оставшись один, с заботами об одном лишь себе, я Как-то невольно стал делать больше наблюдений и над окружавшим меня миром арестантов, тогда как прежде сплошь и рядом не замечал происходившего вокруг. Прежде отдельные лица как-то стушевывались в моем представлении; я видел перед собой только огромные массы, имевшие в моих глазах одно лицо, один характер и волю. Теперь из этой громады начали выделяться отдельные человечки и останавливать на себе мое любопытство. Нужно, впрочем, сказать, что той сплошной идеализации, какою некогда окружал я арестантов, во мне давно и следа не было: я хорошо знал, что к их рассказам о себе нужно относиться скептически, что они всегда привирают и т. п.
Опишу для образчика некоторые запомнившиеся мне фигуры.
Прежде всего помню одного странного субъекта из греков с пронзительными черными глазами, страшно худого, со множеством штыковых и огнестрельных ран на теле, полученных во время побегов. Он был очень угрюм и несловоохотлив, однако почему-то любил захаживать ко мне, особенно в те минуты, когда никого другого из арестантов у меня не было. Долгое время я думал, что он хочет попросить денег; но денег он ни разу не просил. Однажды я задал ему вопрос, за что идет он в каторгу. Он объяснил мне с самой циничной (хотя и просто выраженной) откровенностью, что в последний раз вырезал с товарищем одну семью. Мне даже жутко стало…
– За что же это? – не удержался я.
– Известно, за деньги, – усмехнулся спокойно мой собеседник.
– Да, но зачем же было резать?.. И притом всех, даже детей?
– Всю породу. В другой раз мы две семьи вырезали. Я невольно содрогнулся и недоумевал, зачем он так говорит.
– А бог? – спросил я. – Разве не боитесь?
– Какой бог? – спросил грек в свою очередь, понизив несколько голос и будто с некоторой грустью.
Где только мы ни бывали. В таких глухих местах, куда и ворон костей не заносит и зверь не заходит. Нигде не видели ни бога, ни дьявола!
– А были ль вы в одиночном заключении? – спросил я еще и, получив отрицательный ответ, пробовал нарисовать собеседнику картину внутренних мучений, овладевающих многими из знаменитых даже разбойников и доводящих их порой до сумасшествия и самоубийства. Он послушал меня минуты две и, ничего не сказав в ответ, вышел под каким-то предлогом.
Вскоре после того я и совсем потерял его из виду: должно быть, он остался где-нибудь в больнице.
Захаживал также ко мне щеголеватый молодчик из лакеев в неизбежном пестреньком галстучке и с утонченными, по его пониманию, манерами. Этот мелко плавал и все вспоминал, какие прекрасные "покупки" делывал он в Петербурге во время публичных казней на Семеновской площади; "покупать" на его языке значило залезать без разрешения в чужой карман. В конце концов я заметил, что он и у меня кое-что "покупал" во время своих визитов…
Зато не могу без улыбки вспомнить милейшего Тюпкина, беглого солдатика, пропадавшего два года без вести, наконец добровольно заявившегося к начальству и шедшего теперь в Читу на суд. Это был добродушнейшим парень лет двадцати шести, плохо развитой физически, Грустный, понурый и всегда меланхоличный. Он ухаживал за мной, парил мне обед и чай и жил в моем "дворянском" помещении. В долгие зимние вечера мы много болтали, и я узнал всю его подноготную. Он был страстный игрок и, когда я давал ему немного денег, сейчас же скрывался и всю ночь напролет играл в штос. Поутру кто-нибудь из арестантов сообщал мне, что мой Тюпкин спустил все до последней копейки.
– Не стоит такой скотине благодеяние оказывать, – философствовал при этом доноситель. – Как будто Другой кто не мог бы вам самоварчик поставить или другое там что сделать? Еще благодарность бы чувствовал… А он что? Как он был духом (арестантское название солдат), так духом и останется до гробовой доски!
Между тем Тюпкин появлялся мрачный, как сама ночь, и в, камере моей начиналась усиленная деятельность: выколачивалась пыль из моих вещей, перекладывались с места на место, без всякой видимой нужды, мешки и ящики; по камере раздавался неумолкаемый топот сапог, аккомпанируемый глубокими-глубокими вздохами.
– Что, Тюпкин, нездоровы вы, что ли? Молчание.
– Или, может быть, потеряли что? Может, проигрались?
– Не-е! – и вслед за этим ответом мой Тюпкин моментально исчезал, сконфуженный.
Вечером он опять остается в моей камере. Мы насытились вкусным кулешом, напились чаю; нам так приятно греться перед весело потрескивающими в догорающей печке угольями. Мой Тюпкин совсем разнежился. Ему хочется говорить, без конца говорить, без конца жаловаться на свою судьбу.
– Ах, горегорький я, горегорький! И зачем только мать на свет меня породила!
– А чем же вы особенно несчастнее других, Тюпкин? Другие идут в каторгу, а вас – самое большое – переведут в штрафованный разряд. Ну, накажут…
Тюпкин прислушивается к моим утешениям и молчит.
– Не так ли? – говорю я. – Ведь вы же добровольно заявились к начальству, вас не поймали? Это, конечно, примут во внимание. Вам дадут снисхождение.
Вместо ответа он вдруг начинает яростно таскать себя за волосы.
– Ох, горегорький я, горегорький!..
– Да вы, может быть, скрываете? Вы, может, бежали после какого-нибудь преступления?
Но тут Тюпкин начинает божиться и клясться, что заявился добровольно, а бежал со службы просто так, с тоски…
– С какой же тоски?
– Да с пьянства, с карт.