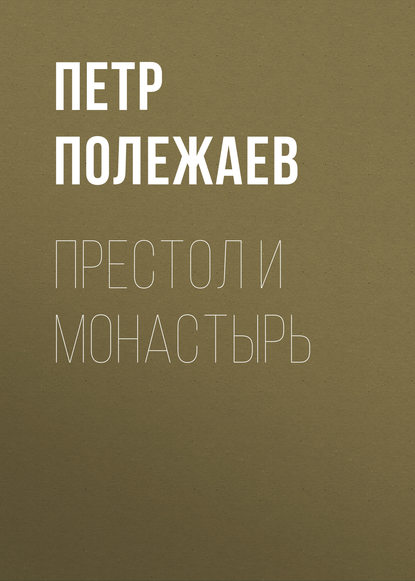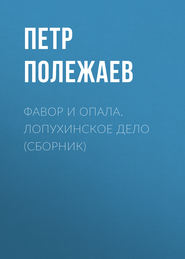По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Престол и монастырь
Автор
Серия
Год написания книги
2018
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Кончилась речь князя, царевна одобрила и задумалась.
– Ты сегодня печальна, государыня, – заговорил мягкий участливый голос князя.
– Да, грустно, князь, брат все хилеет, а с его смертью я лишусь единственного человека, который меня любит.
– Ты ошибаешься, царевна, – и в голосе князя звучала особенная нежность, – нет, ты не права. У тебя верные, преданные слуги. Я с радостью готов положить за тебя и жизнь и душу свою…
И не успел договорить князь, как она была уже на груди его, без воли ее самой, руки ее обвились кругом его шеи, и губы их слились в горячем поцелуе. Вся целиком стоит эта страстная сцена в задумчивых глазах царевны. И теперь, когда она у открытого окна, и теперь еще горит на губах этот первый страстный поцелуй любви, хотя уже подобных сцен повторялось и после немало. Вся бесповоротно отдалась царевна увлекавшей ее страсти.
Спустя долго после полуночи царевна Софья Алексеевна улеглась в постель и заснула тревожным сном…
По выходе из терема царевен боярин Иван Михайлович Милославский отправился домой в карете, дожидавшейся его в нескольких стах шагах от царского двора. Странное двойственное впечатление произвел в боярине разговор с Софьей Алексеевной. В лице его проступало то удовольствие удовлетворенных надежд, то чувство тревожного беспокойства. Эта же двойственность впечатления выражалась и в тоне немногих бессвязных фраз, вырывавшихся по временам у боярина. «Решилась… да… вряд ли… в Москвe Пульхерии… влюбилась… надо отвести», – почти беззвучно шептал он, а между тем целый рой различных комбинаций и интриг созревал в опытной боярской голове.
Карета остановилась у каменного дома Милославского, но только что успел Иван Михайлович сойти с экипажа, как вдруг испуганные лошади круто бросились в сторону, экипаж подвернулся и упал набок.
– Что за притча! – удивился боярин. – Лошади смирные, никогда с ними такого случая не бывало. – И суеверный ум его задался вопросом: к добру ли?
Предмет, напугавший лошадей, действительно представлял собою необыкновенный вид. Из-под тени, откинувшейся от дома, в светлую полосу выдвигалось на четвереньках какое-то дикое, невиданное животное. Вглядываясь в это странное существо, боярин вскоре узнал в нем известного по всей Москве юродивого Федюшу.
Удивительный был этот человек Федюша, и немало толков ходило об нем по Москве. Рассказывали, будто Федюша был сыном одного богатого, торгового человека, красавец собой и известен по грамотности и по бойкости разума, что будто по смерти родителей, лет двадцать тому назад, Федюша повел дела свои еще шире, еще оборотливее. Завидовал ему свой брат торгующий, и всякий из них не прочь был породниться с ним, назвать его своим сыном, но Федюша держал себя гордо, чуждался и не зарился ни на какую девицу. Правда, подмечали соседи, что хоронилась у него в доме какая-то красавица, с которой хаживал он, разговаривая, в своем саду в летние ночи вплоть до утра. Кто была эта девица, как ни старались узнать добрые соседи – не могли, а только заметили, что не очень долго продолжались эти прогулки и живые речи: девица исчезла, а куда – неизвестно. «Должно быть, бежала аль руку на себя наложила», – решили соседи и успокоились. Спустя несколько времени в одно прекрасное утро исчез и сам Федюша, распорядившись, как оказалось, предварительно о передаче всего своего достатка в ближайший монастырь.
Так и пропал он, и вести об нем не было в продолжение лет четырех. Потом по истечении этого времени появился в народе юродивый, вечно бродивший по улицам на четвереньках, в лохмотьях, с босыми ногами и с обнаженной головой, зиму и лето, в трескучий мороз, в дождь и в солнечный припек. Кто был этот юродивый, откуда он явился – никто не знал, да и трудно было признать его. Ноги от постоянного хождения на четвереньках, неестественного положения и переменного влияния разного рода непогоды как-то выворотились и высохли, лицо обросло не то шерстью, не то волосами, взгляд дикий и блуждающий, речь бессвязная, и иногда только в диких звуках. Почему прозвали его Федюшей и кто именно признал в нем бывшего богатого, талантливого Федора Михайловича, до подлинности никто не мог объяснить.
Народ, пораженный неестественностью явления, стал видеть в нем человека Божьего, юродивого, а в бессвязных словах его допытываться прорицательного языка будущего. И вот ходит на четвереньках этот Федюша более десяти лет по улицам московским и днем и ночью без пристанища и без призора, отдыхая на голых камнях церковных папертей. Все обыватели благоговейно чтили Федюшу, ласкали его, разговаривали с ним, полагая открыть в его бессмысленных ответах откровение будущего, но не ко всем он был одинаков. Замечали его какое-то пристрастие к одним лицам и, наоборот, к другим отвращение. В одни дома он любил заходить и бывал подолгу, а в другие дома его и силой нельзя было затащить – пробежит мимо зверь зверем.
Узнав Федюшу, Иван Михайлович приветливо подошел к нему.
– Здравствуй, Федюша!
– У-у-у… – хрюкнул сердито юродивый.
– Устал, чай, Федюша, – продолжал ласково боярин. – Поди, Федя, ко мне на двор, там тебя накормят, и я вышлю тебе алтын.
– У-у-у… не хочу… не хочу… – зарычал Федюша, тряся головой, – не хочу… у-у-у… свиньи бегут… труп везут… не хочу, боюсь… кровь-то… кровь-то… – И юродивый быстро побежал от боярина. «Что бы это значило – „свиньи бегут и труп везут”? Не молвил ли он в свиньях ворогов моих?» – раздумывал Иван Михайлович, поднимаясь по крыльцу.
– Был у меня кто-нибудь? – спросил он, входя во внутренние покои, у дворецкого Сидора Иванова.
– Как же, ваша боярская милость, были Иван Андреич Толстой да племянничек Александр Иваныч. Долго было поджидали, да уж решили пожаловать завтра.
– Хорошо, Иваныч. Ступай спать, а ко мне пришли Груню.
Глава III
Больной, золотушный Федор Алексеевич умирал бездетным, прожив только 20 лет и 11 месяцев. С кончиной его возникал важный государственный вопрос о престолонаследии.
В древние времена в княжеских волостях наследство волостью переходило по старшинству рода, причем дяди имели преимущество перед племянниками – сыновьями княжившего. С образованием Московского княжества выделился другой взгляд: наследство стало переходить по нисходящей линии от отца к сыну, с соблюдением старшинства и с исключением женского пола. Такой взгляд, по мере сформирования государственного начала, все более и более укоренялся и приобретал силу обычая до начала XVII века, когда старый рюриковский дом по прямой линии пресекся.
Смутное время междуцарствия выдвинуло по необходимости опять идею выборного начала, которое, по стечению событий того времени, едва не привело к гибели всего государственного строя. Быстро следовавшие друг за другом Борис Годунов, Лжедимитрий, Василий Шуйский и королевич Владислав не оставили по себе почти никакого следа в государственной организации и уже, конечно, не могли содействовать к упрочению государственной формы. Мало того, деятельное вмешательство иностранцев и внутренние раздоры расшатали государство до самого основания, до полного его разрушения, и оно погибло бы, если бы вся предшествующая жизнь не выработала прочно идею национальности.
С избранием Михаила Федоровича национальное дело хотя и было спасено, но поступательному движению народной жизни предстояло еще великое и трудное дело исцеления всех ран, уничтожения множества повсюду возникших беспорядков, неустройств и злоупотреблений.
Как велики были эти неустройства и злоупотребления, как тяжка была жизнь народная, можно видеть из тех ярких явлений, которые продолжались не только в царствование Михаила Федоровича, но и во все тридцатилетнее правление сына его Алексея Михайловича. От внешних войн, бродячих отрядов шведских и польских, от вольности казацкой, от разбойничьих шаек шишей народ обеднел до крайности. Целые поселения лишались всяких средств к существованию и разбегались кто в степи, кто в леса, кто на Волгу-матушку, где становились сами разбойниками. Ощущался недостаток в самом хлебе, так как истреблялся или в полях неприятельскими отрядами, или зарывался в землю самими хозяевами в запас для прокормления себя в будущем. В таком положении оставшимся на своих местах людишкам, конечно, платить податей и отбывать повинность было не можно, а между тем расходы государственные на содержание ратных людей и другие потребности возрастали в значительном размере. Затем, кроме этих законных поборов, существовало еще более поборов незаконных – взяток местных правителей, воевод, наместников и дьяков, пользующихся нетвердостью правительства и потому уверенных в безопасности. Каким же влиянием пользовались бояре, можно видеть из следующего примера: в царствование Федора Алексеевича стряпчий из дворцовых волостей Юрьевца Повольского Терентий Копытов сослан был из Москвы в Нерчинск «по приказу бояр, без царского указу». Сам Копытов сказывает, что на Москве вся воля боярская, что бояре хотят, то и делают.
Казна была истощена. Правительство, нуждаясь в деньгах, должно было прибегать к различным средствам. Оно то принимало на себя продажу богомерзской травы (табака), то увеличивало пошлину на соль, то выпускало медные деньги вместо серебряных. Подобные меры, конечно, не только не поправляли зла, но некоторые из них положительно еще более усиливали его, еще более разоряли и без того ободранный народ. При таком общественном положении должны были являться, и действительно являлись, беспрерывные народные волнения, восстания и бунты, продолжавшиеся в течение почти всего XVII века. В царствование, например, Алексея Михайловича происходили более или менее серьезные и опасные восстания в разных частях государства: в 1648 году 21 июня в г. Сольвычегодске, 8 июня в г. Устюге, потом в Новгороде и Пскове, в Соловецком монастыре (1668), на Волге – Стеньки Разина и, наконец, в самой Москве. И все эти восстания возникали положительно от грабительства правительственных лиц. Так, московское волнение 1648 года вызвано было злоупотреблениями и взяточничеством приближенных к некоторым придворным влиятельным боярам, надеющихся на защиту своих патронов. Народ особенно раздражен был взяточничеством любимцев и родственников тестя государева боярина Ильи Милославского, судьи земского приказа Леонтия Плещеева, заведывавшего пушкарским приказом Траханиотова, думного дьяка Назария Чистого и богатого купца Шорина. Кроме того, народ жаловался на любимца царского, боярина Морозова, дававшего будто бы возможность своим родственникам наживаться за счет народа. В этом мятеже рассвирепевший народ убил Плещеева, Назария Чистого, разграбил дома Шорина, князя Львова, князя Одоевского и даже дом самого боярина Морозова. Мятеж был подавлен стрельцами, но при этом, говорит хроника, много невинных людей побито, так как не время было разбирать, кто прав и кто виноват. Всего переловлено и перебито было до семи тысяч человек, из которых до 150 человек повешено, до ста потоплено; остальных же пытали, жгли, отсекали руки и ноги или пальцы у рук и ног, клеймили раскаленным железом и секли кнутом.
Обыкновенно общественное настроение сопровождается различного рода бедствиями. В 1654 году в Москве и других местностях господствовала сильная моровая язва и смертность доходила до страшных размеров: из шести стрелецких приказов не осталось ни одного стрельца, в Успенском соборе из многочисленного духовенства остались в живых только священник и дьячок, в Архангельском соборе весь причт вымер, в Благовещенском соборе остался один священник, в Чудовом монастыре из 182 братий осталось в живых только 26. Из частных лиц умирало не менее. У боярина Морозова из 262 человек осталось 19, у князя Трубецкого из 278 человек осталось только восемь. Народ волновался, колодники из тюрем разбегались, торговля прекращалась.
Уничтожался род человеческий Божиим попущением, уничтожалось и достояние его мечом вражеским и огнем. По свидетельству Лизека, секретаря посольства римского императора, в его бытность в России Москва горела шесть раз, и в каждый пожар истреблялось по тысяче и более домов. Такие частые и опустошительные пожары вызывали со стороны правительства энергические меры, но по большей части неудачные, по злоупотреблениям в исполнении[3 - 23 октября 1681 года велено было всякое палатное строение крыть тесом, по которому насыпать землю и устилать дерном, людям же состоятельным дозволялось крыть дранью на подставках. Далее в этом же указе повелевалось обывателям больших улиц Китая и Белого города строить дома каменные, для чего разрешалось отпускать им кирпич из приказа Большого дворца по указанной цене в долг с рассрочкой уплаты на 10 лет. Мера эта действительно могла бы быть практична и полезна, если бы только возможно было без подарков получать разрешения на вывоз из приказа Большого дворца.].
Помочь такому бедственному общественному положению, конечно, не могли меры, подобные выпуску медных денег, когда требовалась существенная реформа, коренное истребление зла, въевшегося в плоть и кровь народную, отречение от старых порядков и замкнутости, проведение живительных начал, развивающих материальные и духовные силы народа. Понималась неотложность новых требований московскими государями XVII века, и делали они попытки на сближение с Западом, попытки, впрочем, частные и робкие. Стали вызываться иностранцы, ученые, доктора, разного рода ремесленники и ратные люди. Около престола стали сгруппировываться развитые люди, понимавшие значение образования, каковы, например, Матвеев, Ордин-Нащокин, Симеон Полоцкий и другие; но эти лица не были симпатичны слепому большинству и не могли провести сами собой существенных изменений, но они дороги нам, они подготовили новых лиц – Софью и Петра, сильных умом и вполне понявших необходимость поворота к свету.
Весь XVII век – первый шаг в переходном времени и потому всегда самый тяжелый в жизни. Народ чувствовал тяжесть, но не видел пути к улучшению; он волновался и восставал.
Для усмирения народных мятежей и волнений правительство обладало одним действительным средством – воинской силой в виде стрелецких полков, но эта сила в известных условиях могла оказаться с своей стороны весьма опасным оружием.
До Петра Великого наша воинская сила заключалась в ратном ополчении, которое состояло из поместников – поземельных владельцев, обязанных по призыву царскому являться в назначенное место и в определенный срок, вооруженными оружием по своему выбору и в сопровождении такого количества воинов, которое обязаны были выставлять по величине своего поместья. Дурно и разнообразно вооруженное, совершенно неопытное и обязанное продовольствоваться во время похода на свой счет, такое сборное ополчение, несмотря на громадность свою, доходившую до двухсот тысяч человек, и на личную храбрость, не могло отличаться ни порядком, ни стройностью, ни стойкостью и ни исполнительностью при выполнении военных операций. И действительно, от такого неустроенного состояния войска произошли неудачи наших военных действий со шведами, поляками, крымцами в XVII веке, когда в двух первых государствах существовало уже более обученное войско.
Неудовлетворительность военной организации сознавалась нашими государями еще в XVI веке и послужила поводом к образованию особого постоянного отряда, состоящего на жалованье и известного под названием стрельцов.
В первый раз название стрельцов встречается в 1551 году в числе лиц, сопровождавших Адашева в Казань для водворения на Казанский престол присяжника Шиг-Алея и оставленных Адашевым там для охранения Алея. Потом стрельцы упоминаются в рядах русского войска под стенами Казани и в походе новгородском. Впоследствии стрельцы встречаются почти во всех городах небольшими отрядами, но главное место их расположения находилось всегда в Москве. В стрельцы набирались люди из свободного класса с обязательством отправлять воинскую повинность бессменно, за что правительство давало им жалованье, строило им дома и снабжало оружием. Все стрелецкое войско разделялось на сотни под начальством сотников, находившихся в ведении голов, и управлялось стрелецкой избой, или приказом. Впоследствии избы, или приказы, были переименованы в полки, головы в полковников, а главным местом управления организовался Стрелецкий приказ в Москве, поручавшийся обыкновенно особо надежному и знатному боярину.
В московских полках, число которых простиралось до 20, считалось в каждом от 800 до 1000 стрельцов, а в городовых от 300 до 500. Этот комплект обыкновенно пополнялся сыновьями и внуками служилых стрельцов, так как звание считалось наследственным, и только в случае особенной необходимости принимались в стрельцы охотники «резвые и стрелять гораздные» и то не иначе, как с поручною записью от старых стрельцов в том, что вновь принятый не сбежит со службы.
Составляя постоянное войско, обученное воинскому искусству, стрельцы образовывали ядро русской военной силы того времени и не раз оказывали весьма важные услуги правительству на поле брани и в мирной гарнизонной службе. Ими одержана была Добрыничская победа при Годунове, захвачен Заруцкий с Мариною, покорен Смоленск, ими прославилась защита Чигирина, ими подавлено коломенское восстание черни, мятеж войска на реке Семи, разбит Стенька Разин, и ими производилось полицейское охранение Москвы, содержание караульных постов у городских ворот, ночные объезды по городу и тушение пожаров.
Но образовывая, таким образом, главный оплот правительства, стрельцы вместе с тем в организации своей имели начала весьма опасные для государственного устройства. Эти начала заключались в слишком широких привилегиях и льготах. Кроме значительного для того времени жалованья (на стрельцов расходовалось более ста тысяч рублей ежегодно из общего государственного сбора), они имели право заниматься торговлею и промыслами, не неся в то же время никаких посадских повинностей, освобождены были по своим искам и сделкам от уплаты всякого рода судных и печатных пошлин и, наконец, судились только в своем стрелецком приказе, кроме разбоя и татьбы. Такая отдельная и самостоятельная корпорация, естественно, должна была представлять собою силу решающую в общественной организации, орудие, всегда готовое и удобное в руках политической партии.
Занятие промышленностью привело к ослаблению воинской дисциплины, пренебрежению служебными обязанностями и к желанию освободиться от них, а самоуправление к своеволию и буйствам. Если же припомнить общий упадок государственного благоустройства того времени, безнаказанность чиновнического корыстолюбия и взяточничества, общий ропот и недовольство, то, конечно, подобные явления должны были проявляться у стрельцов более резкого и опасного характера. И действительно, недовольство стрельцов стало обнаруживаться в грозных признаках: завелись самовольные круги, где самые буйные и наглые имели перевес, и их съезжие избы скоро получили название каланчей, с вершин которых бунтовавшая толпа сбрасывала всех, не одобрявших их поведение.
В конце царствования Федора Алексеевича опасное волнение обнаружилось в полку Семена Грибоедова. Стрельцы жаловались на притеснение своего полковника, на то, будто бы он недоплачивал им жалованья, заставлял их строить ему загородный дом, не отпуская с работы даже в Светлый праздник. По общему совещанию грибоедовцы написали челобитную, которую потом и подали дьяку Стрелецкого приказа Павлу Языкову. К несчастью, последний счел челобитную за вымысел пьяных своевольцев и в таком смысле доложил об ней заведовавшим тогда Стрелецким приказом князьям Юрию Алексеевичу и Михаилу Юрьевичу Долгоруким. Согласно докладу Долгорукие распорядились высечь подателя челобитной, но исполнение не состоялось. Грибоедовцы напали на служителей приказа, избили их и освободили товарища. Непосредственно затем явно взбунтовался весь Грибоедовский полк и увлек за собой другие остальные шестнадцать полков. Мятежники решили вытребовать от правительства примерного наказания полковникам, а в случае отказа распорядиться самим.
В таком положении находились общественные дела вообще и стрелецкие в особенности при последних днях жизни бездетного Федора Алексеевича, когда выступил на сцену несчастный неопределенный вопрос престолонаследия. Преемственность наследования престолом не определялась ни законом, ни строго сложившимся обычаем. В акте избрания на царство Михаила Федоровича о преемственности не было упомянуто ни слова, и наследники его, сначала сын Алексей Михайлович, а потом внук Федор Алексеевич, восходили на престол вследствие объявления их наследниками при жизни государей. Но Федор Алексеевич, оставив после себя двух братьев, одного единокровного и единоутробного Ивана Алексеевича и другого единокровного Петра Алексеевича, не объявил себе наследника ни при жизни, ни при последних моментах. Возникал вопрос, кто же должен быть после него царем? Казалось бы, право стояло за старшего брата Ивана, но его болезненность, слабость, неспособность и слепота были известны всем, – другой же, младший, Петр, едва только достиг десяти лет.
Глава IV
Гулко и заунывно звучал большой московский колокол из Кремля, объявляя православным о кончине царя Федора Алексеевича 27 апреля 1682 года в тринадцатом часу дня (в 4 часа пополудни)[4 - В то время часы разделялись на дневные, начинавшиеся с восхода солнечного, и ночные – с заката. Следовательно, в конце апреля 13-й час дня соответствует нашему 4-му часу пополудни.], и народ толпами двинулся в Кремль для последнего прощания с умершим государем. Конечно, не могла поразить неожиданностью смерть постоянно болезненного царя, но на всех этот печальный звон произвел тревожное впечатление. Кто будет назван царем и кто будет править в действительности, спрашивал себя каждый, и страшное предчувствие грозного будущего невольно закрадывалось в душу каждого.
Между тем как прощался народ, во дворце в обширной комнате со сводами собралась Государева дума для решения важного вопроса, кому быть царем. У одной из стен этой комнаты стоял золотой царский престол с колонцами по сторонам, острыми к верху и с остроконечной кровлей, над которой вверху блестел двуглавый орел, а внизу на спинке престола с иконой Богоматери. На правой стороне от престола на невысокой серебряной пирамиде, на золотой парче лежала держава, украшенная самоцветными камнями. Пол устилали богатые пестрые ковры, стены украшены иконами, живописными изображениями и серебряными подсвечниками с восковыми свечами. Кругом стен тянулись на четырех ступенях обитые красным сукном скамьи, на которых сидели теперь патриарх, митрополиты, архиепископы, бояре, окольничьи и думные дворяне.
Заседание открылось речью патриарха Иоакима:
– Известно вам, бояре и думные люди, что волею Всевышнего, управляющею судьбами царей и царств, наш православный великий государь царь Федор Алексеевич отошел в уготованную ему вечную обитель. Помолимся же мы все об успокоении души его и о ниспослании сиротствующему царству и граду нашему нового государя. По преемственному порядку следовало бы вступить на царство и прародительский престол благоверному царевичу Иоанну Алексеевичу, но, не снисходя на мольбы наши о том, он отрекся от своего права и передает державу брату своему благоверному царевичу Петру Алексеевичу. Излагая вам сие, мерность наша[5 - Титул, присваиваемый патриархами.] с соизволения благочестивейшей царицы Натальи Кирилловны призывает Государеву думу на общий совет об избрании на царство царя и государя всея России.
Кончив речь, патриарх опустился на место, за ним расселись по своим местам и прочие члены Государевой думы. Наступило молчание. На лицах видны были самые разнообразные ощущения – и тревожного опасения и удовлетворенной надежды, ясно сквозившие через напускную боярскую сановитость.
Никому не хотелось высказываться первым.
Наконец заговорил боярин Иван Михайлович Милославский.
– Ты сегодня печальна, государыня, – заговорил мягкий участливый голос князя.
– Да, грустно, князь, брат все хилеет, а с его смертью я лишусь единственного человека, который меня любит.
– Ты ошибаешься, царевна, – и в голосе князя звучала особенная нежность, – нет, ты не права. У тебя верные, преданные слуги. Я с радостью готов положить за тебя и жизнь и душу свою…
И не успел договорить князь, как она была уже на груди его, без воли ее самой, руки ее обвились кругом его шеи, и губы их слились в горячем поцелуе. Вся целиком стоит эта страстная сцена в задумчивых глазах царевны. И теперь, когда она у открытого окна, и теперь еще горит на губах этот первый страстный поцелуй любви, хотя уже подобных сцен повторялось и после немало. Вся бесповоротно отдалась царевна увлекавшей ее страсти.
Спустя долго после полуночи царевна Софья Алексеевна улеглась в постель и заснула тревожным сном…
По выходе из терема царевен боярин Иван Михайлович Милославский отправился домой в карете, дожидавшейся его в нескольких стах шагах от царского двора. Странное двойственное впечатление произвел в боярине разговор с Софьей Алексеевной. В лице его проступало то удовольствие удовлетворенных надежд, то чувство тревожного беспокойства. Эта же двойственность впечатления выражалась и в тоне немногих бессвязных фраз, вырывавшихся по временам у боярина. «Решилась… да… вряд ли… в Москвe Пульхерии… влюбилась… надо отвести», – почти беззвучно шептал он, а между тем целый рой различных комбинаций и интриг созревал в опытной боярской голове.
Карета остановилась у каменного дома Милославского, но только что успел Иван Михайлович сойти с экипажа, как вдруг испуганные лошади круто бросились в сторону, экипаж подвернулся и упал набок.
– Что за притча! – удивился боярин. – Лошади смирные, никогда с ними такого случая не бывало. – И суеверный ум его задался вопросом: к добру ли?
Предмет, напугавший лошадей, действительно представлял собою необыкновенный вид. Из-под тени, откинувшейся от дома, в светлую полосу выдвигалось на четвереньках какое-то дикое, невиданное животное. Вглядываясь в это странное существо, боярин вскоре узнал в нем известного по всей Москве юродивого Федюшу.
Удивительный был этот человек Федюша, и немало толков ходило об нем по Москве. Рассказывали, будто Федюша был сыном одного богатого, торгового человека, красавец собой и известен по грамотности и по бойкости разума, что будто по смерти родителей, лет двадцать тому назад, Федюша повел дела свои еще шире, еще оборотливее. Завидовал ему свой брат торгующий, и всякий из них не прочь был породниться с ним, назвать его своим сыном, но Федюша держал себя гордо, чуждался и не зарился ни на какую девицу. Правда, подмечали соседи, что хоронилась у него в доме какая-то красавица, с которой хаживал он, разговаривая, в своем саду в летние ночи вплоть до утра. Кто была эта девица, как ни старались узнать добрые соседи – не могли, а только заметили, что не очень долго продолжались эти прогулки и живые речи: девица исчезла, а куда – неизвестно. «Должно быть, бежала аль руку на себя наложила», – решили соседи и успокоились. Спустя несколько времени в одно прекрасное утро исчез и сам Федюша, распорядившись, как оказалось, предварительно о передаче всего своего достатка в ближайший монастырь.
Так и пропал он, и вести об нем не было в продолжение лет четырех. Потом по истечении этого времени появился в народе юродивый, вечно бродивший по улицам на четвереньках, в лохмотьях, с босыми ногами и с обнаженной головой, зиму и лето, в трескучий мороз, в дождь и в солнечный припек. Кто был этот юродивый, откуда он явился – никто не знал, да и трудно было признать его. Ноги от постоянного хождения на четвереньках, неестественного положения и переменного влияния разного рода непогоды как-то выворотились и высохли, лицо обросло не то шерстью, не то волосами, взгляд дикий и блуждающий, речь бессвязная, и иногда только в диких звуках. Почему прозвали его Федюшей и кто именно признал в нем бывшего богатого, талантливого Федора Михайловича, до подлинности никто не мог объяснить.
Народ, пораженный неестественностью явления, стал видеть в нем человека Божьего, юродивого, а в бессвязных словах его допытываться прорицательного языка будущего. И вот ходит на четвереньках этот Федюша более десяти лет по улицам московским и днем и ночью без пристанища и без призора, отдыхая на голых камнях церковных папертей. Все обыватели благоговейно чтили Федюшу, ласкали его, разговаривали с ним, полагая открыть в его бессмысленных ответах откровение будущего, но не ко всем он был одинаков. Замечали его какое-то пристрастие к одним лицам и, наоборот, к другим отвращение. В одни дома он любил заходить и бывал подолгу, а в другие дома его и силой нельзя было затащить – пробежит мимо зверь зверем.
Узнав Федюшу, Иван Михайлович приветливо подошел к нему.
– Здравствуй, Федюша!
– У-у-у… – хрюкнул сердито юродивый.
– Устал, чай, Федюша, – продолжал ласково боярин. – Поди, Федя, ко мне на двор, там тебя накормят, и я вышлю тебе алтын.
– У-у-у… не хочу… не хочу… – зарычал Федюша, тряся головой, – не хочу… у-у-у… свиньи бегут… труп везут… не хочу, боюсь… кровь-то… кровь-то… – И юродивый быстро побежал от боярина. «Что бы это значило – „свиньи бегут и труп везут”? Не молвил ли он в свиньях ворогов моих?» – раздумывал Иван Михайлович, поднимаясь по крыльцу.
– Был у меня кто-нибудь? – спросил он, входя во внутренние покои, у дворецкого Сидора Иванова.
– Как же, ваша боярская милость, были Иван Андреич Толстой да племянничек Александр Иваныч. Долго было поджидали, да уж решили пожаловать завтра.
– Хорошо, Иваныч. Ступай спать, а ко мне пришли Груню.
Глава III
Больной, золотушный Федор Алексеевич умирал бездетным, прожив только 20 лет и 11 месяцев. С кончиной его возникал важный государственный вопрос о престолонаследии.
В древние времена в княжеских волостях наследство волостью переходило по старшинству рода, причем дяди имели преимущество перед племянниками – сыновьями княжившего. С образованием Московского княжества выделился другой взгляд: наследство стало переходить по нисходящей линии от отца к сыну, с соблюдением старшинства и с исключением женского пола. Такой взгляд, по мере сформирования государственного начала, все более и более укоренялся и приобретал силу обычая до начала XVII века, когда старый рюриковский дом по прямой линии пресекся.
Смутное время междуцарствия выдвинуло по необходимости опять идею выборного начала, которое, по стечению событий того времени, едва не привело к гибели всего государственного строя. Быстро следовавшие друг за другом Борис Годунов, Лжедимитрий, Василий Шуйский и королевич Владислав не оставили по себе почти никакого следа в государственной организации и уже, конечно, не могли содействовать к упрочению государственной формы. Мало того, деятельное вмешательство иностранцев и внутренние раздоры расшатали государство до самого основания, до полного его разрушения, и оно погибло бы, если бы вся предшествующая жизнь не выработала прочно идею национальности.
С избранием Михаила Федоровича национальное дело хотя и было спасено, но поступательному движению народной жизни предстояло еще великое и трудное дело исцеления всех ран, уничтожения множества повсюду возникших беспорядков, неустройств и злоупотреблений.
Как велики были эти неустройства и злоупотребления, как тяжка была жизнь народная, можно видеть из тех ярких явлений, которые продолжались не только в царствование Михаила Федоровича, но и во все тридцатилетнее правление сына его Алексея Михайловича. От внешних войн, бродячих отрядов шведских и польских, от вольности казацкой, от разбойничьих шаек шишей народ обеднел до крайности. Целые поселения лишались всяких средств к существованию и разбегались кто в степи, кто в леса, кто на Волгу-матушку, где становились сами разбойниками. Ощущался недостаток в самом хлебе, так как истреблялся или в полях неприятельскими отрядами, или зарывался в землю самими хозяевами в запас для прокормления себя в будущем. В таком положении оставшимся на своих местах людишкам, конечно, платить податей и отбывать повинность было не можно, а между тем расходы государственные на содержание ратных людей и другие потребности возрастали в значительном размере. Затем, кроме этих законных поборов, существовало еще более поборов незаконных – взяток местных правителей, воевод, наместников и дьяков, пользующихся нетвердостью правительства и потому уверенных в безопасности. Каким же влиянием пользовались бояре, можно видеть из следующего примера: в царствование Федора Алексеевича стряпчий из дворцовых волостей Юрьевца Повольского Терентий Копытов сослан был из Москвы в Нерчинск «по приказу бояр, без царского указу». Сам Копытов сказывает, что на Москве вся воля боярская, что бояре хотят, то и делают.
Казна была истощена. Правительство, нуждаясь в деньгах, должно было прибегать к различным средствам. Оно то принимало на себя продажу богомерзской травы (табака), то увеличивало пошлину на соль, то выпускало медные деньги вместо серебряных. Подобные меры, конечно, не только не поправляли зла, но некоторые из них положительно еще более усиливали его, еще более разоряли и без того ободранный народ. При таком общественном положении должны были являться, и действительно являлись, беспрерывные народные волнения, восстания и бунты, продолжавшиеся в течение почти всего XVII века. В царствование, например, Алексея Михайловича происходили более или менее серьезные и опасные восстания в разных частях государства: в 1648 году 21 июня в г. Сольвычегодске, 8 июня в г. Устюге, потом в Новгороде и Пскове, в Соловецком монастыре (1668), на Волге – Стеньки Разина и, наконец, в самой Москве. И все эти восстания возникали положительно от грабительства правительственных лиц. Так, московское волнение 1648 года вызвано было злоупотреблениями и взяточничеством приближенных к некоторым придворным влиятельным боярам, надеющихся на защиту своих патронов. Народ особенно раздражен был взяточничеством любимцев и родственников тестя государева боярина Ильи Милославского, судьи земского приказа Леонтия Плещеева, заведывавшего пушкарским приказом Траханиотова, думного дьяка Назария Чистого и богатого купца Шорина. Кроме того, народ жаловался на любимца царского, боярина Морозова, дававшего будто бы возможность своим родственникам наживаться за счет народа. В этом мятеже рассвирепевший народ убил Плещеева, Назария Чистого, разграбил дома Шорина, князя Львова, князя Одоевского и даже дом самого боярина Морозова. Мятеж был подавлен стрельцами, но при этом, говорит хроника, много невинных людей побито, так как не время было разбирать, кто прав и кто виноват. Всего переловлено и перебито было до семи тысяч человек, из которых до 150 человек повешено, до ста потоплено; остальных же пытали, жгли, отсекали руки и ноги или пальцы у рук и ног, клеймили раскаленным железом и секли кнутом.
Обыкновенно общественное настроение сопровождается различного рода бедствиями. В 1654 году в Москве и других местностях господствовала сильная моровая язва и смертность доходила до страшных размеров: из шести стрелецких приказов не осталось ни одного стрельца, в Успенском соборе из многочисленного духовенства остались в живых только священник и дьячок, в Архангельском соборе весь причт вымер, в Благовещенском соборе остался один священник, в Чудовом монастыре из 182 братий осталось в живых только 26. Из частных лиц умирало не менее. У боярина Морозова из 262 человек осталось 19, у князя Трубецкого из 278 человек осталось только восемь. Народ волновался, колодники из тюрем разбегались, торговля прекращалась.
Уничтожался род человеческий Божиим попущением, уничтожалось и достояние его мечом вражеским и огнем. По свидетельству Лизека, секретаря посольства римского императора, в его бытность в России Москва горела шесть раз, и в каждый пожар истреблялось по тысяче и более домов. Такие частые и опустошительные пожары вызывали со стороны правительства энергические меры, но по большей части неудачные, по злоупотреблениям в исполнении[3 - 23 октября 1681 года велено было всякое палатное строение крыть тесом, по которому насыпать землю и устилать дерном, людям же состоятельным дозволялось крыть дранью на подставках. Далее в этом же указе повелевалось обывателям больших улиц Китая и Белого города строить дома каменные, для чего разрешалось отпускать им кирпич из приказа Большого дворца по указанной цене в долг с рассрочкой уплаты на 10 лет. Мера эта действительно могла бы быть практична и полезна, если бы только возможно было без подарков получать разрешения на вывоз из приказа Большого дворца.].
Помочь такому бедственному общественному положению, конечно, не могли меры, подобные выпуску медных денег, когда требовалась существенная реформа, коренное истребление зла, въевшегося в плоть и кровь народную, отречение от старых порядков и замкнутости, проведение живительных начал, развивающих материальные и духовные силы народа. Понималась неотложность новых требований московскими государями XVII века, и делали они попытки на сближение с Западом, попытки, впрочем, частные и робкие. Стали вызываться иностранцы, ученые, доктора, разного рода ремесленники и ратные люди. Около престола стали сгруппировываться развитые люди, понимавшие значение образования, каковы, например, Матвеев, Ордин-Нащокин, Симеон Полоцкий и другие; но эти лица не были симпатичны слепому большинству и не могли провести сами собой существенных изменений, но они дороги нам, они подготовили новых лиц – Софью и Петра, сильных умом и вполне понявших необходимость поворота к свету.
Весь XVII век – первый шаг в переходном времени и потому всегда самый тяжелый в жизни. Народ чувствовал тяжесть, но не видел пути к улучшению; он волновался и восставал.
Для усмирения народных мятежей и волнений правительство обладало одним действительным средством – воинской силой в виде стрелецких полков, но эта сила в известных условиях могла оказаться с своей стороны весьма опасным оружием.
До Петра Великого наша воинская сила заключалась в ратном ополчении, которое состояло из поместников – поземельных владельцев, обязанных по призыву царскому являться в назначенное место и в определенный срок, вооруженными оружием по своему выбору и в сопровождении такого количества воинов, которое обязаны были выставлять по величине своего поместья. Дурно и разнообразно вооруженное, совершенно неопытное и обязанное продовольствоваться во время похода на свой счет, такое сборное ополчение, несмотря на громадность свою, доходившую до двухсот тысяч человек, и на личную храбрость, не могло отличаться ни порядком, ни стройностью, ни стойкостью и ни исполнительностью при выполнении военных операций. И действительно, от такого неустроенного состояния войска произошли неудачи наших военных действий со шведами, поляками, крымцами в XVII веке, когда в двух первых государствах существовало уже более обученное войско.
Неудовлетворительность военной организации сознавалась нашими государями еще в XVI веке и послужила поводом к образованию особого постоянного отряда, состоящего на жалованье и известного под названием стрельцов.
В первый раз название стрельцов встречается в 1551 году в числе лиц, сопровождавших Адашева в Казань для водворения на Казанский престол присяжника Шиг-Алея и оставленных Адашевым там для охранения Алея. Потом стрельцы упоминаются в рядах русского войска под стенами Казани и в походе новгородском. Впоследствии стрельцы встречаются почти во всех городах небольшими отрядами, но главное место их расположения находилось всегда в Москве. В стрельцы набирались люди из свободного класса с обязательством отправлять воинскую повинность бессменно, за что правительство давало им жалованье, строило им дома и снабжало оружием. Все стрелецкое войско разделялось на сотни под начальством сотников, находившихся в ведении голов, и управлялось стрелецкой избой, или приказом. Впоследствии избы, или приказы, были переименованы в полки, головы в полковников, а главным местом управления организовался Стрелецкий приказ в Москве, поручавшийся обыкновенно особо надежному и знатному боярину.
В московских полках, число которых простиралось до 20, считалось в каждом от 800 до 1000 стрельцов, а в городовых от 300 до 500. Этот комплект обыкновенно пополнялся сыновьями и внуками служилых стрельцов, так как звание считалось наследственным, и только в случае особенной необходимости принимались в стрельцы охотники «резвые и стрелять гораздные» и то не иначе, как с поручною записью от старых стрельцов в том, что вновь принятый не сбежит со службы.
Составляя постоянное войско, обученное воинскому искусству, стрельцы образовывали ядро русской военной силы того времени и не раз оказывали весьма важные услуги правительству на поле брани и в мирной гарнизонной службе. Ими одержана была Добрыничская победа при Годунове, захвачен Заруцкий с Мариною, покорен Смоленск, ими прославилась защита Чигирина, ими подавлено коломенское восстание черни, мятеж войска на реке Семи, разбит Стенька Разин, и ими производилось полицейское охранение Москвы, содержание караульных постов у городских ворот, ночные объезды по городу и тушение пожаров.
Но образовывая, таким образом, главный оплот правительства, стрельцы вместе с тем в организации своей имели начала весьма опасные для государственного устройства. Эти начала заключались в слишком широких привилегиях и льготах. Кроме значительного для того времени жалованья (на стрельцов расходовалось более ста тысяч рублей ежегодно из общего государственного сбора), они имели право заниматься торговлею и промыслами, не неся в то же время никаких посадских повинностей, освобождены были по своим искам и сделкам от уплаты всякого рода судных и печатных пошлин и, наконец, судились только в своем стрелецком приказе, кроме разбоя и татьбы. Такая отдельная и самостоятельная корпорация, естественно, должна была представлять собою силу решающую в общественной организации, орудие, всегда готовое и удобное в руках политической партии.
Занятие промышленностью привело к ослаблению воинской дисциплины, пренебрежению служебными обязанностями и к желанию освободиться от них, а самоуправление к своеволию и буйствам. Если же припомнить общий упадок государственного благоустройства того времени, безнаказанность чиновнического корыстолюбия и взяточничества, общий ропот и недовольство, то, конечно, подобные явления должны были проявляться у стрельцов более резкого и опасного характера. И действительно, недовольство стрельцов стало обнаруживаться в грозных признаках: завелись самовольные круги, где самые буйные и наглые имели перевес, и их съезжие избы скоро получили название каланчей, с вершин которых бунтовавшая толпа сбрасывала всех, не одобрявших их поведение.
В конце царствования Федора Алексеевича опасное волнение обнаружилось в полку Семена Грибоедова. Стрельцы жаловались на притеснение своего полковника, на то, будто бы он недоплачивал им жалованья, заставлял их строить ему загородный дом, не отпуская с работы даже в Светлый праздник. По общему совещанию грибоедовцы написали челобитную, которую потом и подали дьяку Стрелецкого приказа Павлу Языкову. К несчастью, последний счел челобитную за вымысел пьяных своевольцев и в таком смысле доложил об ней заведовавшим тогда Стрелецким приказом князьям Юрию Алексеевичу и Михаилу Юрьевичу Долгоруким. Согласно докладу Долгорукие распорядились высечь подателя челобитной, но исполнение не состоялось. Грибоедовцы напали на служителей приказа, избили их и освободили товарища. Непосредственно затем явно взбунтовался весь Грибоедовский полк и увлек за собой другие остальные шестнадцать полков. Мятежники решили вытребовать от правительства примерного наказания полковникам, а в случае отказа распорядиться самим.
В таком положении находились общественные дела вообще и стрелецкие в особенности при последних днях жизни бездетного Федора Алексеевича, когда выступил на сцену несчастный неопределенный вопрос престолонаследия. Преемственность наследования престолом не определялась ни законом, ни строго сложившимся обычаем. В акте избрания на царство Михаила Федоровича о преемственности не было упомянуто ни слова, и наследники его, сначала сын Алексей Михайлович, а потом внук Федор Алексеевич, восходили на престол вследствие объявления их наследниками при жизни государей. Но Федор Алексеевич, оставив после себя двух братьев, одного единокровного и единоутробного Ивана Алексеевича и другого единокровного Петра Алексеевича, не объявил себе наследника ни при жизни, ни при последних моментах. Возникал вопрос, кто же должен быть после него царем? Казалось бы, право стояло за старшего брата Ивана, но его болезненность, слабость, неспособность и слепота были известны всем, – другой же, младший, Петр, едва только достиг десяти лет.
Глава IV
Гулко и заунывно звучал большой московский колокол из Кремля, объявляя православным о кончине царя Федора Алексеевича 27 апреля 1682 года в тринадцатом часу дня (в 4 часа пополудни)[4 - В то время часы разделялись на дневные, начинавшиеся с восхода солнечного, и ночные – с заката. Следовательно, в конце апреля 13-й час дня соответствует нашему 4-му часу пополудни.], и народ толпами двинулся в Кремль для последнего прощания с умершим государем. Конечно, не могла поразить неожиданностью смерть постоянно болезненного царя, но на всех этот печальный звон произвел тревожное впечатление. Кто будет назван царем и кто будет править в действительности, спрашивал себя каждый, и страшное предчувствие грозного будущего невольно закрадывалось в душу каждого.
Между тем как прощался народ, во дворце в обширной комнате со сводами собралась Государева дума для решения важного вопроса, кому быть царем. У одной из стен этой комнаты стоял золотой царский престол с колонцами по сторонам, острыми к верху и с остроконечной кровлей, над которой вверху блестел двуглавый орел, а внизу на спинке престола с иконой Богоматери. На правой стороне от престола на невысокой серебряной пирамиде, на золотой парче лежала держава, украшенная самоцветными камнями. Пол устилали богатые пестрые ковры, стены украшены иконами, живописными изображениями и серебряными подсвечниками с восковыми свечами. Кругом стен тянулись на четырех ступенях обитые красным сукном скамьи, на которых сидели теперь патриарх, митрополиты, архиепископы, бояре, окольничьи и думные дворяне.
Заседание открылось речью патриарха Иоакима:
– Известно вам, бояре и думные люди, что волею Всевышнего, управляющею судьбами царей и царств, наш православный великий государь царь Федор Алексеевич отошел в уготованную ему вечную обитель. Помолимся же мы все об успокоении души его и о ниспослании сиротствующему царству и граду нашему нового государя. По преемственному порядку следовало бы вступить на царство и прародительский престол благоверному царевичу Иоанну Алексеевичу, но, не снисходя на мольбы наши о том, он отрекся от своего права и передает державу брату своему благоверному царевичу Петру Алексеевичу. Излагая вам сие, мерность наша[5 - Титул, присваиваемый патриархами.] с соизволения благочестивейшей царицы Натальи Кирилловны призывает Государеву думу на общий совет об избрании на царство царя и государя всея России.
Кончив речь, патриарх опустился на место, за ним расселись по своим местам и прочие члены Государевой думы. Наступило молчание. На лицах видны были самые разнообразные ощущения – и тревожного опасения и удовлетворенной надежды, ясно сквозившие через напускную боярскую сановитость.
Никому не хотелось высказываться первым.
Наконец заговорил боярин Иван Михайлович Милославский.